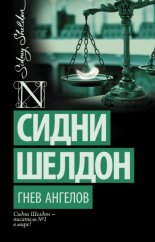Вдовий плат (сборник) Акунин Борис
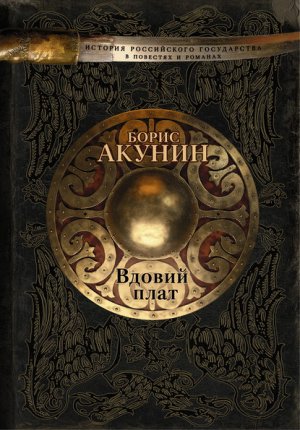
© B. Akunin, автор, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016
* * *
Вдовий плат
Роман
Часть первая
Идет гроза – разувай глаза
В Крестах
В Крестах-сельце было, месяца ноября в десятый день.
Утром по Московской дороге примчали верховые, человек десять, все на больших, не способных для мирного дела конях, собою нарядные, в багряных с прозолотью кафтанах, только сильно грязные от осенней расхлябицы. Старший, в шапке с волчьим хвостом, крикнул старосту. Тот уж и сам бежал от дома, стряхивая с бороды крошки (время было завтрашное).
– Гостебная изба есть? – спросил сверху волчий хвост, не дослушав величания.
– Как не быть, коли положено. – Староста впопыхах не захватил чем покрыть голову и мял порожнюю макушку ладонью, пытаясь угадать, что за люди и какой от них ждать беды. – А как же. В порядке содержим. Две дороги через нас идут, одна с Пскова на Вологду, другая с Верху на Низ, потому и зовемся – Кресты…
– Кто снизу, а кто сверху, это вы, куры новгородские, скоро спознаете! – непонятно чему ухмыльнулся верховой. – Давай, давай! Показывай!
Гостебная изба, в которой останавливались торговые люди, гонцы или если ехал кто важный, была большая, но ветхая. Высокое крыльцо скособочилось под гнилым шатерцом, ступеньки промялись.
Староста семенил за быстро шагающим по горницам хвостатым (шапку не снял, ирод, на икону не перекрестился):
– Сейчас велю подмести, прибрать, сенца свежего на пол, печь растопим, отдохнете с дорожки…
Брезгливо наморщив нос на прыснувших со стола мышей, волчий человек выскочил обратно во двор, где ждали остальные.
– Встать кругом, никого не подпускать! – Старосте приказал: – Обеги село, скажи, чтоб из домов носа не высовывали. Сам вернись сюда к крыльцу. Жди.
Прыгнул с земли, по-татарски, в седло – и помчал назад, в низовую, то есть московскую сторону, только брызги грязи из-под копыт.
Спросить кто таков, почему распоряжается, староста и не подумал. Кресты были село пуганое. А и что спрашивать? Чей Низ, известно – великого князя, и ехать с той стороны кроме какого-нибудь большого московского человека, дьяка, а то и боярина, было некому.
Четыре года назад, когда между Низом, Москвой, и Верхом, господином Великим Новгородом, случилась большая война, так же вот налетели с Московской дороги великокняжеские татары, наделали делов: дома пожгли-пограбили, кто не успел спрятаться – мужиков поубивали, баб попортили, теперь вон татарчата по селу бегают.
Обходя дома, староста кричал одно и то же: «Москва едет! Хоронись!»
И с задней стороны бежали к лесу молодые бабы с девками, а хозяева набыстро прятали в тайники ценное. Село стояло на месте неспокойном, но бойком и жило сытно, грех жаловаться.
Через четверть часа в Крестах сделалось тихо. Оставшиеся боялись по домам, глядели через щелку в сторону Московской дороги.
Невеликое время спустя оттуда выползла серая змея: высунула голову на верхушку холма, спустилась на поле, вытянулась.
Староста волновался у крыльца, глядел из-под руки.
Никак войско? Неужто снова война?
Но, разглядев за кучкой всадников возки и телеги, десятка три или четыре, выдохнул. Обоз или караван.
На всякий случай встал на колени и прихваченную во время обхода шапку сдернул. Однако никто важный, кому земно кланяться, из подъехавших возков не вышел. Полезли слуги в одинаковых зеленых кафтанах, будто горох из порвавшегося мешка. Что-то разгружали, тащили, развертывали.
Только раз староста понадобился – спросили, где колодец и чиста ли в нем вода. Зачерпнули, попробовали – показалась нехороша. Потащили бочонок со своей водой.
Ух ты! На ступеньки крыльца лег длинный красный ковер, растянулся прямо по грязи, до самой дороги. Юркие зеленые люди, перебрехиваясь суетливым, акающим московским говором, волокли в дом еще ковры, тяжелые сундуки, резные скамьи, кресло с высокой спинкой.
Другие, в багряных кафтанах, с двухголовой золотой птицей на спине, у каждого на боку сабля, поехали вдоль улицы, что-то выглядывая или проверяя.
Старосте снова стало тревожно. Что ж это будет-то, Осподи? Кого с Москвы несет?
Однако приехали с другой стороны, сверху, от Новгорода.
Переваливаясь из рытвины в рытвину, через Кресты прыгал кожаный короб на широких колесах, весь залепленный грязью. По бокам рысила шестерка конных холопов.
Староста подивился: осенью, по разбитому пути в колымагах никто не ездил, только сухим летом или зимой, на полозьях, а осенью и весной – верхами.
Но разъяснилось.
Один холоп соскочил, снял с задка деревянный стул, поставил на землю; двое других, дюжих, открыли дверцу, приняли на руки тучного старика в шелковой шубе, усадили. Старик оказался калека, а стул непростой, на малых колесцах: толкнули сзади – покатился.
Человека этого в Крестах видали и прежде, езживал. Большущий боярин, наместник от великого князя при Господине Великом Новгороде – Борисов Семен Никитич, кто ж его не знает. Ноги у него недужные, не ходячие, зато руки загребущие. Это он со всех новгородских пятин для московского государя положенную дань собирает, зорко доглядывает.
Земно кланяясь московскому боярину, староста незаметно перекрестил живот. Ну, если всё готовлено для Борисова – оно ничего, нестрашно. Борисов – привычный, почти что свой, лютого зла не сделает.
Однако наместник, на старосту даже не взглянувший, тоже был беспокоен. Приподнимался на своем калечном стуле, тянул шею в сторону Московской дороги. Подрагивали жидкие усы, тряслась растрепанная желто-серая борода, росшая странно – пучками в обвод одутлого лица.
– Здесь ставьте! – крикнул Борисов слугам. – Поверните только. Как цыкну – сымайте меня под руки, и на коленки! Вон туда, там почище. И мягко ставьте, черти, не с размаху.
Тут все загудели:
– Едут, едут!
Староста обернулся вслед за остальными – Осподи-Сусе!
Московскую дорогу будто накрыла туча. По обе стороны, широко, ехали всадники, а по шляху все разматывалась, разматывалась лента из повозок, да конных, да пеших, и не было ей конца.
Только теперь догадался староста, кто это. Обмер: неужто сподоблюсь, своими глазами увижу? Самого великого князя Ивана Васильевича?
Нет, не сподобился. Глянул по сторонам главный над зелеными слугами человек – длиннобородый, грозный – и велел:
– Убрать этого! Больше ненадобен!
Схватили старосту за шиворот, отволокли от двора, поддали пинка – катись, чтоб духу не было.
* * *
Сначала понаехали багряные, очень много – до полутысячи. Слезли с седел, встали вдоль всей улицы сплошным частоколом, по обе стороны.
Потом приблизился одинокий всадник, казавшийся великаном – он был непомерно долговяз, смирный старый конь под ним огромен.
Вся длинная колонна в Кресты не вошла, да она в селе и не разместилась бы – сотни повозок, тысячи людей и лошадей. Встали лагерем прямо в поле, споро и привычно.
Достигнув ковровой дорожки, чудо-всадник не торопился спуститься на землю. Он вообще был нескор. Сначала осмотрел всё вокруг, взглядом вроде бы скользящим, но внимательным. Человек был не сказать, чтоб молодой, но и совсем не старый – будто без возраста; не красавец, но и не урод; борода не длинная и не короткая, острая; нос слегка хрящеватый, но не горбатый; лицо, лишенное всякого выражения, привыкшее скрывать чувства. Кроме высокого роста единственной приметной чертой великого князя была сильная сутулость, придававшая Ивану Васильевичу неуловимое сходство с черепахой, готовой чуть что спрятать голову в панцырь.
Главный зеленый слуга, сняв шапку, гибко кланялся плешью до земли, а разгибаясь, повторял:
– Пожалуй, государь, отдохнуть-покушать… Пожалуй, государь, отдохнуть-покушать…
Ничего вокруг не упустив, коротко задержав взгляд на коленопреклоненном наместнике, но даже не кивнув ему, сутулый наконец перекинул через седло журавлиную ногу, оперся о макушку конюха, ступил на ковер.
Уже на крыльце, не оборачиваясь, сделал назад вялый жест рукой. Кому следует – поймет.
И смотревший в спину государю наместник понял. Цокнул – холопы под мышки подхватили его, тоже понесли в дом, но только до ступенек. Там Борисова приняли двое багряных богатырей и легко, словно мешок с соломой, поволокли дальше.
В гостебной избе будто побывал чародей – махнул волшебной палочкой и превратил убогую конуру во дворец. Закопченные стены и щелястые двери прикрылись висячими узорчатыми тканями, на полу заиграли многоцветьем персидские ковры, скамьи взгорбились подушками, стол устлался бархатной скатертью, а перед ним высилось резное сандаловое кресло.
Князю подали умыться – лили подогретой водой из серебряного кувшина в серебряный таз. Вот он вытер лицо, руки, бритую по-татарски голову, не глядя кинул полотенце и лишь тогда посмотрел на наместника, посаженного к столу, на скамью. Но опять ничего не сказал.
Стольничьи отроки – все гололицые, зеленокафтанные, почти неотличимые друг от друга – бесшумно подавали кушанья. Каждый ведал своим делом: один, востроносый и гибкий, с несказанной ловкостью разметал тарелки, будто сами вылетавшие из его руки. Другой раскутал горячие пироги-калачи и красиво разложил печеное мясо, курятину, красную рыбу. Третий зажурчал сбитнем: из хрустального поставца ровнехонько в край кубка. Казалось, это скатерть-самобранка готовится потчевать дорогого гостя, а помогают ей сказочные три-молодца-одинаковых-с-лица.
Они быстро исполнили свою работу и так же быстро куда-то исчезли, будто растаяли. Но государь не ел – ждал, пока всё испробует кравчий. Тот – сосредоточенный, строгий – откусил понемножку от каждого куска, пригубил сбитня. Проверенное клал Ивану под правую руку. Князь смотрел на еду голодно, даже сглотнул слюну, но ни к чему не притронулся. Нужно было полчаса ждать – не начнутся ли у пробователя колики, не приключится ли рвота. Вот кравчий, утирая губы, вышел вон, молиться за государево и свое здравие.
Великий князь терять время попусту не привык. Полчаса перед трапезой у него всегда отводились для какого-нибудь важного разговора.
Князь рассматривал наместника Борисова, тот слегка ежился, но глаз не отводил – Иван Васильевич в слугах украдливости не любил, и глядеть на государя полагалось истово, честно.
– Ну, Семен, сказывай. Сначала про главное, – наконец разомкнул уста владыка московской земли. Голос у него был очень тихий. Такой бывает у людей, которые твердо знают, что каждое сказанное ими слово будет жадно уловлено.
Наместник обошелся без приветствий-величаний, зная, что великий князь в беседе с глазу на глаз суеречия не терпит.
– За четыре года, что ты не был в Новгороде, государь, у нас там… у них там, – на ходу поправился Борисов, – многое поменялось. Про то, как ты их кровью поучил, новгородские помнят, но наука им впрок не пошла. Раны свои они зализали, сызнова забогатели, зажирели, замноголюдели. Новгород – он ведь что ящерица, взамен старого хвоста быстро нарастает новый. За своих убитых при Шелони, за казненных бояр, за пожженные деревни, за отрезанные носы новгородцы Москву ненавидят люто.
– Не повторяй известное, про что раньше доносил, – недовольно перебил Иван. – Про литовских любителей говори. Что нового?
Боярин заговорил быстрее:
– Плохо, государь. Косит Новгород на литовскую сторону. Московские доброжелатели, кто за тебя стоит и со мной дружбу водит, повседневно опасаются за жизнь и имущество. На Славенском конце две улицы были наши, всегда на вече за нас кричали. Теперь умолкли. Бояр, кто за Москву, вече приговорило к «потоку». Это когда врываются на двор и всё грабят дочиста. Сам степенной посадник Василий Ананьин распоряжался погромом.
– Что, поубивали верных мне людей? – нахмурился Иван.
– Нет, государь, в Новгороде не убивают. В Новгороде грабят. Они как считают? У кого денег нет, тот неопасен. Если ты разорен – ты никто. Живи себе, кому ты страшен. И всяк потому за свое добро трясется. Нет больше на Славне твоих сторонников, государь. Потеряли мы Славну.
Князь подвигал вверх-вниз кожей на лбу.
– Славна – это который из концов? Запамятовал я за четыре года, а мне это сейчас нужно понимать.
– Дозволь, государь? – Наместник взял половинку разрезанного кравчим яблока. – Вот он, Новгород. Сверху вниз поделен надвое рекой Волхов. Посередке проходит Великий мост, соединяющий левую сторону, Софийскую, с правой, Торговой. На Софийской стороне, вот где семечка, ихний кремль, называется Град. Там сидит владыка-архиепископ, собирается Господа, совет вышних людей. А еще Софийская сторона поделена на три конца. – Борисов провел ногтем по мякоти. – Наверху – Неревский конец, под ним – Загородский, внизу – Людин. На правой, Торговой стороне, происходит великое вече и стоит Вечевая изба. Тут два конца: сверху – Плотницкий, внизу – Славенский. Вокруг всего города Острог – вал со стеной и башнями, но Новгород тянется и дальше, разросся посадами во все стороны. В пяти внутренних концах боле шести тысяч дворов, а сколько в посадах – Бог весть, не считал никто.
Иван смотрел и слушал внимательно. Спросил:
– Сколько всего народу в городе и посадах?
– Тыщ шестьдесят, а то и восемьдесят. Другого столь великого города ближе Рима иль Царьграда нет.
Великий князь вздохнул. В Москве людей было вдвое меньше.
– Ладно. Про степенного посадника сказывай. Враг мне Василий Ананьин? Опасен?
– Враг-то враг, да не в посаднике дело. Что посадник? Одно прозвание, настоящей власти у него нет. Про Новгород что понимать надо? Там не так, как на Москве. У нас твоя милость – государь, ты и правишь. Бояре тебе служат, их жены по теремам сидят, не видно их и не слышно. А у новгородских женок обычай иной, вольный. Вот есть в Новгороде владыка-архиепископ, есть степенной посадник и степенной тысяцкий, есть кормленый князь – войско водить, есть Совет Господ, есть Великое Вече, есть купеческие товарищества, да у каждого конца свой посадник, да у каждой улицы выборной староста, а правят всей этой махиною, истинно правят, не мужи бородатые-череватые, а три бабы. Зовутся они – «великие женки». Там сейчас говорят: Земля на трех великих китах стоит, а Новгород – на трех великих женках. Одна – Марфа Борецкая, другая – Настасья Григориева, третья – Ефимия Горшенина. Это они меж собой решают, кому выбираться в степенные, что решать вечу, куда Новгороду поворачивать – к Москве или к Литве. У каждой женки свое прозвище. Марфу зовут Железной, потому что она как топором рубит. Настасью – Каменной, она крепче стены стоит. Ефимию – Шелковой. Эта обхождением ласкова, стелет мягко, но удавку на шею накинет – дух вон. Кабы великие женки стояли заодно, Новгорода было бы никакой силой не взять. Очень уж у них денег много. Можно любое войско нанять, любых союзников купить. Но на твоей милости выгоду Марфа Железная с Настасьей Каменной издавна враждуют, а Ефимия Шелковая тоже свои кружева плетет. Как не было меж ними четыре года назад, перед той войной, единства, так и теперь нет. Будто три змеищи – то переплетутся, то расшипятся, перекусаются. И город тоже на части разламывается.
Князь облизнул узкие губы, следя за сыплющимся в стеклянных часах песком – мера была получасовая. Когда весь песок высыплется, пора приступать к трапезе.
– Не повторяй мне, Семен, что в грамотках многажды писывал. Скажи лучше, которую из великих женок на мою сторону оборотить можно? Знаю, что не Борецкую: я у ней после Шелонского боя сына казнил. Из других двух кто нам пригодится? Думал ты про это?
– Думал, государь. Как не думать? Гляди сам. У Ефимьи Горшениной вся торговля – западная: с немцами, шведами, датчанами и даже дальше. Мы ей вовсе не нужны, Ефимия и духу московского не выносит. Иное дело Настасья Григориева. Баба она хитрая, лукавая, и веры ей, конечно, нету, но…
Наместник обернулся на шорох – это качнулась на сквозняке одна из узорчаты драпировок, наскоро прицепленных к потолку, чтобы скрыть от светлых государевых очей грязную стену.
Иван Васильевич оборвал боярина:
– Не мели пустое. Кому на свете вера есть? Дело говори.
– …У Григориевой торговля по большей части – низовая, русская. Настасья у нас хлеб закупает, у себя продает. А у новгородских как? Куда мошна повернута, туда и глаза смотрят.
– Ясно. А которая из трех женок сильнее? – погладив рыжеватую бороду, спросил князь.
– Марфа больше на Софийской стороне сильна, да не во всех концах. В Неревском и Загородском почти все улицы сейчас за нее. А вот в Людином конце…
Видя, что Иван косится на расчерченное ногтем яблоко, Борисов еще раз показал:
– Неревский конец – вот здесь, слева наверху. Там у Марфы Борецкой палаты, и многие ее подручники тоже там живут. Настасья обитает в Славенском конце – тут вот, внизу справа. Она на Торговой стороне сильнее. Ефимия же проживает в самой середке, в Граде, никаких улиц за собой не числит, много челяди не держит. Она чем сильна? Со всеми передними людьми в дружбе, и врагов у нее нет. К кому из двух других Шелковая примкнет, та и берет верх. Вот как оно у них, у новгородцев. Переменчиво.
Опять молчал государь, барабанил костлявыми пальцами по столу, глядел на сыплющиеся песчинки, думал.
– …В Новгороде всегда первым из первых владыка был. Как пастырь решит, так они и делали. Что преосвященный Феофил?
Наместник пожал плечами:
– Всё то ж. Ни богу свечка, ни черту хвост. Я надавлю – он за Москву. Марфа надавит – он за нее. Но ты же сам такого владыку в Новгороде хотел, бессильного…
Опять замолчали. Борисов ерзал на скамье, прел в куньей шубе, по лбу стекал пот, а вытереть рукавом было непочтительно.
– Что прикажешь своему рабу, государь? – наконец осторожно спросил он. – В Новгород ли вернуться, при тебе ли состоять? Коли вернуться, что к твоему прибытию сделать? А пуще всего скажи: как думаешь с новгородцами поступить, милостиво или строго?
Иван поднял на него тяжелый взгляд.
– Давно ты, Семен, на Москве не был. Нового дворцового обычая не знаешь. Ныне живем по-цареградски. Государю вопросов не задают. Спросит – отвечают. Запомни.
– Прости старика, батюшка, откуда ж мне было знать? – испуганно пролепетал боярин и напугался еще больше – получилось, что опять спросил.
У князя по неподвижному лицу скользнула легкая судорога – так он улыбался, и то нечасто.
– Ладно, ступай. Трапезничать буду. После скажу, как тебе быть.
Хлопнул в ладоши. Вошли двое, подняли наместника, понесли кулем прочь, а он, вися на руках, пытался обернуться и поклониться – не получалось.
Оставшись в одиночестве, великий князь наконец поел. Медленно, без разбора – что рука возьмет. Откусывал понемногу крепкими зубами и долго, обстоятельно жевал, немигающе глядя на огонек свечи. Ивану было все равно, чем утолять голод. Как только почувствовал, что сыт – есть перестал.
– Через час разбуди! – сказал он в сторону прихожей, зная, что услышат.
– Мехом накрыть, государь? – ответили из-за двери.
– Ничего не надо.
Князь пошел к лавке, скинул подушки на пол, лег на голые доски, сложил руки на груди – прямой, будто покойник. Всегда так спал, и засыпал быстро.
Когда дыхание спящего стало ровным и глубоким, из-за свисающей материи – той, что давеча шелохнулась, – выскользнула зеленая тень, шмыгнула вглубь дома.
* * *
Государь – единственный, кто отдыхал во всем огромном таборе, занявшем широкое поле перед Крестами. Воины кормили коней и наскоро обедали сами – по-походному, краюхой хлеба, луковицей или репкой, лоскутами вяленого мяса. В селе, близ гостебной избы, распоряжался голова великокняжеского позда, начальник зеленокафтанных слуг. Отдавая приказания свистящим, далеко слышным шепотом, он осмотрел всю несметную поклажу, велел что-то привязать покрепче, что-то перепаковать, указал, какую снедь приготовить к государеву столу на вечер, для большой стоянки.
У дворецкого была привычка бормотать себе под нос, чтобы ничего не забыть, не упустить никакой мелочи. Человек он был тревожного устройства, поминутно вскидывался, дергал себя за длинную бороду:
– Шатер-то, шатер! А ну как изба будет негодна? – и бежал проверять, исправно ли везут походный государев шатер, которым от самой Москвы еще ни разу не пользовались, однако тут земли были уже чужие, верховские, и поди знай.
Спохватывался:
– А дождь, дождь если? – Махал старшему постельничьему, ведавшему государевой одеждой, – близко ли уложен промасленный охабень с клобуком, укрывавший всадника от ливня с головы до стремян.
Подлетел старший стольник:
– Тихон Иванович, мой один потравился.
– С государева стола? – всплеснул руками дворецкий, и его глаза стали круглыми от ужаса.
Если кто из слуг отравился объедками с великокняжьего стола (бывало, потихоньку суют в рот – за всеми не уследишь), то это дело страшное, изменное!
– Нет, – успокоил стольник. – Говорит, в утренней деревне грибов поел соленых.
– А-а. Где он у тебя?
На обочине выворачивало наизнанку скрюченного человека.
– Ти…хон… Ива…ныч… моченьки нет, – еле выговорил страдалец, поворачиваясь к дворецкому востроносым лицом в цвет зеленого кафтана. Это был один из слуг, накрывавших государев стол – тот, что ловко метал тарелки.
– Захарка? – Дворецкий знал по имени каждого челядинца, а их под его началом числилось до трех сотен. – Ты что это, пес?
– Никак помираю… – прохрипел слуга и снова согнулся, затрясся в судороге.
– Ну и дурак. Охота жрать что ни попадя.
Тихон Иванович повернулся к стольнику:
– Кем заменишь?
– Найду, Тихон Иванович.
– Этого тут оставить. Государь близ себя хворых не любит. И куда его такого? Коли оправишься, Захарка, догоняй. А нет – черт с тобой.
Махнул рукой, пошел дальше, бурча:
– Коня ему оставить. Может, догонит… Старосте здешнему сказать, что конь государев. Этот сдохнет – чтоб коня держал исправно, не сеном кормил – овсом. Обратно поедем – заберем. Конюшему сказать, не забыть…
Час спустя всё пришло в движение. Расселись по коням статные молодцы Ближнего полка – на спинах багряных кафтанов вышит золотом новый государев знак: двуглавая птица византийских Палеологов, приданое великой княгини Софьи Фоминишны. Окружили Ивана Васильевича со всех сторон, подняли стяг, тронулись.
За ними нестройной гурьбой служивые татары, одетые кто во что, зато все на превосходных конях. Потом бояре со слугами. Потом бесконечный государев обоз. Потом две тысячи пеших ратников в толстых негнущихся тегилеях и железных колпаках. Нет, это все-таки было войско.
А когда хвост трехверстной колонны скрылся за опушкой дальнего леса, за околицу вынесся всадник и погнал через голое поле – тоже в сторону Новгорода, но не напрямую, а в огиб.
Он нахлестывал коня плеткой, вертел острым носом туда-сюда: татары, бывало, рыскали далеко от поезда, искали чем поживиться. Не дай бог заметят, от них не уйдешь.
Старый мальчонок
От Крестов до Новгорода было восемьдесят поприщ, по-московски – верст. Сильный мерин из великокняжеских конюшен мог бы пробежать это расстояние за остаток дня, даже по рыхлой ноябрьской земле, но всадник торопился лишь первые два часа, пока опасался столкнуться с татарскими разъездами. Потом он перешел на развалистый, не топотливый аллюр, почти не утомлявший вороного, и к ночи без остановки отмахал три четверти пути, до самой Мсты-реки. Отсюда до посадов оставался час-полтора рысью, да и вечер выдался лунный, не собьешься, но мнимо отравившийся затеял устраиваться на ночлег. Отыскал в поле неубранную скирду, натаскал сена, но прежде чем улечься поводил взад-вперед лошадь, накормил из мешка, дал попить. Улегся под теплый пахучий бок, натянул попону, стал смотреть на звезды, сладко позевал, уснул. Видно, ночевать под открытым небом, на холоду, востронсому Захарке было не в диковину.
Светало поздно, но стольничий отрок, кажется, никуда и не спешил. Проснулся, когда запунцовел край земли. Развел костерок, вскипятил воды из лужи, соорудил нехитрое варево: горсть сарацинского зерна, несколько волокон сушеного мяса, щепотка соли. С удовольствием съел похлебку, весело и звонко хлопнул вороного по круглому крупу, оседлал, погнал рысью.
Пунцовая полоса обманула, солнца из-за горизонта так и не вытянула. Свет, толком не разгоревшись, померк, заморосило серым дождем, но всадник накинул на плечи и шапку рогожный мешок да ехал себе, насвистывал.
Все чаще попадались деревеньки, а с пологого холма над невеликой речкой Мшашкой вдали завиднелась темная полоса. Захар приподнялся в стременах, вглядываясь: неужто уже Новгород? Тут, словно надумав разрешить его сомненья, меж облаков выглянуло солнце, пронзило дрожащий воздух золотыми копьями, ответными искрами вспыхнули купола церквей и колоколен, засветлела многобашенная стена, над нею проступила темная гребенка крыш, сверкнули нити опоясывающих город речек и стариц, в стороне заблестело широченное серебряное блюдо Ильмень-озера.
Здравствуй, Господин Великий Новгород, ох давно не виделись!
Засмеявшись и одновременно всхлипнув, всадник взвизгнул по-степному, хлестнул мерина, понесся вскачь.
Скоро началось Заполье – скопления дворов, которыми растущий город расползался по окрестным полям, вылезая за тесную границу Острога. Захар вертел головой, дивился. В его времена вон там была роща, подле нее монастырек, а боле ничего. Ныне рощица исчезла, к монастырским стенам вплотную подступили избы – получился целый посад.
Торный путь вел вдоль речки-Федоровки или Федоровского ручья – называли по-разному – прямо к башне. Ее ворота были похожи на разинутый рот, который пил-глотал дорогу вместе с тянущимися в город телегами, людьми, лошадьми. Назывались они Низовскими, потому что вели к Низу, и под бойницей, из которой торчал бронзовый хобот пушки, висела икона, список с образа Липицкой Богоматери – поминание о великой давней победе новгородского ополчения у Липицы над низовской ратью. Четыре года назад, одолев в войне, Москва велела икону снять. Сняли. А потом снова повесили. Вот вам, московские, выкусите.
Захарка на образ перекрестился, но и головой покачал. Лучше бы убрать, не дразнить Ивана Васильевича. Он ведь здесь скоро будет…
Острожная стена, опоясывавшая город, была странная: где-то деревянная, острыми дубовыми бревнами вверх, где-то каменная, и башни все разные – то высокие, пузатые, то худосочные, хлипковатые. Каждая улица, упиравшаяся в Острог, содержала свой участок укреплений на собственные средства, а улицы были одни побогаче, другие победнее, и расщедривались неодинаково.
Миновав ворота, Захарка спешился, начал хорошиться, принаряжаться. Пыльный кафтан снял, надел богатую зеленую ферязь, к шапке прицепил беличью оторочку, пыльные сапоги тщательно вытер тряпицей. Ею же, перевернув на другую сторону и смачивая слюной, умыл бритое лицо. Оно казалось юным только на первый взгляд – у глаз морщинки, в углах рта по две маленькие складки: одна вверх, другая вниз, что говорило об умении и веселиться, и задумываться о невеселом.
Осмотрев себя в серебряное зеркальце, Захарка еще расчесал волосы, капнув на них маслом из малой скляночки. Остался доволен – будто и не с дороги, не стыдно показаться. Но вдруг засомневался, нахмурил лоб. Гонец со срочной вестью, проскакавший восемьдесят поприщ, чист и свеж не будет…
Нагнулся, зачерпнул пыли, сызнова перемазал сапоги, припорошил ферязь, мазнул и по лицу. Вот так будет ладно.
Шел, однако, пока что неторопливо, с любопытством озираясь. Господи, и забудешь на Москве-то, что такое великий город!
Дома стоят тесно, бок в бок. Улица узкая – двум телегам еле разъехаться, а эта, Федоровская, еще считается широкой! Потому что земля дорога, каждый аршин стоит немалых денег. Кто собственным жильем владеет, пускай крошечным – называется «житым человеком» или просто «житым», такому открыта дорога на любую выборную должность. Если же попадается не дом, а целая усадьба с забором и двором, это богатый купец живет или целый боярин.
Тесно в Новгороде, зато чисто: ни колдобин, ни луж, ни грязи. Земли под ногами не видно. Улица мощена стесанными бревнами, по обе стороны дощатые мостцы, пешим ходить.
На Федоровской в этот утренний час было людно, своеземцы и смерды ехали на рынок торговать всякой деревенской всячиной, горожане, наоборот, шли за покупками или просто поглазеть. Кого-кого, а зевак в Новгороде всегда имелось в избытке.
Толпа здесь была совсем не такая, как московская, – Захару с отвычки это бросалось в глаза. У московских мышиная побежка, головы опущены, взгляд исподлобья, быстрый, в хребте вечная готовность поклониться. Эти же пялились кто на что хочет без опаски, морды сытые, дерзкие, походка вразвалку. И никого в лыковых лаптях, все в сапогах – вот это забылось. А потому что чисто, и кожи дешевы.
Подле бани Плотницкого конца на крылечке сидели две распаренные женки. Ясно: с утра пораньше попарились и будут париться еще, а пока вышли охолонуть, поглазеть на прохожих-проезжих. Пили морошковый квас из большущих ковшей, толстые красные щеки выпирали из-под пестрых платков.
– Глянь какой, – показала одна на Захарку, не смущаясь, что он услышит. – Старый мальчонок. Бороды нету. – И спросила, громко: – Ты чо, лущенай?
Вторая загоготала. «Лущеными» по-новгородски называли скопцов.
Захарка тоже засмеялся. Слышать гундосый, с медной носовой протяжцей новгородский говор было приятно. Это в Москве бабы – кроме гулящих – сидят взаперти, и оттого кажется, что город населен сплошь мужчинами, а в Новгороде не так: больше видны женки и девки, потому что одеваются разноцветно, весело.
– Ага, лущеный. Вы, бабоньки, меня не бойтесь, возьмите с собой в мыленку. Я вам озорства не сделаю. В уголку посижу тихо, котеночком.
Тетки закисли со смеху.
– Врешь. Глаз у тебя не котеночий – котячий. Иди, куда шел.
– Пойду. Скажите только, как найти двор Настасьи Григориевой?
– А иди по Федоровскому до моста, – показала та, что бойчей, на тянувшийся вдоль улицы ручей. – Там ступай налево, пока не дойдешь до Славной улицы, и поворачивай к Острогу. Прямо в Настасьины ворота упрешься, их издалека видно… Эй, а ты что Каменной-то? Весть какую привез? – с любопытством крикнула Захарке вдогон, но ответа не получила.
Он повел коня, как было велено, и через немалое время, пройдя мимо Немецкого двора, оказался на Славной улице, давшей название Славенскому концу.
По новгородским меркам улица была широченная, сажени в четыре. И зажиточная, сплошные заборы. Вдоль мостцов, ишь ты, высажены ветлы. Захар поразился – раньше такого не было. Ведь ни для чего, просто для лепости и летней тени! Ох, новгородцы…
Однако пора было перестать глазеть по сторонам. Впереди обозначился конец улицы: она упиралась в открытые настежь ворота.
– Ну, не плошай, – шепнул сам себе Захарка и мелко перекрестился.
До ворот оставалось недалече, но он сел на коня, вздыбил его, покрутил на месте, хлестнул раз и другой, горяча, и запустил вперед галопом. Влетел во двор лихо, с дробным топотом по мостовой. Завертелся, заозирался.
– К Настасье Юрьевне ведите! Я сто верст скакал!
* * *
Двор по новгородским понятиям был огромный, от края до края саженей в пятьдесят. С трех сторон его огораживал бревенчатый частокол, а тылом усадьба примыкала к каменной туре городской стены. Башня была мощная, нарядная, недавней кладки, с сияющей медной кровлей.
Боярский терем показался приезжему человеку драгоценным ларцом – такой он был затейный, в два жилья, с перильчатыми гульбищами наверху, с резными наличниками, с узорчатыми водостоками, с цветными окнами, с гербом Григориевых на высоком, гордом ветряке: птица-дева в зубчатой короне. Великокняжеские палаты в Кремле – громоздкие, несуразные, ветхие – поставь их рядом, выглядели бы амбарищем.
Вдоль частокола с внутренней стороны тянулись строения попроще, но все добротные, ладные. Была тут конюшня, людская, товарные склады, кухни, сенник – много чего. И всюду сновала челядь, каждый занят своим делом: кто катит бочку, кто тащит связки мехов, кто складывает на воз мучные мешки.
– Настасья Юрьевна где? Дело к ней! Важное! – еще пронзительней закричал всадник. Он ждал, что к нему кинутся, станут расспрашивать, но от работы никто не оторвался.
Только подошел пожилой, широкобородый, приказчик что ли, и спокойно сказал:
– Теща тебе Юрьевна. Коли ты к госпоже Настасье – коня сведи на конюшню, а сам поди в терем, там встретят.
Захарка был сметлив, если что не так – мгновенно исправлялся. Поняв, что здесь шуметь и выставлять себя не заведено, сразу притих.
Отдал узду конюху, на высоченное крыльцо поднялся тихо, с шапкой в руке.
В передней, откуда на три стороны вели двери, украшенные резными григориевскими девоптицами, был стол со скамьей, за столом сидел мордатый, важный муж – такого хоть в великокняжеские дьяки. Борода холеная, на две стороны, власы перетянуты кожаным снурком, над ухом торчит гусиное перо – грамотки писать, на носу серебряные колеса со стеклами. В Москве такие («очки» называются – малые очи) рубля три стоят, в цену боевого коня.
– Я к госпоже Настасье, – внушительно сказал Захарка, запомнив, что по отчеству называть боярыню не положено. – Из Москвы. От Олферия Васильевича.
Дьяк, или кто он там, не впечатлился. Щелкнул костяшкой абакуса – новой европейской придумки для торгового счета, – обмакнул перо в бронзовую чернильницу, что-то записал в свиток.
– Дело незряшное, дядя, поспеши! – повысил голос приезжий.
Строго посмотрев через очки, письменный человек пробурчал:
– Пес тебе дядя.
Но все же встал, ушел в среднюю дверь, бросив:
– Сядь, жди.
– Ишь, родни-то, – пробормотал Захарка, оставшись один и оглядываясь. – С утра сирота был, а тут и теща Юрьевна, и дядя – пес…
Был он оборотист, ушл, мало чем смущался, а тут заробел и сам с собой заговорил для бодрости. Ежился он не от богатого убранства горницы, хотя такого роскошества и в государевом дворце не видывал (стены – серебряно шитье! лари – красно дерево! пол – мозаичное травоцветие, наступить жалко!), а от мысли, что сейчас решится вся судьба. Подобраться надо было, в три глаза смотреть, в четыре уха слушать.
Сел в самый угол, на обитый сафьяном сундук, поближе к иконам. Вспомнил, что года два в церкви не был, стал шепотом молиться.
Скоро оказалось, что через переднюю горницу много кто ходит. Средняя дверь, куда скрылся стеклянноокий дядька, оставалась неподвижна, зато две другие беспрестанно отворялись-затворялись.
Сновали слуги, служанки, побегушные мальчишки, комнатные девчонки, даже старухи – и те не ходили, а семенили. Это всегда у них так или какой спех?
На сидящего в уголке человека внимания никто не обращал, а многие и не замечали. Ферязь у Захара была зеленая, и примостился он, неслучайно, под зеленой же тканой картиной: райский лес на ней с плодами-деревами, и ангелы летают. Не наша, не русская работа. У государя тоже такие картины есть, великая княгиня Софья из фряжской земли в приданое привезла. Многие осуждают: соблазн зрению.
Один какой-то человек зашел и остался. Чудной, не поймешь кто. Одет богато: саян на нем – синь атлас, сапожки – тимовые, расшиты жемчугом, а на груди, будто у младенца, пеленка кожаная, и на нее из разинутого рта свисает слюна. Сам притом – мужик бородатый.
Вот этот Захарку приметил, уставился. Глаза телячьи, с пушистыми светлыми ресницами, хлопают. На гладком лбу посередке багровая клякса – родимое пятно.
На всякий случай Захарка встал, поклонился, сделал лицом улыбку.
Чудной подошел, протянул руку – большую, но вялую. Потрогал голый Захаркин подбородок, уколол палец о вылезшую за сутки щетину, сморщился.
Захарка отшатнулся, руку оттолкнул.
– Ты чего?
Непонятный человек скривился и жалобно заплакал.
Э, да ты дурачок. Должно быть, здесь в великих домах, как в Москве, тоже держат для забавы дураков, шутов, уродов всяких.