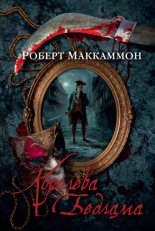Кладбищенские истории Акунин Борис

— Не попасть мне к твоим сундукам! — крикнул он в тоске. — Никак не попасть!
Крепостница удивилась:
— Да на что тебе золото, Николушка? — Но, услышав, как Чухчев мычит от расстройства, быстро прибавила. — Мне не жалко, бери. А что оно глубоко под землей и сверху, поди, палат-жилья понастроили, так это пустое. Ты ж заговор знаешь. Скажи волшебные слова, и вмиг там окажешься.
— К-какой за…заговор?! — аж заикнулся Чухчев.
— «Губы-раз, зубы-два, помогай разрыв-трава, расступись сыра-земля, дам семитник от рубля». Хороший заговор. Он и под землю пустит, и за каменную стену.
— А…а что ж ты-то тогда двести лет взаперти просидела? — проявил аналитические способности Николай. — Чем в темноте сидеть, гуляла бы себе.
— Ах, Николушка, так ведь сначала надо губы-зубы потереть, а у меня их нету, видимость одна. И рядом никого в телесности не было. Пока ты за мной не пришел. Погоди! — вдруг качнулось к Чухчеву привидение. — А откуда у тебя-то губы-зубы? Нешто ты не дух пустой? То-то я гляжу, вроде как парит от тебя, теплом несет…
«Завалился! Сгорел! Сейчас накинется!» — мелькнуло в голове у капитана, и так ему сделалось жутко смотреть в выпученные глаза чудовища, что он позабыл и про иконку, и про крашеную пулю. Да и, если честно, навряд ли они бы его спасли.
Но Салтычиха на перетрусившего Чухчева не накинулась, а только провела мерцающей рукой сквозь его щеку — будто погладила.
— Пора мне, Николушка, — сказала она ласково-преласково, и ее лицо внезапно перестало быть уродливым. — Если ты живой, это еще лучше. Живи сколько сможешь. Успеешь на зеленое приволье, тебя-то пустят, не бойся. Скажи только, сокол мой ясный, любил ли ты меня хоть сколько? Раз пришел ко мне, бабе злой и безумной, пускай через двести лет, так, может, любил?
И понял тут капитан, что ничего худого она ему не сделает. Да и вообще, часы уже начали бить полночь — сейчас привидение исчезнет. Вон оно уж поплыло, заструилось кверху.
Вполне можно было послать старушку на любое количество букв, тем более что всю ключевую информацию Николай от нее уже добыл. Но чего-то жалко ему ее стало, недоделанную.
— Конечно, любил, какой вопрос, — буркнул Чухчев и, не дожидаясь, пока Салтычиха просочится через потолок, двинул к выходу — не терпелось поскорей взяться за дело.
— Любил?! Люби-ил? — шелестел за его спиной прерывающийся голос. — Ах, счастье-то какое! Ах, горе-то какое! Ах я, кромешница, ах зверища кровавая! Что ж я с вами, девоньки бедные, понаделала? За что мучила, за что смертью извела? Нету мне прощенья!
Под эти завывания Чухчев и выскочил из подклета — как раз на последнем ударе часов.
Час спустя, с бешено бьющимся сердцем, он медленно шел вдоль серой стены массивного здания, выходящего одной своей стороной на улицу Лубянку, другой на Кузнецкий мост.
Висящая над входом камера подозрительно повернулась в сторону ночного пешехода, но, разглядев милицейскую форму, быстро потеряла интерес. Правильно все-таки Николай выбрал профессию.
«…Тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять», — досчитал капитан, остановился и сделал четкий поворот налево.
Сомнений в том, что стена раздвинется и земля расступится, у него не было. По дороге Чухчев заскочил в общежитие, чтоб поменять треуголку на фуражку, и заодно провел эксперимент: встал перед запертой на ночь дверью женского этажа, произнес волшебное заклинание и немедленно оказался по ту сторону. Можно было таким же образом проникнуть в комнату 238, полюбоваться на спящего младшего лейтенанта Лисичкину, но Николай отложил это на потом.
Так что беспокоила его не гранитная стена, а совсем другое. Дважды двунадесят саженей — это что-то типа пятьдесят метров. Вроде глубоко, но, говорят, под Фээсбухой хрен сколько подземных этажей. Что, если Салтычихин колодезь давным-давно раскопан и там теперь компьютерный зал или какой-нибудь секретный архив?
Камера снова начала разворачивать тонкую шею, и Николай решился.
«Эх, была не была, — подумал он. — Кто не рискует…» Провел пальцем по губам, по зубам, скороговоркой пробормотал заветные слова и сделал шаг вперед, в заклубившееся молочно-белое облако.
Ну, а что с ним случилось дальше, рассказать нельзя, потому что Государственная Тайна. Во всяком случае, в академию он больше не вернулся.
Вот и вся история. Остается только упомянуть об одном маленьком, но примечательном явлении природы, про которое даже поместили заметку в рубрике «Уголок метеоролога».
На одной из могил Старого Донского кладбища — вроде бы той самой, где, согласно легенде, похоронена знаменитая крепостница Салтычиха, расцвел чахлый, бледно-желтый подснежник. Это в декабре-то!
Правда, оттепель была. В отдельных районах столбик термометра поднимался до десяти градусов Цельсия.
Хаигейтское кладбище
(Лондон)
It has all been very interesting, или Благопристойная смерть
Доехать по Северной линии метро до станции Хайгейт. Долго идти по петляющим меж холмов улицам. Остановиться перед глухой темно-серой стеной.
Прежде чем войти в ворота, остановиться, перевести дух и вспомнить ту Англию, которую знаешь с детства по Диккенсу, Булвер-Литто-ну, Конан Дойлу и Голсуорси. Здесь, под густыми вязами и дубами (а впрочем, понятия не имею, как называется вся эта флора — нам, городским жителям, это ни к чему) она и похоронена, та самая настоящая викторианская Англия, которая была, правила миром и которой больше уже никогда не будет.
Самое красивое из известных мне описаний Лондона принадлежит Иосифу Бродскому:
Город Лондон прекрасен, в нем всюду идут часы. Сердце может только отстать от Большого Бена. Темза катится к морю, разбухшая, точно вена, И буксиры в Челси дерут басы.
Так вот в Хайгейтском кладбище нет ничего похожего на хрестоматийный образ — ни воды, ни звуков, ни биения сердца, ни часов, которые в этом зачарованном королевстве совершенно не нужны.
Часы здесь остановились в царствование последнего из Эдуардов или, быть может, последнего из Георгов — в общем, в те времена, когда Pax Britannica еще не распалась. С тех пор в старой, наиболее почтенной части кладбища больше не хоронят, ибо все пятьдесят тысяч участков со ста шестьюдесятью шестью тысячами захоронений заняты, и стук лопат не тревожит сон великой империи, над владениями которой (треть суши и девять десятых океана) никогда не заходило солнце.
Некрополь заполнил все свои вакансии, перестал приносить доход и кормить многочисленный штат служителей. Век кладбища закончился, и город мертвых стал умирать. Всё здесь пришло в запустение, утонуло в густых, совсем не британского вида зарослях. Сочетание чопорных надгробий и буйной растительности — порядок и хаос, пристойность цивилизации и неприличие стихии — завораживает. Хайгейт — это какие-то диковинные викторианские джунгли, невообразимая квинтэссенция киплингианства. Что-то вроде Маугли в смокинге и Багиры с турнюром на гибкой спине. Или представьте себе Сомса Форсайта в головном уборе из перьев и пышной юбке из травы.
Столь вопиющее нарушение этикета почему-то нисколько не нарушает общего впечатления благопристойности. Настоящих леди и настоящих джентльменов сконфузить невозможно, потому что они не утрачивают чувства собственного достоинства никогда и ни при каких обстоятельствах, и даже смерть не оправдание для inappropriate behavior[3]. Высшее и восхитительнейшее проявление британской благопристойности — знаменитая предсмертная фраза писательницы леди Монтегю: «It has all been very interesting»[4]. Дай Бог всякому попрощаться с прожитой жизнью столь же достойным и учтивым образом.
Кладбище было создано в 1839 году, в самом начале правления королевы Виктории, как место упокоения для приличных людей, которые могли позволить себе заплатить 10 фунтов за одинарную могилу, 94 фунта за семейную или 5000 фунтов за великолепный мавзолей. Столь высокая плата обеспечивала эксклюзивность клуба. Разумеется, от нуворишей и торгашей было не уберечься, но в викторианском обществе к деньгам относились с уважением, за выдающиеся успехи в коммерции ее величество жаловало выскочек рыцарским званием и даже возводило в пэры. А иноверцев на Хайгейте хоронили у стенки, в неосвященной земле, подальше от пристойного общества. Именно так, в дальнем углу и без креста, лежит великий Майкл Фарадей, принадлежавший к презренной секте сандеманианцев.
Сто лет назад вид ухоженного, вылизанного Хайгейта у человека с воображением наверняка вызывал тоску и отвращение. Все эти стандартные каменные урны и казенно скорбящие ангелы олицетворяли убожество фантазии покойников: членов парламента, судей, генералов, банкиров, их агрессивное стремление во что бы то ни стало, даже после смерти, не выделяться.
Но для застегнутого на все пуговицы общества жизненно необходимо некоторое, тщательно дозированное количество чудаков. Викторианская эксцентричность прославлена не меньше, чем пресловутая сдержанность. Не обошлось без сумасбродств (впрочем, не выходящих за рамки благопристойности) и на Хайгейте.
Британские чудачества, в общем, известны и осенены данью традиции. Самое почтенное из них — любовь к животным. Вот почему среди кельтских крестов и облупленных гипсовых Спасителей нет-нет да и вылезет каменная морда любимой собаки или кошки. Самый знаменитый из хайгейтских псов — огромный дог кулачного бойца Тома Сэйерса (1826–1865), кумира лондонской публики. Когда боксер умер, его провожала на кладбище десятитысячная толпа, а во главе траурной процессии в гордом одиночестве ехала в карете любимая собака покойного. От Тома Сэйерса на памятнике только профиль, собака же высечена в полный рост.
Да что собака! На могиле владельца зверинца Джорджа Вумвелла (1788–1850) дремлет его любимый лев Нерон, славившийся при жизни благоразумием и мирным нравом, да к тому же наверняка принесший своему хозяину немало прибыли.
Еще причудливее смотрится проявление признательности придворного живодера мистера Джона Атчелера, который велел установить на своей могиле изваяние коня — в обязанности покойного входило умерщвлять состарившихся или выбракованных обитателей королевских конюшен. И вот призрак этих несчастных холстомеров сто пятьдесят лет стоит над скелетом своего убийцы и всё стучит, стучит каменным копытом в крышку его гроба. Так ему, Джону Атчелеру, и надо.
Как люди-чудаки своими выходками расцвечивали монохромность викторианского общества, так и надгробья-чудаки оживляют серый город мертвецов. Именно эти немногочисленные скульптурные безумства — нелепое гранитное фортепиано на могиле пианиста, тяжеленный воздушный шар на могиле аэронавта, теннисная ракетка на могиле фабриканта — заставляют посетителя вздрагивать, напоминая о том, что вокруг него тесной, невидимой толпой стоят сто шестьдесят тысяч человек, которые раньше были живы, а теперь обретаются неизвестно где и, возможно, смотрят сейчас на досужего зеваку своими умудренными тайной смерти глазами.
Впечатляют не только скульптурные безумства, но еще и надписи. Это особый вид литературного творчества, часто рассказывающий об ушедшем времени и его обитателях больше, чем сами изваяния. На хайгейтских стелах, как положено, по большей части встречаются краткие CV и приветы от родственников. А также стихи — в основном неважного, «кладбищенского» качества. Но попадаются и маленькие шедевры. Например, четверостишье, высеченное на памятнике профессора-атеиста:
- Я не был, а потом я стал.
- Живу, работаю, люблю.
- Любил, работал. Перестал.
- Ничуть об этом не скорблю.
Ни одно мало-мальски известное кладбище не обходится без знаменитостей. Когда некрополь переполняется и перестает функционировать, от бульдозера эту бесполезную зону отчуждения может спасти только магия громких имен, священных для потомства. Чем в конце концов заканчивается, понятно: цены на недвижимость дорастают до отметки, делающей сентиментальность глупым расточительством, и тогда самых прославленных покойников перезахоранивают, а всех прочих оставляют лежать, где лежали, но уже без памятников и надгробий.
Хайгейт пока еще держится — в значительной степени благодаря двум-трем именам, из-за которых кладбище непременно присутствует во всех путеводителях.
Тут есть звезды, так сказать, местного значения — те, кто был славен при жизни и совершенно забыт теперь. Например, легендарный полиглот Луи Прево, который, как явствует из надписи на памятнике, говорил «более чем на сорока языках». Или виртуоз хирургии Роберт Листон, впервые применивший наркоз и умевший произвести ампутацию ноги за тридцать секунд. Или истинный изобретатель кинематографии Вильям Фриз-Грин, славу которого похитили коварные братья-французы. Впрочем, эти могилы не в счет, им Хайгейт не спасти.
Другое дело — фамильные захоронения семейств Диккенс и Голсуорси. Эти имена способны наполнить благоговением сердце любого британского Лопахина, вырубателя вишневых садов. Беда в том, что оба титана в Хайгейте присутствуют, как теперь говорят, виртуально. Прах Чарльза Диккенса по воле королевы Виктории покоится в Вестминстерском аббатстве, а имя на хайгейтской стеле — произвол брошеной жены Кэтрин, которая пожелала хотя бы посмертно восстановить разрушенную семью.
Не верьте и надписи на могиле Джона Голсуорси. Его пепел, согласно завещанию, развеян над полями Сассекса, а здесь, на том самом кладбище, где хоронили Форсайтов, от писателя остались лишь буквы, вырезанные в граните.
Отсутствие на Хайгейте останков Диккенса и Голсуорси, пожалуй, символично. Хайгейт задумывался как кладбище не для гениев, а для надежной опоры престола, для богобоязненной буржуазии, для верхушки миддл-класса, то есть для самой английской из Англии. Тем чуднее, что главная звезда некрополя, его добрый ангел-хранитель — не англичанин, не христианин и к тому же лютый враг буржуазии.
Здесь, в новой части кладбища, похоронен основоположник коммунизма Карл-Хайнрих Маркс. Если местный муниципалитет завтра объявит, что Хайгейтское кладбище ликвидируется из-за нехватки средств, можно не сомневаться, что великий Китай и менее великая, но еще более верная марксизму Северная Корея немедленно возьмут викторианский заповедник на свое иждивение. Да и сегодня могильщик капитализма является главным кормильцем для своих соседей-эксплуататоров. Именно к нему, грозному и бородатому, приезжают делегации и индивидуальные паломники. И каждый платит кладбищу за вход.
У памятника Марксу всегда живые цветы — об этом я когда-то слышал не то на уроке обществоведения, не то на классном часе. Приехал через много лет, убедился: истинная правда[5].
Торжество немецкого иммигранта над современниками еще нагляднее по контрасту с соседней могилой — непримиримого марксова врага, философа Герберта Спенсера, который при жизни был куда славнее и влиятельнее, а теперь исполняет роль гарнира при могиле № 1 и поминается разве что в любимой хай-гейтской шутке, обыгрывающей название популярной сети универмагов: «Маркс энд Спенсер». (Впрочем, в британских некрополях парадоксальность посмертного соседства — вещь обычная. В Вестминстере, например, Мария Кровавая и Елизавета Великая лежат в одном саркофаге, хотя, как известно, первая усердно истребляла протестантов, а вторая столь же истово изводила католиков.)
Памятник Марксу, пожалуй, хорош. В нем есть и мощь, и трагизм, и энергетика, так что в памяти возникает не портрет с первомайской демонстрации, а живой человек, так драматично повлиявший на ход мировой истории и в том числе на нашу с вами жизнь.
Карл-Хайнрих был человеком сильных страстей. Рассказывали ли вам в школе, что в юности он дрался на дуэли и что над левым глазом у него остался сабельный шрам?
Что последние главы «Капитала» он писал стоя (не мог сидеть из-за фурункулов на седалище) и грозно приговаривал: «Ну, попомнит буржуазия мои чирьи»?
Что он очень гордился аристократическим происхождением жены и настоял, чтобы на визитной карточке у нее было написано: «урожденная баронесса фон Вестфален»?
Что основоположник сделал своей экономке Хелен Демут ребенка и что Энгельс, настоящий друг, объявил виновником себя? Что ради спокойствия фрау Маркс младенца отдали в чужие руки? И что теперь все трое — и Карл, и Женни, и Хелен — мирно лежат под одной плитой?
А еще здесь покоится урна с пеплом любимой дочери философа Элеоноры, которая отравилась из-за несчастной любви. Много лет этот сосуд простоял в штаб-квартире британских коммунистов, потом был арестован полицией и переместился в хранилище Скотленд-Ярда. Воссоединение с семьей состоялось лишь в 1954 году, когда Марксов переселили с одного кладбищенского участка на другой, более престижный.
Не надо было этого делать. Покой мертвых нарушать ни в коем случае нельзя. Мудрые жители древнего Китая хорошо это понимали и за вскрытие могил карали смертной казнью. Какой бы важной ни казалась живущим цель эксгумации, всё равно трогать покойников не стоит — только сделаете хуже и им, и себе.
Взять хоть Маркса. Пока коммунисты не решили его возвеличить, собрав деньги на перезахоронение и монумент, дела у марксизма были в полном порядке. Он триумфально шествовал по континентам, очаровал треть населения Земли и объединил почти всех пролетариев. Но стоило святотатственно вторгнуться в подземное обиталище Карла-Хайнриха, и на головы его последователей обрушились напасти одна ужасней другой: сначала разгром сталинизма и венгерский мятеж, потом конец Великой дружбы СССР и КНР, двух главных социалистических держав, et cetera, et cetera вплоть до полного краха коммунистической идеологии.
История Хайгейтского кладбища богата эпизодами, демонстрирующими вред и тщету эксгумаций. Скандальнейшая из них произошла в декабре 1907 года, когда из земли извлекли гроб некоего Томаса Дрюса. Невестка и внук этого торговца с Бейкер-стрит, умершего почти полувеком ранее, утверждали, что под именем Дрюса скрывался герцог Портлендский, известный чудаки мизантроп, который якобы прорыл из своего дворца подземный ход на Бейкер-стрит и в течение долгих лет имел две семьи и вел двойную жизнь: пэра-миллионера и скромного лавочника. Спор, разумеется, возник из-за права на наследство. Дрюсы десять лет судились, добиваясь санкции на извлечение гроба. Добились. И что же? В могиле лежал не герцог, а плебей. Для одних участников скверной затеи дело закончилось сумасшедшим домом, для других тюрьмой, для третьих бегством из страны. Что же до бедного, безвинно потревоженного Томаса, то у меня имеется гипотеза на сей счет, но о ней чуть позже.
Сначала поговорим о странностях любви.
Жил-был художник-прерафаэлит Данте Гэбриэл Россетти. Он безумно любил очень красивую девушку с волосами цвета испанского золота, звали ее Элизабет Сиддал. Для кружка прерафаэлитов Элизабет была богиней красоты, и почти все они запечатлели ее на своих полотнах. Самое знаменитое, растиражированное уже чуть ли не до конфетных коробок, — «Офелия» кисти Джона Эверетта Миллеса. Элизабет позировала, часами лежа в ванне, среди цветов. Простудилась, заболела чахоткой, стала медленно угасать. Умерла молодой — вскоре после того, как Данте Россетти на ней женился. Безутешный живописец положил в гроб пухлую рукопись своих стихов, посвященных любимой. Это был необычайно — до китча — красивый жест, совершенно в духе прерафаэлитизма. Но шли годы, воспоминания о любви поблекли, а кроме того Россетти решил, что он все-таки в первую очередь поэт, а не художник, и ему ужасно захотелось издать свои лучшие стихи.
Так произошла самая жуткая из хайгейтских эксгумаций. Глубокой ночью при свете костра и масляных ламп разрыли землю, открыли крышку гроба. Очевидцы говорят, что Элизабет за семь лет не истлела и лежала, всё еще похожая на Офелию. Рука в перчатке осторожно отвела в сторону знаменитые золотистые пряди, взяла листки, лежавшие близ мертвого лица, и покойницу упрятали обратно.
Вся эта история, конечно же, послужила отличной рекламой для книги. Только вот поэтической славы автору стяжать не удалось — стихи были жестоко раскритикованы газетчиками. Россетти лишился сна и покоя, весь остаток жизни терзался угрызениями совести, а когда умер, велел похоронить себя не в семейной могиле, а подальше от Хайгейта, вселявшего в него мистический страх.
Что за рассказ о кладбище без поминания жути и нежити.
Пятьдесят тысяч заросших травой и кустами могил (и ни единой живой души — во всяком случае, в старой части кладбища, куда не попадешь без сопровождающего) уже сами по себе являют зрелище неуютное. Даже в дневное время здесь царит абсолютная, противоестественная тишина. Старые деревья так тесно сдвинули свои кроны, что уже в нескольких шагах от аллеи очертания надгробий тонут в полумраке. Идешь и физически ощущаешь на себе пристальный взгляд множества глаз.
В двадцатом веке Хайгейт обветшал и одичал. Когда сюда перестали ходить люди, здесь расплодились редкие для городской черты птицы, ежи, даже лисы. Ну, птички и ежики, это ладно, нестрашно, а вот на лисицах задержимся. Мне как японисту очень хорошо известно, что лисица — зверь непростой. По-японски он называется «кицунэ» и вызывает у храбрых потомков самураев суеверный ужас. Всякому японцу известно, что кицунэ — это оборотень, который способен прикидываться человеком и выкидывать всякие кошмарные штуки. Он похож на европейского вервольфа, только гораздо хитрей и изощренней. Поэтому встреча с кладбищенской лисицей ничего хорошего не сулит. Особенно если это не обычное кладбище, а Хайгейт, где в свое время так увлекались эксгумациями.
Ну, ладно еще выплывет из-за поворота фальшивый герцог Портлендский, укоризненно потрясет седыми бакенбардами, щелкнет крышкой от серебряных часов и прошествует себе дальше. Все-таки коммерсант, солидный человек. А если из-за позеленевшего от мха склепа выглянет золотоволосая красавица с потухшими очами и тихо прошелестит: «Give me back my poems»?[6] И уж совсем жутко делается, когда представишь косматый призрак растревоженного Карла Маркса в мертвенном свете луны. Призрак бродит по Европе… Бр-р-р.
Не будем забывать и о том, что именно здесь скорее всего похоронен кровожадный Джек-Потрошитель, так и не найденный лондонской полицией. Этот кромсатель уайтчепельских проституток, судя по имеющимся уликам, принадлежал к хорошему обществу. А раз так, то где же еще ему было найти покой, если не на Хайгейте? Только вот могла ли такая душа упокоиться, хоть бы даже и после смерти?
Это еще не все.
В библиотеке Лондонской мэрии я наткнулся на книгу о хайгейтских вампирах, которые лет тридцать назад расплодились в здешних кущах. Автор книги приводит выдержки из газет, в которых говорится об оторванных головах и прокушенных артериях. Но больше всего меня впечатлило не смакование ужасов, а незатейливые свидетельства местных жителей. «Я возвращался с работы домой. Было примерно полдесятого вечера. Шел по Свейнз-лейн вдоль кладбища… Вдруг вижу — мне навстречу быстро скользит какая-то фигура, совершенно бесшумно. Я ужасно испугался. А потом гляжу — никакой фигуры уже нет…» («Хэмпстед энд Хайгейт экспресс», 20 марта 1970 года.)
Выдумки желтой прессы, думал я, сидя в светлом читальном зале. С удовлетворением прочитал в другой, более благоразумной книжке, что в семидесятые годы на кладбище стали наведываться борцы с вурдалаками — вскрыли несколько могил, пронзили сердца покойников осиновыми колами. Кто-то из гоустбастеров даже угодил за это в тюрьму. Так им, вандалам, и надо, решил я, окончательно успокоившись.
Но, попав на кладбище, я увидел, что входы в некоторые склепы старательно заложены кирпичом, и снова вспомнил нехорошую книжку. Ее автор писал, что двери нескольких особенно подозрительных гробниц замурованы.
Слава богу, я был не один, меня сопровождал туземец, местный хранитель и смотритель. Этот седовласый джентльмен, член общества «Друзья Хайгейтского кладбища», за небольшое пожертвование согласился провести меня в дальний, почти нехоженый конец некрополя. Мне хотелось побывать на могиле чудака по имени Джеймс Холмен, который, будучи совершенно слепым, отправился в кругосветное путешествие и написал книгу о том, что он слышал, обонял и осязал в заморских странах.
Показав на замурованный склеп, я игриво спросил провожатого, правда ли, что это профилактическая мера против вампиров.
Мой чичероне, до сей минуты весьма разговорчивый, вдруг замолчал. Ответил не сразу и как-то очень коротко: «Чушь. Идемте дальше».
Он как-то вдруг помрачнел, отвел взгляд. Да еще не то причмокнул, не то цыкнул зубом. Вероятно, это был английский юмор, но день клонился к вечеру, от могил веяло холодом, над камнями начинал клубиться туман…
Я огляделся по сторонам и вдруг увидел, что из-за куста на меня пристально смотрит низкорослый, коренастый старик с по-бульдожьи брыластыми щеками и дряблым подбородком. Готов поклясться, что секунду назад его там не было!
Незнакомец сглотнул, провел рукой по коротко стриженным седым волосам, его черные глаза прищурились, блеснули, и мне стало здорово не по себе.
Кое-как распрощавшись с гидом, я направился к выходу, уговаривая себя не оглядываться — в конце концов, что за ребячество! Но шаги сами собой делались все длиннее, все быстрее.
Материя первична
Мавр беззвучно двигался за бородатым мужчиной. Тот, кажется, что-то почувствовал — с каждой секундой ускорял шаг, но это были пустяки. Главное не ошибиться.
Поглядывая на пугливо вжатый в плечи затылок позднего посетителя, Мавр быстро всасывал воздух сверхчуткими ноздрями.
Русский! Это хорошо, это просто замечательно. Чудесная, аппетитнейшая нация! Вкуснее них разве что северокорейцы!
Ну-ка, ну-ка, что еще? Некрещеный. Хорошо!
Не ходит в церковь. Значит, материалист? Отлично!
Был членом Коммунистического Союза Молодежи. С 1971 до 1984-го. М-м-м, превосходно!
В невесомом скачке Мавр перелетел через каменного ангела и возбужденно чмокнул, предвкушая, как захрустят под зубами упругие позвонки, как горячими толчками защекочет нёбо кровь. Только не увлекаться, не высосать всю до донышка. Это будет глупый мелкобуржуазный эгоизм.
Многообещающий посетитель пулей вылетел за ворота и облегченно перевел дух. Пошел вдоль стены, даже принялся насвистывать. Успокоился. Ну и славно. Сейчас адреналин у него сойдет, кровь утратит горьковатость, перестанет пениться. Мавр никогда не любил игристых вин.
Он скользил над землей, отделенный от русского материалиста каменной стеной, которую мог преодолеть одним прыжком. Опыт научил: торопиться нельзя, это небезопасно. Насосешься какой-нибудь дряни, а потом мучайся.
В самом начале своей хайгейтской жизни, только-только открыв, что материя нуждается в подпитке, Мавр неосторожно напился крови первого попавшегося буржуа, сдуру прогуливавшегося вдоль кладбища поздно ночью. Последствия были ужасны. То есть, с одной стороны, гипотеза подтвердилась: процесс разложения повернул вспять и материя полностью восстановилась, но нравственно-психологический эффект поверг Мавра в настоящую панику.
Сознание раскисло, разнюнилось, подточенное гнилой филистерской моралью. Появились мысли, которыми он при жизни ни разу не задавался. Например, как он мог взять на себя такую чудовищную ответственность? Ведь понимал, что за гремучую смесь заваривает в своем кабинете. Не лучше ли было обратить свою интеллектуальную мощь на что-нибудь менее разрушительное? Разве не тошнило его всю жизнь от так называемых народных вожаков и всякого рода революционериков — жадных до власти, безжалостных, самовлюбленных? Разве он не понимал, что такое диктатура пролетариата? Не пришел в ужас от массовых расстрелов Парижской коммуны? Зачем же тогда он потратил столько лет и столько сил, чтобы приблизить кровавое торжество социалистической революции? Неужто из-за одних только фурункулов на заднице и злобы на пиявок-кредиторов?
Никогда еще ему не было так скверно. Но могучая воля возобладала над отравой буржуазности, и впредь Мавр стал разборчивей в выборе пищи.
О, беспринципность и всеядность стали причиной гибели многих, слишком многих лжематериалистов, не выдержавших испытания. Участь всех этих оппортунистов, без малейшего исключения, была печальна.
Они — те, кто верил в первичность материи и потому был привязан к ней намертво, — делились на две категории.
Во-первых, мягкотелые либералы вроде бедняжки Женни. Как он мечтал после своих похорон вновь оказаться рядом с ней, с единственным по-настоящему близким человеком, принимавшим его целиком и всё ему прощавшим. Но вместо Женни его ждали в могиле одни лишь кости.
Нет, она не могла его предать, перекинувшись на сторону идеализма, это исключено. Женни искренне верила в то же, во что верил ее супруг, она никогда не умела притворяться. И, попав на кладбище, она, конечно же, быстро почувствовала, что без притока свежего гемоглобина белковая материя скоро распадется. Но Женни никогда не стала бы пить кровь — чересчур добренькая, плюс аристократические предрассудки: как это можно — укусить незнакомого человека за шею? Вот и иссохла, превратилась в Ничто, а значит все-таки предала.
Про служанку Ленхен и говорить нечего — в землю опустили бессмысленный кусок мертвого мяса. Темная, отсталая женщина. Поди, едва умерла, сразу же кинулась к своему боженьке вымаливать прощения для герра доктора.
Вторая категория лжематериалистов — неразборчивые в средствах хапуги, пошедшие по стопам перерожденца и предателя рабочего класса Лассаля. Именно такие в двадцатом веке и погубили великое дело марксизма. Не в силах терпеть лишения и голод, они кидались на первого же посетителя и очень скоро, согласно законам диалектики, материя начинала главенствовать над их сознанием. Налакавшись классово чуждой крови, они сами превращались в добропорядочных буржуа, обрастали идеологическим жирком, начинали заигрывать с боженькой.
Пройдет пара лет — глядишь, и нет былого материалиста, в могиле осталась одна тухлятина.
Из долгожителей на Хайгейте кроме Мавра остался только Джек, но они уже больше ста лет не разговаривают и даже не здороваются. Поздоровайся с таким. Ты ему: «Good evening» — а в ответ слышишь: «Слава Люциферу!» Вот он, закономерный итог безмозглого прудонизма. Жалкие торопыги, не понимающие, что революцию не приблизишь мелкими провокациями и политическим терроризмом. Пока был жив, Джек кромсал несчастных лондонских шлюх, чтобы вызвать в трущобах погромы и народный бунт, который перерастет в анархистское восстание. Потом уайтчепельские сутенеры, не надеясь на полицию, сами выследили Потрошителя, без шума прирезали и кинули в сточную канаву — как жертву обычного ограбления. Когда новенького привезли сюда, соскучившийся по собеседникам Мавр пытался втолковать ему, что подобными методами классовое самосознание у пролетариата не пробудить. Какие приводил аргументы, какие примеры из истории! Только бисер метал. Эта свинья повадилась жрать свежую мертвечину и на этой почве быстро перековалась в сатанисты. Ох уж эти метания бунтарей из среднего класса!
Сто двадцать лет без семьи, без единомышленников, без письменного стола. Тяжело, когда дух — тьфу, не дух, а сознание — привязано к материи. Всякое было: тощие годы, тучные годы.
Начало было совсем скудное, будто и не умирал. Как всю жизнь провел в погоне за куском хлеба, так и здесь существовал впроголодь.
Смерть материалиста — явление прозаическое, Мавр ее почти что и не заметил.
Сидел дома, на Мейтленд-парк-роуд, в любимом кресле. Смотрел на огонь в камине, закашлялся. И что-то лопнуло в груди. Хотел позвать дочь, но звука не получилось. Да и рот не открылся.
Тусси сама вошла, минуты через две. Подошла, наклонилась и вдруг как закричит: «Мавр! Мавр! О Господи! Господи!»
Только услышав, как дочь в его присутствии произносит это запрещенное слово, он понял, что произошло. Никакого страха не испытал, одно любопытство. Нуте-ка, что дальше? Неужто к боженьке на судебное разбирательство? Черта с два!
Вдруг увидел комнату сверху: плачет женщина, укутанный пледом старик свесил голову на грудь, по морщинистому подбородку течет слюна (свою знаменитую бороду он обрил еще полгода назад — надоела, только сфотографировался напоследок). Мавра потянуло еще выше, к самому потолку, но он строго прикрикнул на себя: «Сознание в отрыве от материи не существует!» — и в тот же миг снова оказался в собственном теле, совершенно онемевшем и неподвижном.
Потом были похороны, преотвратные. Сколько раз он воображал, как его будут провожать в последний путь сотни тысяч пролетариев, как произнесут над катафалком пламенные речи и торжественные клятвы.
Как же!
Гроб был самый дешевый, за четыре с половиной фунта, венок такой, что лучше бы его вообще не было. На кладбище соизволили придти всего одиннадцать человек.
Правда, Генерал сказал хорошую речь. Но когда, разойдясь, крикнул, что имя и труд усопшего переживут столетия, маловер Либкнехт поморщился, а кое-кто даже усмехнулся — Мавр видел: после смерти зрение у него стало отменное, как в юные годы.
Плакала одна Тусси. Ее, дуреху, было жалко. Внезапно Мавр увидел, как она умрет: запрокинув голову, выпьет синильную кислоту, а мужчина, который обещал уйти из жизни вместе с ней, пить яд не станет. Посмотрит на корчащуюся в предсмертных муках любовницу, брезгливо скривится и выйдет. Ему умирать рано — у него есть другая женщина, помоложе и покрасивей.
Будто услышав безмолвное предостережение, дочь заревела в голос, так что конца речи Мавр толком не слышал.
Генерал первым бросил на крышку гроба горсть земли. «Бр-р-р, только не к червям, — услышал его мысль покойник. — Сначала кремация, потом прах развеять над морем, и adieu».
Старина Фридрих всегда был легкомысленным, ему не хватало настоящей твердости. Как он гордился своим воинственным прозвищем, не догадываясь, что все над ним подтрунивают. Хорош «Генерал» — неделю провоевал, а после только на лисью охоту катался, «дабы не растрачивать кавалерийские навыки». Чтобы дождаться победы пролетариата во всем мире, нужно иметь крепкие нервы и стальное терпение. Прах над морем для настоящего материалиста — непозволительная роскошь.
А ведь было время, когда казалось, что ждать осталось недолго. На смену тощим годам пришли тучные. В самом захудалом уголке буржуазного кладбища всё чаще стали появляться посетители: сначала поодиночке, потом целыми делегациями. Чахлые букетики сменились венками с лентами чудесно-сочного, кровавого оттенка, зазвучали разноязыкие речи, а потом свершилось триумфальное переселение в самый почетный квартал Хайгейта, увенчанное возведением памятника. В камне Мавр был увековечен таким, каким никогда не был при жизни: титаническим, грозным, богоподобным. Жаль, что чванный Спенсер не был материалистом и не досуществовал до этого великого дня, а то изгрыз бы свою могилу от зависти.
Десятилетие за десятилетием Мавр питался как в лучшем ресторане. Бесшумно подкравшись к одиночному паломнику или затесавшись в толпу, не спеша принюхивался, выбирал объект поаппетитней и обстоятельно, без жадности лакомился. Бывало, приложится к одному, к другому, на десерт оставит какую-нибудь социал-демократку с затуманенным взглядом. И в каждой ранке оставит немножко своей слюны, чтобы укушенный вынес с Хайгейта частицу великого Карла. То-то марксизм зашагал по миру!
Но жадные до наживы лассальянцы предали дело пролетариата. Мавр понял это, еще когда члены коммунистических делегаций обзавелись дорогими габардиновыми пальто и отрастили мясистые щеки. В их крови всё явственней ощущался привкус жира, так что она стала трудноотличимой от крови какого-нибудь банкира или брокера.
А потом случилась катастрофа.
Уже больше десяти лет Мавр существовал впроголодь. Делегации появлялись всё реже, одиночные материалисты и вовсе исчезли — теперь приходили одни туристы с фотоаппаратами, и каждому хотелось сняться, непременно держась за каменную бороду пролетарского Мессии. Последний раз по-настоящему подкрепился, когда навещали кубинские товарищи. С голодухи напился до икоты густого креольского нектара, а потом долго отрыгивал долларовые закорючки — кровь жителей Острова Свободы оказалась зараженной микробами желтого дьявола.
С тех пор прошло два месяца. За всё это время ни одного мало-мальски съедобного материалиста. Активисты местного отделения компартии, ежедневно приносящие на могилу по красной гвоздичке, не в счет. Они все кусаны-перекусаны, у них в жилах вместо крови одна Маврова слюна.
Чтобы кожа не покрылась трупной зеленью и не рассохлись суставы, приходилось подкармливаться суррогатом. Но от этого, во-первых, притуплялось рациональное мышление, а во-вторых, в сединах начинала проступать мерзкая рыжина. Еще немного — и начнешь по ночам выть на луну.
И вдруг настоящий русский! Лысый, с бородкой — совсем как тот, другой, что пришел на могилу сто лет назад с алой розой в руке. Ах, какая у него была кровь! В меру острая, с пикантной горчинкой, чуть-чуть охлажденная. Мавр сдобрил ее своими ферментами, и она вскипела, запенилась, помчалась по артериям. «Наденька! — воскликнул русский, обращаясь к своей пучеглазой спутнице. — Идем назад, на съезд! Я покажу этим импотентам и политическим п'оституткам, что такое диалектика!»
Возбудившись от сладостного воспоминания, Мавр взлетел на ограду и засеменил по ее гребню, готовый вспрыгнуть на закорки одинокому пешеходу.
Момент был идеальный: на узкой дороге, зажатой между стенами обеих половин кладбища, было пусто — ни машин, ни велосипедистов.
Последний, самый глубокий вдох перед прыжком.
Стоп! Что это за гнусный запашок?
Мавр часто-часто задвигал широкими ноздрями.
Не может быть! Строгий выговор с занесением в учетную карточку в 1982 году! Регулярная неуплата членских взносов! Спал на лекциях в Университете марксизма-ленинизма!
За кого — за кого он голосовал на выборах?
Какая гадость!
Мелкобуржуазное отребье, гнусный либералишка вроде четырежды рогатого осла Виллиха или ренегата Гервега!
Тьфу! Мавра чуть не вытошнило — он брезгливо отвернулся и зажал нос.
Надо же, чуть не напился отравы.
Беднягу зашатало, близился голодный обморок. Но тут, на счастье, Мавр разглядел под ракитовым кустом суррогат.
Взмыл в воздух, упал на тощую серо-рыжую спину и впился зубами в мохнатый затылок. Урча и выплевывая клочки шерсти, стал сосать вязкую звериную кровь. Подумал с мрачной иронией: жалко, нет Генерала, он обожал лисью охоту.
Ко всему привычная кладбищенская лисица стояла смирно — ждала, пока вампир насытится, и лишь боязливо прижимала к макушке изъеденные блохами уши.
Кладбище Пер-Лашез
(Париж)
Voila une belle mort, или Красивая смерть
Здесь чувствуешь себя Наполеоном на поле Аустерлица. Повсюду пир смерти, много бронзового оружия, картинно распростертых тел, и периодически возникает искушение воскликнуть: «Voila une belle mort!»[7]
Voila une belle cimetiere. Дело не в ухоженности и не в скульптурных красотах, а в абсолютном соответствии земле, в которой вырыты эти 70000 ям. Бродя по аллеям, ни на минуту не забываешь о том, что это французская земля, даже когда попадаешь в армянский или еврейский сектора. И если на Старом Донском кладбище в Москве возникает ощущение, что там похоронена прежняя, ушедшая Россия, то Франция кладбища Пер-Лашез выглядит вполне живой и полной энергии. Может быть, дело в том, что это главный некрополь страны, а подобное место сродни фильтру: всё лишнее, примесное, несущественное уходит в землю; остается сухой остаток, формула национального своеобразия.
Франция — одна из немногих стран, чей образ у каждого складывается с детства. У меня такой же, как у большинства: д'Артаньян (он же Наполеон и Фанфан-Тюльпан), великий магистр тамплиеров (он же граф Сен-Жермен и граф Монте-Кристо) и, конечно, Манон Леско (она же королева Марго и мадам Помпадур). Можно обозначить эту триаду и иначе, причем прямо по-французски — слова понятны без перевода: aventure, mystere, amour. Клише, составленное из книг и фильмов, так прочно, что никакие сведения, полученные позднее, и даже личное знакомство с реальной Францией уже не способны этот образ изменить или хотя бы существенно дополнить. А главное, не хочется его менять. Настоящая, а не книжная Франция — такая же скучная, прозаическая страна, как все страны на свете; ее обитатели больше всего интересуются не любовью, приключениями и мистикой, а налогами, недвижимостью и ценами на бензин. Поэтому Пер-Лашез — истинная отрада для франкофила, к числу которых относится 99% человечества за исключением разве что корсиканских и новокаледонских сепаратистов. На Пер-Лашез ни бензина, ни налогов. Недвижимость, правда, представлена весьма наглядно, но метафизический смысл этого слова явно перевешивает его коммерческую составляющую.
Если всё же говорить о коммерции, то первый участок на Шароннском холме площадью в 17 гектаров был приобретен городом Парижем у частных владельцев 23 прериаля двенадцатого (и последнего) года Первой республики, то есть в 1804 году. Кладбища, располагавшиеся в городской черте, превратились в рассадники антисанитарии, посему мэрия распорядилась перевезти миллионы скелетов в Катакомбы, а для новых покойников учредила паркообразные некрополи в пригородах.
Поначалу кладбище нарекли Восточным, но прижилось другое название, нынешнее. Оно означает «Отец Лашез» — когда-то здесь доживал свой век знаменитый Франсуа де ла Шез, духовник Короля-Солнце.
В первые годы, как это обычно и бывает, мало кто хотел хоронить дорогих родственников в непрестижном захолустье, поэтому власти предприняли грамотный пиаровский ход: переселили на Пер-Лашез некоторое количество «звезд». Начало было не вполне удачным — перезахоронение останков Луизы Лотарингской, ничем не выдающейся супруги ничем не выдающегося Генриха III, не сделало кладбище модным. Однако за что я больше всего люблю Францию — так это за то, что здесь с давних пор литература значила больше, чем монархия. Когда в 1817 году на Шароннский холм перенесли останки Абеляра, Лафонтена, Мольера и Бомарше, упокоение на Пер-Лашез стало почитаться за высокую честь. Тогда-то и было положено начало пер-лашезовскому туризму.
Двести лет здесь закапывают в землю знаменитых и/или богатых покойников, поэтому такого количества достопримечательностей нет ни в одном другом некрополе мира.
Начну, пожалуй, с той, про которую детям советской страны рассказывали в школе — со Стены Федералов. Отлично помню школьный урок истории, посвященный столетию Парижской Коммуны: «Кровавая майская неделя», версальские палачи, мученики кладбища Пер-Лашез. Вероятно, именно тогда я впервые услышал это название. Сегодня поражает не сам факт казни (в конце концов, коммунары, пока были в силе, тоже расстрелами не брезговали), а соединение несоединимого. Обычно Смерти доступ на погост закрыт. Умирают и убивают где-то там, за оградой, в большом и опасном мире, а сюда привозят лишь бренные останки, уже распрощавшиеся с душой. На Пер-Лашез же попахивает живой кровью, потому что здесь убивали много и шумно. Сначала в 1814 году, когда русские казаки перекололи засевших на холме кадетов военной школы. А потом в 1871 году, во времена Коммуны: французы несколько дней палили друг в друга, прячась между гробниц, и убили почти тысячу человек, но этого им показалось мало, и полторы сотни уцелевших революционеров были расстреляны майским утром у невысокой стенки. Теперь в этом секторе хоронят коммунистов, и венки на окрестных могилах почти сплошь красного цвета.
Никогда не видел на старинных кладбищах, у могил, которым сто или даже больше лет, такого количества живых цветов. Многих из тех, кто лежит на Пер-Лашез, помнят и любят — должно быть, именно поэтому здесь совсем не страшно и даже не очень грустно.
Вот розы, хризантемы и лилии на респектабельно-буржуазной гранитной плите, приютившей Эдит Пиаф и ее молодого мужа, греческого парикмахера, которого великая певица хотела сделать звездой эстрады, но не успела.
Моих скромных ботанических познаний не хватит, чтобы назвать всю флору, которой усыпана могила Ива Монтана и Симоны Синьоре. В этом изобилии чувствуется некоторая истеричность — у всех свежа в памяти недавняя история с эксгумацией тела Монтана. Некая Аврора Дроссар, 22 лет от роду, утверждала, что он — ее отец, и добилась-таки генетической экспертизы через суд. Покойника достали, отщипнули кусочек, но анализ ДНК факта отцовства не подтвердил, и певца закопали обратно. Жалко Монтана. Я помню его молодым, красивым и всесоюзно любимым. «Когда поет далекий друг». А еще я помню фильм «Девочка ищет отца», и поэтому ненавидимую всем французским народом Аврору Дроссар мне жаль еще больше, чем Монтана. Ему-то что, а каково теперь живется на свете ей, бедняжке?
Целая толпа людей деловито щелкают фотоаппаратами у памятника, украшенного красно-белыми букетами, по цветам польского флага. Здесь усыпальница бессердечного Шопена. Бессердечного в том смысле, что композитор был похоронен без сердца, увезенного за тысячу километров отсюда, в варшавский костел.
Главное архитектурное сооружение кладбища — мавзолей графини Демидовой, пёе Строгановой, своими размерами и помпезностью очень похожий на новорусские дачи по-над Рублевским шоссе. «Старые» русские тоже когда-то были «новыми» русскими и хотели пускать пыль в глаза. Так что ничего нового под солнцем нет, в том числе и русских; что было, то и будет. Нуворусские новориши, какими были когда-то и Демидовы со Строгановыми, со временем уяснят себе, что истинное богатство не в гигантомании, а во вдумчивости, и подлинная эффектность — та, что адресована не вовне, но внутрь.
Такова, например, усыпальница богача с почти русской фамилией Раймонда Русселя (1877–1933). Он писал стихи и прозу для собственного удовольствия, а в последние годы жизни увлекся шахматами. Похоронен один в 32-местном склепе, по числу шахматных фигур. Если поломать голову над этим мудреным мессиджем, расшифровка получается примерно такая: здесь покоится король, растерявший в долгой и трудной партии всех своих пешек и слонов, но тем не менее одержавший победу.
Много времени у меня ушло на поиски захоронений двух иностранцев, которых мало кто навещает. Я еле нашел их среди тысяч и тысяч одинаковых табличек в колумбарии. «ISADORA DUNCAN. 1877–1927. Ecole du Ballet de I'Operade Paris» и «NESTOR MAKHNO. 1889–1934». Это были особенные люди. На протяжении всей жизни обоих, каждого на свой лад, сопровождали вспышки молний и раскаты грома. Теперь затаились двумя скромными квадратиками среди тихих, безвестных современников. Тоже своего рода мессидж, и разгадать его потрудней, чем русселевский.
Главная звезда нынешнего Пер-Лашез — тоже иностранец, Джим Моррисон. Большинство посетителей приезжают на кладбище только ради этой невзрачной могилки (раньше был бюст, но его украли). От главных ворот — сразу сюда, в шестой сектор. Покрутят музыку тридцатилетней давности, покурят дурманной травы. В прежние времена, говорят, иногда и оргии устраивали, но мне не повезло — не застал. Впрочем, надолго я там не задержался, потому что в юности был равнодушен к песням группы «Дорз».
У меня был разработан свой маршрут, собственная иерархия пер-лашезовских достопримечательностей.
Я двигался с запада на восток и начал с четвертого сектора, где лежит Альфред де Мюссе. Не то чтобы он относился к числу моих любимых писателей; на его могилу меня влекли любопытство и еще подобие родственного чувства. Из всех деревьев я безошибочно идентифицирую только березу и в описаниях природы обычно руководствуюсь не зрительным образом, а звучанием. К примеру, пишу что-нибудь вроде: «ольхи и вязы закачали ветвями», хотя понятия не имею, как они выглядят, эти самые ольхи с вязами, и вообще растут ли бок о бок. Неважно — правильно составленные звуки создают свой собственный эффект. Вот и Мюссе, кажется, был того же поля ягода. Распорядился, чтоб над его могилой посадили плакучую иву — на памятнике даже высечена красивая эпитафия о том, как легкая тень скорбного дерева будет осенять вечный сон поэта. Да только откуда на сухом холме взяться ивам? Я пришел, удостоверился: ива есть, но чахлая. Сразу видно — не жилица. Сколько же их, бедных, загубили тут садовники за полтора-то века, и всё из-за нескольких красивых строчек. Мне как литературоцентристу эта мысль приятна.
С четвертого участка — на соседний пятьдесят шестой (нумерация на Пер-Лашез какая-то странная, скачущая), взглянуть на могилу Раймонда Радиге (1903–1923), умершего от скоротечной тифозной лихорадки. Перед тем как заболеть, вундеркинд сказал Жану Кокто таинственную фразу, которая много лет не дает мне покоя: «Через три дня меня расстреляют солдаты Господа». Откуда он знал? Кто ему сказал? Давно подозреваю, что писательский дар заключается не в умении выдумывать то, чего нет, а в особенном внутреннем слухе, позволяющем слышать тексты, которые уже где-то существуют. И самый гениальный из писателей — тот, кто точнее всего записывает этот мистический диктант. Я постоял над ничем не примечательной могилой, прислушался. Ничего особенного не услышал.
Перешел в сектор 49, где покоится другая тайна под именем Жерар де Нерваль, благородный безумец, повесившийся на уличной решетке январской ночью 1855 года. Мраморная колонна, увенчанная скучнейшей античной урной, напоминает восклицательный знак, а должна была бы изображать знак вопросительный.
Он прожил жизнь свою то весел, как скворец, То грустен и влюблен, то странно беззаботен, То — как никто другой, то как и сотни сотен… И постучалась Смерть у двери наконец. …Ах, леностью душа его грешила, Он сохнуть оставлял в чернильнице чернила, Он мало что узнал, хоть увлекался всем, Но в тихий зимний день, когда от жизни бренной Он позван был к иной, как говорят, нетленной, Он уходя шепнул: «Я приходил — зачем?"
(Ж. де Нерваль «Эпитафия». Пер. В.Брюсова)
«Ну и зачем же?» — спросил я у колонны. «Придет время, узнаешь», — ответила она, и я, вполне удовлетворенный ответом, отправился дальше, на 47-й участок, к Оноре де Бальзаку.
Туда меня влекла не тайна, а давнее сочувствие. Помню, как подростком читал у Стефана Цвейга про толстого, одышливого писателя, всю жизнь тщетно гнавшегося за богатством, любовью и счастьем; как негодовал на расчетливую графиню Ганскую, измучившую этого большого ребенка многолетним ожиданием и давшую согласие на брак, только когда Бальзаку оставалось жить считанные месяцы. И вот он приготовил для невесты роскошное жилище, и поехал жениться в Бердичев, и женился, и написал в письме: «У меня не было ни счастливой юности, ни цветущей весны, но у меня будет самое сверкающее лето и самая теплая осень». Потом привез надменную супругу в Париж, всё лето мучительно болел, а до осени так и не дожил. Эвелина Ганская пять месяцев была женой живого классика, потом 30 лет вдовой мертвого классика, и еще 120 лет лежит с ним под одной плитой.
От бальзаковского бюста, спереди очень похожего на шахматного коня, рукой подать до 86-го и 85-го участков. Там находятся еще два надгробья, входивших в мою обязательную программу.
Первое меня разочаровало. Бесстрастная черная плита. На самой узкой из граней — чопорные золотые буквы «Marcel PROUST 1871–1922». Взгляду задержаться не на чем. Я-то представлял себе нечто родственное прустовской прозе: причудливое, избыточное и вязкое, предназначенное для долгого и вдумчивого созерцания. Увы, вдумываться тут не во что. На первый взгляд. А постояв минуту-другую, начинаешь понимать, что черный мрамор — это не про гениального писателя, а про странного, нелюдимого человека, проведшего последний период жизни в добровольном затворничестве, отгородившегося от внешнего мира плотными шторами и звуконепроницаемыми панелями. Великий писатель интересен и значителен не как личность, а как сочинитель текстов, правильно расставляющий на бумаге слова. И всё лучшее, главное, что нужно про писателя знать, сказано в его книгах. Человека же и тем более его могилу рассматривать незачем. Ну, человек как человек, могила как могила.
Несколько пристыженным нарушителем чужой приватности я перешел на соседний участок, и настроение мое переменилось. Все-таки истинные литераторы не прозаики, а поэты, подумал я, рассматривая затейливые письмена на могиле Вильгельма-Аполлинария Костровицкого, более известного под именем Гийом Аполлинер. Во-первых, поэт обходится гораздо меньшим количеством слов, а стало быть, удельный вес и смысл каждой буквы во много раз больше. А во-вторых, для того чтобы оценить гений иноязычного стихотворца, необходимо сначала в совершенстве овладеть его языком, то есть изучить сложнейший, многокомпонентный код; иначе придется верить на слово чужеземцам. Гибель человека по имени Аполлинер затерялась крошечной песчинкой в двойном урагане смертей: поэт умер в последние дни Первой мировой войны от испанки, которая унесла куда больше жизней, чем все Вердены и Марны вместе взятые. Но его могила ничего не рассказывает про страдания и умирание плоти, на камне тесно высечены слова, слова, слова: сначала регулярными шеренгами четверостиший, потом каллиграммой, в виде сердечка. Я даже не стал вчитываться в это стихотворное послание, его смысл был мне и так понятен: вначале было Слово, и в конце останется только Слово, и будет тьма над бездной, и Дух Божий станет носиться над водой.
Покончив с обязательной программой, обходом литераторских могил, я почувствовал себя свободным и пустился в бессистемное плавание по аллеям и тропинкам, чтобы ощутить вкус, цвет и запах Пер-Лашез — его букет. Тогда-то и выкристаллизовалась упомянутая выше триада, обаятельная формула французскости: aventure, mystere, amour.
Воздух aventure — не столько даже «приключения», сколько именно «авантюры» — для этого кладбища естественен и органичен, ибо слишком многое связывает Пер-Лашез с именем великого авантюриста, взлетевшего из ничтожества к вершинам славы и могущества, а затем низвергнутого с пьедестала на маленький пустынный остров. Этот некрополь был создан в год коронования Наполеона; впервые обагрился кровью в год падения Корсиканца; во второй раз был расстрелян в год окончательного краха бонапартизма. Здесь похоронены женщины, которых любил или, во всяком случае, обнимал император: актрисы мадемуазель Жоржи, мадемуазель Марс, канатная плясунья мадам Саки и «египтянка» Полина Фурес, прекрасная графиня Валевска. Здесь лежат почти все наполеоновские маршалы. Бонапарту в час его грустной кончины, в полночь, как свершается год, следовало бы приставать на воздушном корабле не к высокому берегу, а к Шароннскому холму. Усачи-гренадеры его бы не услышали, потому что им на респектабельном кладбище не место, они спят в долине, где Эльба шумит, под снегом холодной России, под знойным песком пирамид. А вот маршалы — и те, что погибли в бою, и те, что ему изменили и продали шпагу свою — непременно откликнулись бы на зов, вылезли бы из пышных усыпальниц, блестя золотыми галунами, и выстроились под простреленным штандартом с буквой N. А мадемуазель Ленорман откинула бы серую крышку своей гробницы, расположенной неподалеку от главного входа, и предсказала этому великолепному воинству блестящие победы и красивую смерть.
Но воспоминание о знаменитой сивилле, напророчившей маленькому южанину невероятную судьбу, — это уже из области mystere. Из всех паломнических потоков именно этот, взыскующий эзотерических таинств, на Пер-Лашез самый полноводный — куда там любителям литературы, продолжателям дела Коммуны и даже почитателям Джима Моррисона.
Мавзолей Лиона Ривайля (1804–1869), более известного под именем Аллан Кардек, сплошь покрыт цветами и окружен тесным кольцом верующих. Основателя спиритического учения о перерождении духовной субстанции сегодня помнят только в двух странах: во Франции и в Бразилии, но зато как помнят! И если во Франции Кардека воспринимают как мистического философа, то в огромной южноамериканской стране он почитается новым мессией, пророком религии, насчитывающей миллионы последователей. Перед усыпальницей Кардека молятся по-португальски и кладут записки на французском, благоговейно прикасаются к плечу бронзового бюста. Я видел целую очередь из алкающих чуда — конечно, не такую, как в прежние времена перед мавзолеем Ленина, но зато и лица у богомольцев были не любопытствующими, как на Красной площади, а сосредоточенно-взволнованными. На памятнике написано: «Родиться, умереть, снова родиться и беспрестанно совершенствоваться — таков закон».
Продолжение этой вполне буддийской максимы можно прочесть на стеле Гаэтана Лемари, ученика Кардека: «Умереть означает выйти из тени на свет». По-ихнему, по-спиритски, получается, что мы, гуляющие с фотоаппаратами по солнечным дорожкам, на самом деле бродим во тьме, а покойники, лежащие в земле, под прогнившими досками, купаются в лучах ослепительного сияния. Значит, всё самое интересное и чудесное у нас впереди? Что ж, неплохое учение.
Надгробие оккультиста Папюса, которого наши отечественные историки изображают не иначе как шарлатаном и мелким жуликом, тоже всё в цветах. Очевидно, во Франции Жерара Анкосса (таково его настоящее имя), «великого магистра Ордена мартинистов», оценивают иначе. Для России Папюс — всего лишь одно из предраспутинских увлечений императрицы Александры Федоровны. Это он устроил пресловутую встречу Николая II с духом венценосного родителя. Сибирский Старец (которого Папюс терпеть не мог и от влияния которого всячески предостерегал царя) совершенно затмил дипломированного французского шамана. А между прочим, Папюс еще в 1905 году предсказал русскому императору его трагическую судьбу, но пообещал оберегать Романовых, пока будет жив. Умер на исходе 1916 года. Впрочем, как и Распутин. Верить в мистическую взаимосвязь событий или нет? Находясь на Пер-Лашез, веришь.
Особенно когда меж могильных плит проскользнет тощая пер-лашезская кошка, которых здесь, согласно путеводителю, проживает около сотни. Они бесшумны, стремительны и не вступают с людьми ни в какое общение. Может быть, только со служителями, которые их кормят? Или они сами кормятся, жрут каких-нибудь там воробьев? Кошки, в отличие от собак, существа из ночного, зазеркального мира. На кладбище им самое место. Однако на Пер-Лашез я попал в марте, и кошки вели себя самым что ни на есть мартовским образом. Поначалу этот диссонанс с окружающей декорацией забавлял, вызывая в памяти картину «Всюду жизнь», но потом я вдруг подумал: а ведь это не случайно — блудливые кошки и сладострастные завывания из кустов. Тогда-то я и заметил главное из звеньев пер-лашезовской триады, amour.
Пер-Лашез — некрополь любви, во всех смыслах этого многоцветного явления: и грустном, и романтическом, и комичном, и непристойном.
На всяком кладбище, даже очень старом, всегда ощутим острый, трагический аромат разорванной любви — когда смерть отрывает любящих друг от друга. Пер-Лашез хранит множество печальных и красивых историй этого рода.
Вот статуя полководца Бартелеми Жубера, замертво падающего с коня на следующий день после свадьбы. Их было несколько, молодых гениев революционных войн, и каждый мог стать императором. Самый яркий из всех, 29-летний Гош, скоропостижно умер; 30-летнего Жубера сразила при Нови пуля суворовского солдата. А генерал Бонапарт, который должен был пасть на Аркольском мосту или в Египте, уцелел. Почему? Бог весть. Он стал великим, развелся с любимой женщиной и женился на нелюбимой, отрастил брюшко и умер от рака желудка. Жубер же остался в памяти потомков вечным молодоженом, женихом смерти.
Гробница наполеоновского министра Антуана де Лавалетта напоминает о другой любовной драме, пожалуй, еще более душераздирающей. После Ста дней граф де Лавалетт ожидал в камере расстрела. Накануне казни к нему на последнее свидание пришла жена и поменялась со смертником одеждой. Он вышел на свободу, она осталась в темнице — романтический трюк, который в литературе был использован множество раз, а в настоящей жизни почти никогда. Только концовка получилась неромантичной. Самоотверженную графиню оставили гнить в каменном мешке, и она сошла там с ума. Отсрочка смерти (судя по датам на памятнике, протяженностью в 15 лет) досталась Лавалетту слишком дорогой ценой.
А другая любящая женщина, жена Амедео Модильяни, на следующий день после его смерти выбросилась из окна. Ее не остановила даже девятимесячная беременность. Все трое — и муж с женой, и их нерожденный ребенок — лежат под неприметным камнем на 96-м участке. Подобные истории, как и двойные самоубийства влюбленных, волнуют особенным образом, вне зависимости оттого, сколько прошло лет. Что это было, думаешь ты: победа Смерти над Любовью или, быть может, наоборот?
Но кладбище Пер-Лашез вырыто в земле Франции, страны галантной и легкомысленной, где трагедия — не более чем тучка на краю небосвода, которой не дано расползтись на всё небо. Долго лить слезы из-за горестной любви вам здесь не удастся, потому что во Франции от возвышенного до игривого всего один centimetre, а от телесного верха до телесного низа и того меньше.
Соединение любви и смерти, оказывается, бывает и комичным — в жанре черного юмора.
Прекрасное бронзовое надгробье президента Феликса Фора (1841–1899) у незнающего человека вызывает благоговение: государственный муж лежит в обнимку со знаменем республики. Oh Captain, my Captain! Voila une belle mort! И прочее. Однако у современников, осведомленных о том, что его превосходительство скончался в объятьях любовницы, эта аллегория должна была вызывать совсем иные ассоциации. Шутка со столетней бородой: «Президент Фор пал при исполнении обязанностей».
Другая бронзовая фигура, тоже возлежащая, смешивает высокую трагедию и скабрезность еще более пикантным образом. Общественный скандал 1870 года: известный буян и головорез принц Пьер Бонапарт застрелил юного журналиста Виктора Нуара, который посмел доставить его высочеству вызов на дуэль. В похоронах жертвы монархического произвола приняли участие 100000 человек, это событие стало громовым раскатом, предвещавшим скорое падение Второй империи. Растроганный скульптор изобразил прекрасного юношу с предельной достоверностью: вплоть до каждой складочки на одежде. То ли из-за этого самого натурализма, то ли не без задней мысли (Нуар имел репутацию сердцееда) ширинка статуи довольно заметно оттопыривается. Должно быть, поначалу это меньше бросалось в глаза, но через сто с лишним лет бронзовая выпуклость выделяется нестерпимым сиянием. Дело в том, что памятник стал объектом языческого поклонения для бесплодных или страдающих от безответной любви женщин — они приносят Нуару цветы и истово гладят магическое место. Рассказывают, что некоторым помогает.
Этот сюжет окончательно перемещает нас в область телесного низа, но тут уж ничего не поделаешь: обойти эту деликатную тему молчанием означало бы отцензурировать, выхолостить ауру Пер-Лашез. Целый ряд достопримечательностей кладбища так или иначе связан с мужским детородным органом — с его чрезмерным присутствием, как в случае застреленного журналиста, или же, наоборот, с его многозначительным отсутствием.
Прах романтических возлюбленных, Абеляра и Элоизы, был перенесен сюда в начале XIX века и погребен в помпезной готической усыпальнице. Как известно, разгневанный опекун Элоизы покарал сладкоголосого соблазнителя и оскопил его, сделав физическое единение любовников невозможным. Абеляру и Элоизе пришлось принять постриг, и вновь они оказались на одном ложе лишь семьсот лет спустя, по воле скульптора.
Еще одно оскопление, тоже акт оскорбленного благонравия, был свершен над крылатым ангелом (вернее, полуангелом-полусфинксом, потому что у ангела не бывает половых признаков, а у сфинкса не бывает крыльев), которым украшена могила Оскара Уайльда, место паломничества гомосексуалистов. По слухам, самые отчаянные из мужеложцев умудрялись вскарабкиваться на постамент и совокупляться с каменным чудищем, вследствие чего оно и было подвергнуто кастрации. Впрочем, паломников это не отвратило. Монумент весь испещрен отпечатками напомаженных губ, у подножия сложены груды любовных записок, адресованных Уайльду. Через сто лет после смерти Оскара любят куда более пылко, чем при жизни. Вот и получается, что plaisirs damour[8] иногда бывают подолговечней, чем chagrins d'amour[9],которые продолжаются всего лишь toutela vie[10],подумал я и прицелился фотокамерой в черного кота, пристроившегося слизнуть помаду с колена бедного сфинкса.
Когда, вернувшись в Москву, напечатал снимок, никакого кота там, разумеется, не было — лишь прозрачная тень на камне.
Дай мне поцеловать твои уста
- Луны не видно в мертвом небе,
- В зерцале черных вод, —
продекламировал Паша Леньков, высунувшись из укрытия и внимательно оглядев Аллею Иностранцев, Погибших За Францию.
Тихо, темно, пусто. Два с половиной часа назад ушел последний посетитель, сорок три минуты назад прошуршала поливалка, десять минут назад прокатил на велосипеде обходчик.
— Кротик, пора, — махнул Леньков напарнику. И снова процитировал из «спонсора», в последнее время образовалась у Паши такая привычка:
- Семь звезд мерцают в мертвом небе,
- Семь звезд в ночной воде.
Было время, когда третий этап работы повергал его тонко чувствующую душу в тоску и ужас. За несколько дней до операции Леньков терял аппетит и сон, начинал глотать успокоительные таблетки. Но потом что-то в нем переменилось. Нервная дрожь не ушла, но теперь это был скорее трепет экстаза, своего рода адреналиновая эйфория. Грудь раздувалась, вдыхая ночной кладбищенский воздух (о, ни на что не похожий аромат глухой тайны и нежити!), пульс делался звонким и дерганым, что твое пиццикато, а шаг пружинистым, невесомым. Одна беда: пребывая в этом состоянии, Паша делался невыносимо болтлив. Сам это чувствовал, но не мог с собой справиться.
До 89-го дивизьона добрались за пять минут, двигаясь параллельно Круговой аллее, где раз в полчаса, согласно инструкции, должен был проезжать кто-нибудь из ночной охраны.
Леньков драматическим шепотом читал монолог Саломеи в переводе Бальмонта. Напарник, как обычно, молчал, зорко поглядывая по сторонам.
Один раз из кустов, прямо под ноги, шмыгнула черная кошка, и Паша чуть не заорал, но Крот молниеносным движением дал ему локтем под дых, и вместо крика получился сдавленный всхлип.
Когда Леньков отдышался, были уже на месте.
Сфинкс был похож на огромного хищника, приготовившегося к прыжку. В свете фонаря памятник казался высеченным изо льда.