Земля Елизаров Михаил
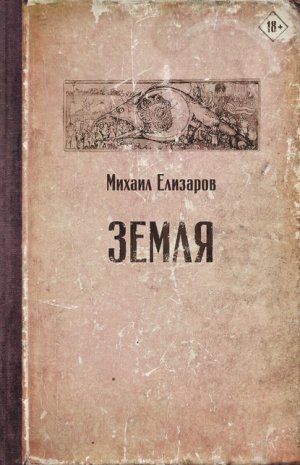
© Елизаров М.Ю
© ООО “Издательство АСТ”
* * *
Земля пахнет родителями.
А. Платонов
Нет стариннее дворян, чем садовники, землекопы и могильщики; они продолжают ремесло Адама.
Ты славно роешь, старый крот!
У. Шекспир, “Гамлет”
Родился я в городе Суслов, ныне Алабьевск. Город был тогда полузакрытый, с каким-то военным производством. Отец работал в НИИ, а мать, бывшая отцовская лаборантка, находилась в декретном отпуске.
В памяти мало что сохранилось. Помню похожий на айсберг холодильник, по которому карабкается, скользит мой карликовый взгляд. Вот игрушечный совок, в его сияющей алюминиевой полусфере нежится желток пойманного солнечного луча. За окном на проволочной петле кормушка, фанерный парфенон: крыша конусом, днище да четыре рейки-колонны. Топчется голубь пепельного окраса – косится на меня. Стол и веточка смородины в блюдце, каждая ягода точно вытаращенный голубиный глаз. Дворовые качели – пара растрескавшихся брёвен и железная труба-перекладина. Дальше изображение тускнеет, и качели уже не видятся, а слышатся: поскрипывают ржавыми петлями…
Собранные вместе, эти воспоминания составляют портрет того времени. Рамка у портрета овальная, ведь овал – фигура прошлого. Мать настолько повсюду, что её не увидать. Отец вообще находится за границами “овала”. Возможно, он гвоздь, стержень, на который прикреплён этот ранний сусловский период.
* * *
После громкого служебного конфликта мы спешно покинули Суслов. Позже мне озвучили семейную версию былой драмы. Я узнал, как отец восстал против кумовства в науке, как в неравной борьбе был повержен и оклеветан. На беду приключилось возгорание, кто-то из сотрудников лаборатории серьёзно пострадал. Всплыли вдруг и хищения, к которым отец, разумеется, не имел ни малейшего отношения. Чтобы избежать уголовной ответственности, он уволился, потеряв при этом служебную квартиру.
Сначала наша семья перебралась в Ленинград. Полгода мы прожили в общежитии при каком-то ЦНИИ. Вскоре выяснилось, что на новом месте тоже не клеится. Ещё не остывшее правдоискательство отца раздраконило институтское начальство, и мы снова бежали.
Ленинград запомнился мне гулким сумеречным коридором, похожим на исполинский пушечный ствол. В застеклённом жерле ствола брезжит бледный северный свет, я с размаху шлёпаю о клетчатый кафельный пол резиновым мячом, и по стенам звонкой блохой скачет эхо…
Потом один за другим пошли новые города. Точно неведомый враг ополчился на нашу семью, и под его натиском мы отступали, как разбитая армия. Меня эти мытарства мало беспокоили, но мать, как я понимаю, ужасно переживала от бытовой неустроенности. В Новгороде, третьем по счёту городе, который нам выпало покинуть, она даже отважилась на разнос и прокричала отцу, что ей осточертела цыганская жизнь и нужен “собственный угол”. Я, воспринимая этот “угол” как наказание, взмолился:
– Мамочка, не надо нам в угол!
Отец, уже готовый вспылить, вдруг развеселился:
– Устами младенца глаголет истина. Обойдёмся без своего угла!..
Детская память – неумелый фотограф. В этой знаменательной сцене у отца, как на скверном любительском снимке, нет головы – просто не попала в кадр. А вот мать вышла хорошо: страдальческий поворот головы, разметавшиеся волосы, выразительно заломленные руки. И снова овальная рамка. Я просто не держу других рамок – одни овалы…
Вскоре отец посадил меня и мать на московский поезд. Сам он собирался путешествовать на грузовике вместе с пожитками.
*****
Помню, как поразил моё камерное воображение детский сад, куда меня пристроили почти сразу после переезда в Москву. Просторное, даже не светлое, а пересвеченное помещение. На полу разбросаны книжки. На твёрдых, точно куски дерева, обложках изображения аляповатых животных: медвежата, зайчата. Разномастные кубики, грузовички. Кукольный лом, мамкающие калеки без рук-ног.
Меня обступили чужие дети. Воспитательница, точно наседка, откладывает квохчущие круглые слова: “Кто-о-о?.. Это-о-о?.. Тако-о-ой? Пришё-о-ол?..”
Я, заранее обученный собственному имени-фамилии, отвечаю: “Во-о-ова Кро-о-отышев”. Слышится ехидный шепоток: “У него тапочки, как у бабушки…” – я утыкаюсь взглядом в пол. Тело обдаёт жаром первого стыда. У меня именно такая – шаркающая, старушечья обувь.
Обед. Суп кишит разваренным луком и капустой. За едой надзирает толстая нянечка. У неё малиновые, как снегири, щёки. Когда она отворачивается, я вылавливаю тошную гущу, пальцами отжимаю и прячу в нагрудный кармашек. На вечерней прогулке я тайком выбрасываю слипшиеся варёные комья под куст. В какой-то из обедов меня предаёт малолетний сосед по имени Рома – мои афёры с суповой начинкой становятся всеобщим достоянием.
Поставленный нянечкой в угол, я плачу, горячее сердце бьётся прямо в подмокшем кармашке, а потом оно холодеет вместе с капустой и луком, стынет – моё сердце.
Тихий час длится целую вечность, заснеженно-белую, как потолок. Меня окружает усыпальница на четыре десятка кроватей – уложены младшая и средняя группы. Мне кажется, что все они спят мёртвым сном. Бодрствую только я. И моя бессонница больше и значительней их коллективного забытья.
*****
Тогда же появляется первое в моей жизни кладбище. Пока ещё игрушечное, точно пособие для детей младшего дошкольного возраста, – макет грядущего взрослого кладбища.
Как её звали, ту девочку?.. Лида?.. Лиза?.. Худенькая, обстоятельная, с тощими русыми косицами. В свои пять лет эта Лида-Лиза уже была настоящим знатоком похоронного дела.
Под угрюмое развлечение она отвоевала удобную песочницу. И сама выбрала тех, с кем будет играть. Не знаю, чем я ей приглянулся. В четыре года таинство погребения для меня ограничивалось считалкой про попа и собаку: “Вырыл ямку, закопал и на камне написал”. А Лида-Лиза просто подошла ко мне и сказала:
– Идём, ты будешь у нас копать.
И я пошёл. Даже не подозревая, во что ввязываюсь. А после сбежать не получалось. Лида-Лиза не отпускала. Она в совершенстве владела женским мастерством – не отпускать…
Мертвецкий контингент импровизированного кладбища был в основном народ военный – жуки-солдатики, которых исправно поставлял Лиде-Лизе её хмурый, деятельный помощник Максим. Попадались, конечно, мухи и пчёлы. Но главным покойником, украшением кладбища, был дохлый мышонок. Его погребла лично Лида-Лиза – похоронный долг и призвание оказались сильнее извечного женского страха перед грызуном, пусть даже и бездыханным.
Каждый из сотрудников кладбища был занят своим делом. Максим поставлял покойников, я копал могилы, а предатель Ромка – он тоже чем-то глянулся Лиде-Лизе – мастерил гробы из фантиков.
На памятники шли щепки, мелкие камни, стёклышки. Была приглашённая “родня” – три послушные плакальщицы из младшей группы. Они голосили заранее составленный Лидой-Лизой текст. Что-то вроде: “Ой, бедненький жучок! Почему ты не бежишь, лапками не шевелишь?!” Имелся прейскурант услуг: панихида, поминальный стол. А сама Лида-Лиза была директором игры: следила за регламентом похорон, управляла, наставляла.
На второй день после открытия кладбища она велела нам наломать веточек и обозначить границу зелёными насаждениями. Я под присмотром Лиды-Лизы прокопал водоотводы, чтобы дождь не размыл захоронения. У нас был хозяйственный блок – перевёрнутый кузов грузовичка, где хранились совок и материалы для постройки надгробий – камушки, щебёнка. За это отвечал Рома. Думаю, если бы нам позволили спички, Лида-Лиза организовала бы и постройку миниатюрного крематория.
Поначалу в нашу песочницу рвались малолетние вандалы, желавшие построить на месте мёртвого царства дороги и магистрали. Но Лида-Лиза умела так посмотреть на жизнерадостного автолюбителя, что тот с рёвом бежал жаловаться.
И вот однажды к нам пришла воспитательница – разобраться в слезах и прекратить мрачную игру. Сказала:
– Я вот сейчас ваше безобразие ногой подавлю! – занесла тяжёлую сокрушающую ступню, чтобы сравнять с песком наши могилы и склепы…
Сквозь годы я слышу крошечный Лиды-Лизин голосок. Маленький человек, пятилетняя девочка, требует уважения к смерти и праху. Говорит спокойно, с таким достоинством.
Я не помню конкретных слов, но общий смысл был именно такой – уважение к мёртвому миру! Смерть не прощает кощунства, даже если оно творится на территории игрушечного кладбища! Вот что говорила Лида-Лиза – только простыми детскими словами.
И воспитательница оторопела, отступилась. Я как сейчас вижу её багровое, точно остановленное на бегу лицо – стоп-кадр акрилового фотоовала…
Уверен, под руководством Лиды-Лизы насекомий некрополь продержался до холодов, а может, пережил и зиму. Но эти подробности мне неизвестны. В начале октября я подхватил двустороннюю свинку и до ноября пролежал в кровати. Потом в детском саду началась эпидемия краснухи. А когда зараза пошла на убыль, у отца не заладилось и с Москвой.
*****
Я научился предугадывать сроки каждого нового переезда. Примерно за полторы-две недели родители приглушёнными голосами заводили однотипный разговор. Я слышал прерывающееся слезами материно:
– Серёжа, если тебе плевать на меня, то подумай о ребёнке!..
И негодующий змеиный шёпот отца:
– Маш-ша, неуш-ш-шели ты хочеш-ш-шь, чтобы они сделали из меня посмеш-ш-шищ-ще!..
Фантазия рисовала мне бесноватый цирк, взрывы издевательского хохота: на арене, усыпанной опилками, корчится от стыда мой бедный отец, он наряжен в дурацкие цветные одежды, на лице его кричащий клоунский макияж – из него опять сделали посмеш-ш-шищ-ще…
Из Москвы мы двинулись в Белгород, где отцу предложили учительскую должность в техникуме. И снова был поезд. Наше купе находилось в конце вагона. Отец давал какие-то наставления матери, а рядом, в тамбуре, пахнущем табачным перегаром, шумно харкало невидимое существо. Мне казалось, что это Москва так прощалась с нами, смачно плевала вслед…
В Белгороде мы пробыли около полугода. Вместо детского сада меня сдали под присмотр нашей квартирной хозяйке. Если быть точным, то была не квартира, а частный дом, его половина, где жила баба Тося, у которой мы сняли комнату.
Баба Тося была уже совсем ветхая, хотя я тогда не осмысливал глубины возраста. Голубоглазенькая, лёгкая старушка. На голове светлый платочек. В моих воспоминаниях она смотрит на меня из распахнутого майского окна. Солнечная прямоугольная рамка аккуратно вписана в надгробный овал…
С бабой Тосей мне жилось хорошо. Супы она готовила без склизкой луковой гадости и, кроме того, никогда не заставляла есть через силу. Чаще всего мы играли в молчанку. Тихая забава начиналась с присказки про цыган, потерявших кошку: “Кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит слово, тот её и съест”. Мы по несколько часов кряду сидели и молчали, пока соседка не обращалась к бабе Тосе с какой-нибудь фразой и не “съедала” под наш дружный смех кошку.
Ещё баба Тося водила меня в церковь, что стояла неподалёку от её дома. Помню, мне эта церковь неизменно представлялась огромным каменным яйцом, внутри которого всегда царил сумрак, полный крошечных светляков.
Мне в церкви больше нравились изображения витязей, протыкающих чешуйчатых горынычей тонкими копьями. А баба Тося предпочитала бормотать возле скучных стариков и пригорюнившихся женщин. Время от времени я вежливо уточнял: “Поговорила?” – а баба Тося улыбалась.
Но самым главным в церкви был, конечно, Бог. Или “Боженька” – так его ласково называла баба Тося. Он мог быть голубем, младенцем, сердитым заоблачным стариком. Боженька в виде мужчины с девичьими волосами умирал в городе Киеве на кресте. Поэтому главная улица там называется Крещатик…
Я уточнял:
– Боженьку закопали? У него есть могилка?
А баба Тося отвечала:
– Нет, мой хороший. Боженька воскрес, поэтому у него нет могилки. Но однажды все, кто умерли, оживут, и боженька их будет судить…
Услышав от меня историю о боге с Крещатика, отец рассвирепел. Точно скрытый грозовыми тучами, откуда-то сверху он гневно восклицал:
– Отлично! Значит, бог есть! Да? На Крещатике? – Я, перепуганный, кивал, принимая мученический шлепок по заду. – Ну, а теперь, как ты считаешь, есть бог?!
Я слёзно выкрикивал:
– Да! Да!.. – и с рёвом бежал под мамину защиту.
Помню, отец перед сном ещё долго возмущался, собираясь устроить “старой дуре” грандиозный разнос, дескать, он не позволит развращать церковными бреднями ребёнка. Мать с трудом угомонила отца, пообещав ему поговорить с бабой Тосей.
Не знаю, проводились ли какие-то нравоучительные беседы. Уже через пару дней отец в ночных шёпотах снова помянул роковых хохмачей, желающих сделать из него “посмеш-ш-шищ-ще”. Это означало только одно – впереди маячили новые странствия.
Баба Тося умерла накануне нашего отъезда. Угасла за какую-то неделю. Глаза из ясных и небесно-тёплых сделались бесцветными, мутными. Каким-то утром от лица её отхлынула кровь, а бледная кожа налилась жёлтым воском.
Капризный, я обижался и удивлялся, почему баба Тося замирает – то посреди комнаты, то на середине строки:
– Тра-та-та, тра-та-та, мы везём с собой кота…
За день до смерти она снова оживилась, металась по дому и связывала в узлы свои вещи, точно собиралась в дорогу.
Утром мать разбудила меня, вывела во двор. Дверь в комнату бабы Тоси была открыта, я мельком увидел незнакомых старух. Двое рукастых мужчин – сосед и его сын – вносили в дом неуклюжий, стукающий о дверные косяки чёрный гроб.
Мать произнесла торжественным полушёпотом:
– Баба Тося умерла…
Может, она думала, что мне сделается страшно от этой новости. Спокойный, я обстоятельно доложил, что бабу Тосю нужно отвезти на кладбище, закопать и сделать памятник.
Сосед аж присвистнул от моих похоронных познаний. А отец, хмурясь, сказал:
– Видишь, как его покойница натаскала. Экспертом стал!.. – Хотя, если честно, мы с бабой Тосей не говорили о смерти. Это для отца религия и смерть были сторонами одной медали.
На следующее утро, перед тем как уложенную бабу Тосю навсегда вынесли из дома, сосед поймал меня за руку.
– Попрощаешься? – он указал подбородком на гроб.
Родителей поблизости не было. Я кивнул и через миг воспарил над столом и гробом.
Мне предстал чужой носатый старик, одетый в женское. Я послушно выговорил:
– До свидания… – и коснулся пальцем жёлтой щеки мёртвой бабы Тоси. Щека была твёрдой и шершавой, словно кожа бывалого футбольного мяча.
Слова “до свидания” подразумевают, что произносящий их рассчитывает когда-нибудь свидеться. Нет, я определённо не задумывался, окажусь ли однажды в загробном “там”, где среди прочих повстречаю бабу Тосю и кивну ей, как старой знакомой. На тот момент для меня не существовало категории “личной смерти”. Это уже много лет спустя мне разъяснили мои сумрачные учителя, что не энгельсовский обезьяний труд, а именно смерть сделала человека человеком, что осознание собственной смертности и является нашим настоящим рождением. Смерть принимает нас в люди.
Действительно, что не родилось, умереть не может. Ребёнок бессмертен в том смысле, что не может исчезнуть для себя, разве только для других. Я был пятилетним недочеловечком, яичным овальцем, в котором только вызревал будущий мыслящий труп. Вспоминаю наше детсадовское, песчаное кладбище. Мы обращались с мёртвыми насекомыми как с живыми предметами, которые сделались неподвижны исключительно ради нашей совместной игры – фигура на месте замри!..
Осознание личной смерти – зрелый плод. Поэтому и “умирала”, вкусив, охочая до наливной отравы пушкинская царевна. Баба Тося своей смертью не подбросила мне взрослого яда в яблоке. Я ещё долго оставался беспечным и бессмертным, то есть не верил, что однажды тоже умру.
*****
За нашими пожитками приехал грузовик. Отец посадил нас с матерью в кабину, а сам пристроился в кузове. Города закончились. Мы “докатились”, как выразилась мать, до посёлка.
Точно не помню его названия – вроде Первомайское. Там мы продержались до осени. Отец мотался по делам на дребезжащем “уазике” куда-то в район. Кем он там работал, я не знаю – но вряд ли по специальности.
А в сентябре снова появился грузовик. Я спросил у взрослых, куда мы направляемся в этот раз. Отец ограничился скупой фразой: “В один населённый пункт”.
Через несколько часов мы приехали в довольно странное место, которое и населённым-то назвать можно было только из-за нашего присутствия. Вокруг на многие километры простиралась безлюдная неухоженная пастораль. По обе стороны от дороги чернели разродившиеся пашни. Вдалеке, за облезлыми, похожими на рыбьи скелеты тополями виднелись низкие бараки – коровники или просто склады.
Дом, в котором нам предстояло жить, был одноэтажной развалюхой. Лично меня всё в нём устраивало: и низкие потолки, и скрипучий, щелястый пол, сколоченная из досок мебель: стол и лавки. Особенно впечатляла огромная, на полкомнаты, облупленная печь – прям как из сказки про Емелю. Увидев это закопчённое чудо, мать заплакала. Ведь даже у бабы Тоси было газовое отопление.
Именно тот день подарил мне первый устойчивый портрет отца. В болотного цвета ватнике он взволнованно прохаживался от дома к сараю, с трудом выкорчёвывая сапоги из топкой после ливня земли. Затем подошёл ко мне, присел на корточки. В первый раз мы рассмотрели друг друга хорошенько. У отца оказалось седое, заросшее недельной щетиной лицо. Серые глаза смотрели обречённо и устало, точно он этими самыми глазами много дней ворочал камни.
Отец с усилием подмигнул:
– Ну вот, сынок. Теперь у нас будет собственное хозяйство. Любишь курочек?..
Мне к тому времени было без малого семь лет, но как я ни старался потом воскресить более ранний облик отца, память упрямо отсылала меня к чернеющим полям, деревьям, коровникам и хате с обвалившейся дымовой трубой…
В первую же ночь мать без слёз сообщила, что уезжает вместе со мной, а отец пусть что хочет, то и делает. В ответ последовало неизменное:
– Неужели ты примкнула к тем, кто хочет сделать из меня посмеш-ш-шищ-ще?!
На этой фразе, предваряющей новые скитания, я заснул. Через утро под окном затарахтел мотором грузовик. Днём мы уже были на вокзале, а через два дня прибыли в Рыбнинск – на родину отца.
*****
Вот есть понятие “малая родина”. Край, где родился, вырос. И небеса там особенные, и воздух не такой, как везде. Всё до мелочей знакомо, дорого: улочки в тёплой каштановой зелени, стены из бурого, в щербинах, кирпича. Даже вековая лужа возле автобусного круга – и она обязательна и любима. Во дворе тучный ствол раскидистой липы давно превратился в подобие коллективной метрики – весь изрезан именами: древними, зарубцевавшимися, и свежими. Фабричный стадион без активного спорта совсем одичал, зарос лопухами, репейником. Пустырь за универмагом по-прежнему в окурках, битых стёклах. Но как же вытянулись, как повзрослели берёзки, те, что сажали когда-то всем классом в городском парке…
Если я хочу вызвать из сердечных глубин что-то исконное и родное, память услужливо предлагает Рыбнинск – вместе с картинкой букваря и хорошими товарищами из соседнего двора.
Город Рыбнинск был очень живописным, словно декорация для фильма про девятнадцатый век. Отец как-то съязвил, что Рыбнинск – это архитектурный памятник на могиле русского купечества третьей гильдии.
Центр начинался помпезным зданием с колоннами и львами, перешедшим когда-то с поста городской управы на более скромную должность краеведческого музея. От него ветвились степенные малоэтажные улицы. Затем город стремительно мельчал до крылечек, ставенок, крашеных деревянных заборов. Казалось, за очередным поворотом вдруг откроется семиструнный простор в берёзах и травах, с убегающей несмазанной тележной дорогой, с колокольней и тихим озером, которое наплакали за долгие годы многострадальные ивы. Только вместо романса про ямщика начинались районы из панельных новостроек или бетонные ограды промзоны.
Мы поселились у родителей отца. Признаюсь, я совершенно не помнил бабушки и дедушки. Когда они навещали нас в Суслове, я был младенчески мал. А потом мы колесили по стране, нигде надолго не задерживаясь, и к нам и приехать-то было некуда.
Я, конечно, не стал расстраивать бабушку Веру и дедушку Лёню ненужной правдой. Наоборот, сказал, что прекрасно их помню – как они играли со мной, как гуляли, и старики были счастливы.
Мне они очень понравились. Уже за неделю я привык к ним и полюбил так, будто мы были рядом все эти годы. Бабушка Вера носила красивые платья: с кружевными воротниками, с пышными манжетами. По квартире ходила не в тапочках, а только в туфлях. Я не припомню такого случая, чтоб у неё хоть раз были растрёпаны волосы. Мать за глаза называла бабушку Веру дамочкой, но бабушка вполне заслуживала называться дамой.
Я смотрел на деда и недоумевал, как у этого радостного, энергичного человека вырос такой невесёлый сын – мой строгий и печальный отец. Они были будто два театральных слепка одного лица, изображающего то комедию, то драму. Дед любил пробежки по утрам, выписывал целый ворох прессы, пел, когда брился, и почти всегда знал ответы в передаче “Что? Где? Когда?”.
Дом наш был дореволюционным. Мы жили на втором этаже в большой трёхкомнатной квартире. После всех съёмных закутков она показалась мне настоящим дворцом. Потолки украшал витиеватый гипсовый узор лепнины. Сохранились старые двери – широкие, двустворчатые, с латунными, в пятнах окиси, ручками. Длинный коридор напоминал музейную залу – этому впечатлению способствовали пахнущий мастикой скрипучий паркет и полотна в массивных позолоченных рамах.
Картины были словно распахнутые настежь окна. Из них открывался вид на живописные просторы: тянулись в никуда просёлочные дороги, желтели скирды, мельница, как радостное пугало, размахивала дырявыми парусиновыми рукавами. Краски были тёплыми, лёгкими, так что даже кладбище выглядело совсем не страшным.
Я частенько останавливался возле этой картины. Саркофаг и пирамидальную тумбу с крестом на ней опоясывал плющ. У подножия, покрытого бирюзовыми наростами мха, качались бледные полевые цветики. В зелени раскидистого куста тлели кроваво-красные капли волчьей ягоды. На плите саркофага скорбел ангел или херувим, но из-за выбранного художником ракурса самой фигуры видно не было, только фрагмент каменного крыла, похожий на понурое собачье ухо. Кладбищенская тропка уводила вдаль – в бесконечность крестов и надгробий. Ветер трепал прицепившийся к кованой оградке клок седенькой паутины…
Когда я поинтересовался, чья это могила, отец ответил:
– В изобразительном искусстве нередко встречается название “Портрет неизвестного”. А это “Могила неизвестного”. Или “неизвестной”.
Картины рисовал мой прапрадед, средней успешности художник, один из тех, чья фамилия обычно занимает предпоследнее место в списке какого-нибудь позабытого творческого направления. Он жил на Украине и умер в начале тридцатых годов.
Отец рассчитывал, что картины с каждым годом будут представлять всё большую художественную ценность, и собирался частичной продажей коллекции обогатить нашу семью. Помню эти разговоры, когда он, подводя финансовые итоги, часто неутешительные, ронял:
– И однажды тысяч двадцать – тридцать за картины…
Дедушка и бабушка заявили родителям, что с радостью будут возиться со мной дни напролёт. Ужаснувшись моей детской дремучести, они принялись учить меня грамоте и счёту, читали вслух сказки, водили на прогулки в парк. Особенно мне нравились наши воскресные походы в видеосалоны – там в утренние часы крутили диснеевские мультфильмы.
Так прошли зима, весна и лето. Осенью я пошел в школу и даже не заметил, что теперь моя страна называется Российская Федерация, а не Советский Союз.
С первого класса у нас проводились так называемые уроки мужества, приглашались ветераны Великой Отечественной войны, чьи пиджаки были увешаны боевыми наградами. Они рассказывали героические фронтовые истории, мы спрашивали, за какие подвиги они получили свои ордена…
А мой дедушка оказался “стыдным”. У него была одна- единственная медаль, и та за многолетний труд, каку какой-нибудь старухи. Когда я спрашивал его, почему же он не попал на фронт, дедушка, кротко улыбаясь, отвечал, что не всё решалось стрельбой, кто-то должен был работать в тылу. И я понимал, что он прав, но всё равно переживал.
В классе я по мотивам военных фильмов сочинял про героизм деда, а если учительница интересовалась, сможет ли он прийти на очередной урок мужества, мучительно врал, что дед болеет, мол, старый осколок, и тому подобную чепуху, и меня оставляли в покое.
Особенно горько приходилось на Девятое мая. Дедушка считал, что это и его праздник, цеплял свой “Доблестный труд” и тоже выходил на парад, спрашивая меня, хочу ли я пойти с ним, а я отказывался – стыдился его пустых лацканов.
Мне вспоминалось, как жена какого-то ветерана сетовала подруге, что пиджак мужа весь в дырках от черенков орденов. Старик только посмеивался, а его жирный внук поедал мороженое, что-то канючил, не понимая, какое счастье ему привалило – дед, за которого не краснеешь…
Так что я отсиживался дома, выбираясь только к торжественному салюту на Могиле Неизвестного Солдата, чтобы вместе с приятелями, как только отгремят автоматные очереди, подобрать ещё тёплые гильзы “калашниковых”.
К вечеру улицы пустели и под ногами лежали растоптанные, тронутые фиолетовой гнильцой бутоны тюльпанов и гвоздик, будто следы огромной похоронной процессии, только для вида назвавшейся парадом…
*****
Втянувшийся в кочевую жизнь отец отчаянно скучал в тихом Рыбнинске. Врагов здесь вроде бы не было, лишь постаревшие приятели детства. Самый благополучный, дядя Гриша, работал физруком. Он-то и предложил отцу устроиться к ним в школу учителем алгебры и геометрии.
Отец после Бауманки двадцать пять лет жизни посвятил газодинамике двигателей и твёрдым видам топлива, но в рамках школьной программы преподавать мог бы, пожалуй, что угодно: математику, физику, химию, географию, английский и даже астрономию. Он разбирался во всём и недаром закончил школу с серебряной медалью. (Золотую не получил только из-за козней классной руководительницы, интриганки и махровой сталинистки, заранее распознавшей в юном отце свободный дух и независимый ум.)
Поначалу перед опальным кандидатом наук, бывшим завлабом склонялись и робели директриса и завуч. Так что отец на какое-то время ощутил себя цезарем в галльской деревеньке.
Трудно поверить, но первый месяц он улыбался! С восторгом рассказывал, как славно его приняли ребята, как изумило их уважительное обращение на “вы”, взрослая институтская подача материала.
Он обманулся, принял обычное любопытство за доброе отношение. Вскоре отцу уже казалось, что ученики к нему охладели. Он искренне переживал, видя в этом происки “завистников” и “недругов”. Улыбка сошла с его лица.
Отец не учёл, что перед ним не студенты, а обычные подростки. С первого урока он пустил дисциплину на самотёк, а когда спохватился, было слишком поздно. Нового математика не воспринимали всерьёз.
Тогда отец совершил вторую ошибку – прибавил в строгости. Ученической любви это не принесло. Отец несколько раз попытался исправить ситуацию, но дружбы с классом не получалось – когда он изображал добряка, ему садились на голову. Он в отместку пуще прежнего закручивал гайки и пожинал бешеную ненависть.
Через год отец уже открыто свирепствовал. Высшим баллом у него была тройка. Однажды он пришёл домой бледный от ярости – директриса сделала ему замечание: мол, он хоть и “доцент”, а учит плохо, и все на него жалуются.
Отец взволнованно прохаживался по комнате, говорил, что уволится из школы, поминутно чиркая “посмеш-ш-шищ-щем”, как отсыревшими спичками. Мать сидела перед ним на стуле, механически кивала:
– Ага… да… да… м-м-м… да… – и лицо у неё было каким-то скучающим, ленивым.
А когда отец исчиркал весь коробок своих “посмешищ”, мать сказала… Не помню, что именно. В принципе, ничего грубого. Произнесла что-то вроде:
– Сергей, ради бога, не тошни. Иди лучше телевизор посмотри… – а потом встала и ушла на кухню. И даже не оглянулась посмотреть, что сотворили с отцом её убийственные слова.
А они сбили его с ног. Отец в этот миг напоминал нокаутированного боксёра в замедленной съёмке – когда тот, в веере кровавых брызг, раскинув руки, ещё парит между небом и рингом.
Сердцем я чувствовал, что мать поступила дурно. Раньше она не позволяла себе говорить с ним в таком тоне. Она могла кричать, шумно обижаться, плакать – но не была такой жестокой и равнодушной.
Это произошло сразу же после того, как мы разменяли наши три музейных комнаты на два скромных малолитражных жилища. Дедушка с бабушкой переехали в однушку, а нам досталась двухкомнатная квартира. Мать тогда впервые ощутила себя хозяйкой, перекрасилась из брюнетки в рыжую и показала характер.
Несколько дней отец ходил оглушённый, бормотал, что у него нет больше жены, паковал чемодан – готовился бежать в одиночку. Мать с презрительной улыбкой наблюдала за ним. Не останавливала, но и не подгоняла.
Мне было очень жаль отца. Годы спустя я понимаю, что в глубине своей неуживчивой натуры он не был ни гордецом, ни занудой, всю жизнь искал человеческого тепла и понимания, а больше всего на свете боялся оказаться в глупом или смешном положении. Этот страх, вкупе с поисками “правды”, сгубил его карьеру и поломал жизнь.
Поразительно – ведь отец был высоким и статным, без единой комичной черты. О таких в народе говорят: “представительный мужчина”. Когда-то он был другим. Бабушка Вера показывала его школьные, с обломанными уголками, снимки, гранённые временем, усечённые овалы. Вот юный отец стоит в обнимку с приятелями, на голове лихо заломленная кепка – хохочет. Вот перебирает гитарные струны, рот полуоткрыт – поёт…
На поздних фотографиях, и семейных, и для документов, отец позировал всегда с одинаковым выражением лица. Такое бывает у человека, который долгие годы несёт в себе высокую гордую беду.
Помню, как напрягалось всё его естество, если за спиной слышался чей-то смех: над кем потешаются? Во время нечастых застолий отец редко рассказывал анекдоты, никогда не танцевал. А стоило мне, малолетнему, пуститься в детский пляс или запеть, спрашивал с хмурым презрением:
– В клоуны готовишься?
Нужно ли сообщать, что отец никуда не уехал? Формальным поводом послужил сломавшийся замок на чемодане. Отец негодовал, чертыхался, что такая мелочь останавливает его, но мне и тогда было ясно, что сломалась не защёлка, а человек.
Моральная победа матери пришибла отца. Он начал стариться. Когда родители только расписались, отец не считался молодым мужчиной – ему перевалило за сорок. В моменты семейных ссор мать с горечью восклицала, как обманулась она, юная и неопытная, клюнув на представительный возраст будущего мужа.
Родители тогда частенько ругались, и во время одной из таких перебранок я узнал, что у отца давно, за много лет до нас, была другая семья, в которой имелся ребёнок – сын по имени Никита. Получалось, что где-то в другом городе проживает мой сводный брат, уже совсем взрослый.
*****
Нерастраченный педагогический задор трансформировался у отца в писательский зуд. Без малого год он истязал меня сказкой домашнего разлива: “Удивительные приключения числа 48 и его друзей”.
Почему в герои попало именно 48, а не 92 или, допустим, 31, не знал даже отец. У меня есть версия, что в момент создания сказки отцу было ровно сорок восемь. Сам отец считал, что перенёс повествование в область предельной абстракции, но в сути отцовское литературное детище по замыслу не особо отличалось от бесчисленных историй с очеловеченными карандашами или молотками. В волшебной стране Цифирии жили главный герой – доброе число 48 и его друзья. Сюжеты были однотипны – арифметические перипетии с моралью. Какое-нибудь злое число нападало на страну добрых чисел, но 48 и со товарищи, собравшись вместе, всегда побеждали. Интрига строилась на неизвестной величине отрицательной армады и обязательном предательстве какого-нибудь числа из страны Цифирии.
Вначале в батальных сценах персонажи орудовали знаками минус. Потом появился знак деления – что-то вроде оружия массового уничтожения, при помощи которого предатель уменьшал армию Цифирии. Когда отцу стало не хватать выразительных средств, он наскоро объяснил мне, что такое математический корень. После чего в одном из сюжетов уже фигурировал некий “ядовитый корешок”, который вражеский шпион подсыпал в пищу главным героям – то есть извлекал из них корень. В одной из глав доброе число 48 переживало грехопадение, становилось отрицательным, но друзья общими усилиями его духовно реанимировали, умножив на –1.
Вообще, у отца были далеко идущие планы. Историю планировалось по мере моего взросления усложнять. Возможно, к концу школы её населяли бы интегралы и дифференциалы.
По семейной легенде сказка была результатом беззаботного досуга. Первыми, кого отец приобщил к этой лжи, были наши немногочисленные гости – физрук дядя Гриша с супругой, ещё коллеги-учителя, которых отец до времени не занёс в “недруги”.
Чтобы обставить это непринуждённостью, отец приглашал и меня за стол, затем с неуклюжим “невзначай” приносил общую тетрадь. Конечно, он хотел, чтобы я сам заводил разговоры про его сказку, но я всегда был нем как могила.
В тексте присутствовали и какие-то политические аллюзии, потому что отец время от времени перемежал чтение хитрыми прищурами. Вежливые гости, все, кроме честного дяди Гриши, которому всякое сочинительство было до лампочки, понимающе улыбались, как бы отдавая должное мастерству автора, сумевшего запаковать в детский жанр дерзкую и взрослую мысль.
Потом учительница русского языка и литературы, а иногда историк, произносили ключевую фразу вечера: “Ой, это всё надо бы опубликовать”. Отец шутливо отмахивался, мол, что за глупости, пишу только для Володьки – и кивал в мою сторону.
У меня на доброе число 48 имелся даже не зуб, а клыкастая челюсть. Как часто случалось, я смотрел какой-нибудь мультфильм, а в комнату входил отец и со словами: “Нечего глаза портить!” – выключал телевизор, волок меня в другую комнату, чтобы зачитать очередную главу. Как после этого я мог относиться к отцовскому творчеству?
Несмотря на лукавые заверения, что публикации его не интересуют, отец однажды повёз-таки “Число 48 ” в Москву. Помню, как мать укладывала в чемодан бутылки с коньяком – на подарки. Из столицы отец вернулся ни с чем. За вечерним столом он талантливо передразнивал речи тупоголовых редакторш – пищал, картавил и шепелявил…
От собственной внутренней драмы отец решил драматизировать и сюжет. В очередном сражении, в результате предательства число 48 погибло, спасая родную Цифирию. Отец растроганно читал свои абзацы, ожидая, вероятно, моих криков: “О, папа, зачем?!”
Я же чёрство воскликнул:
– Наконец-то оно подохло!
Отец захлопнул тетрадь и, швырнув её на стол, вышел из комнаты. На последнем листе, под размашистым словом “КОНЕЦ” я, как умел, нарисовал могильную плиту с цифрой 48 в овале. После этой выходки отец больше недели не разговаривал со мной.
Горечь ещё долго жила в нём. Он ополчился на всю детскую литературу сразу. Однажды, застав меня за чтением волковского “Изумрудного города”, уязвлённо произнёс:
– Надо понимать, тебе по душе этот совковый плагиат “Страны Оз”.
– Пап, а что такое плагиат?
– Словарь открой и посмотри! А заодно понятия “эпигон” и “пастиш”.
Нужно заметить, это был чуть ли не единичный случай, когда отец пренебрежительно обозвал нечто советское “совковым”. К примеру, когда мать двумя годами раньше читала мне “Приключения Пиноккио”, отец с неудовольствием сказал ей:
– Маш, а чего не наш отечественный “Золотой ключик”? Зачем Володьке католическое морализаторство вековой свежести? У Толстого хотя бы просто сказка без лукавых мудрствований!
– Пап, – вступился я за обруганного писателя Волкова, – мне правда нравится.
– Ну, тогда совсем другое дело, – съязвил отец. – Я, как обычно, переоцениваю твои интеллектуальные возможности…
А учился я средне. Где-то в третьем классе забрезжила надежда, что моя вялая успеваемость как-то связана с близорукостью – это предположила наша классная руководительница, когда обратила внимание, что я щурюсь. У отца зрение было нормальное, а немощными глазами я пошёл в мать – она с юности носила очки и была похожа в них на мультяшную маму Дяди Фёдора из простоквашинской саги.
Окулист выписал мне очки, меня пересадили за первую парту, максимально приблизив к источнику материала. Отец очень уповал, что диоптрии каким-то непостижимым оптическим способом увеличат и мои скромные дарования. Но тщетно: успевал я по-прежнему плохо, особенно по точным предметам. Для отца это было дополнительным источником страданий, ведь он действительно был силён в математике, как Васин папа из шуточной детской песенки.
*****
Пока я был маленьким, отец мне ничего не дарил. Игрушки он считал глупостью, а до полезных предметов я в его понимании не дорос. Я хорошо запомнил мой девятый день рождения, на который впервые получил в подарок от отца наручные часы “Ракета”.
Наверное, мне бы больше пришёлся по душе современный кварцевый хронограф, но я всё равно обрадовался. Часы были необычные. Циферблат имел не двенадцать делений, а два-дцать четыре. То есть там, где на обычных часах в зените стояла цифра 12, на моих красовалась 24 – в таком замысловатом механизме часовая стрелка совершала полный оборот за сутки.
Я проделал гвоздиком дырку в кожаном браслете, чтоб затянуть его по руке, приложил часы к уху и сполна насладился тикающим ходом, а потом взялся за заводную коронку – выставить точное время. И замер, остановленный истошным воплем отца. Он подскочил ко мне и шлёпнул по щеке. После резко спросил: успел ли я перевести стрелки? Я ответил, что нет, а уже потом заревел – скорее от незаслуженной обиды, чем от боли. Отец с облегчением вздохнул, извинился за пощёчину и всё объяснил. Он сказал, что купил эти часы ещё до моего рождения и завёл их ровно в ту минуту, когда я появился на свет. Если быть точным, то моя “Ракета” стартовала с погрешностью где-то в пятнадцать минут. Поскольку жизнь начиналась для меня с нуля, часы тоже начали свой ход с условного начала суток в 24:00, хоть я и родился утром – по словам матери, где-то в половине девятого.
И вот с того самого момента время в этих часах шло своим, точнее, моим чередом, не стремясь совпасть с наружным, земным. Они отмеривали только моё персональное время, и вмешиваться в него категорически запрещалось. Так объяснил отец. И строго добавил, что раньше он заводил часы, а теперь это буду делать я.
Отцу показалось, что я не воспринял его слова серьёзно, и он, досадуя, второй раз треснул меня – теперь по затылку. Я снова заплакал, и отец повторил, что отныне каждое утро я должен сам заводить часы, а если вдруг позабуду это сделать, то случится нечто более неприятное, чем пощёчина или подзатыльник.
Кстати, носить часы на руке тоже запрещалось, чтоб случайно не разбить и не потерять. Им полагалось лежать в серванте за стеклом.
В этом подарке отразилась вся отцовская натура. Только он умел преподнести вроде бы нужную вещь, от которой не было никакой радости и пользы, лишь одни неприятные обязательства – словно вместо желанного щенка овчарки мне поручили досматривать старую больную диабетом пуделиху.
Я из принципа пытался приспособить часы к эксплуатации. Допустим, они показывали ровно полдень, а московское время было пятнадцать тридцать, то есть следовало прибавлять к моему биологическому ещё три с половиной часа. И при этом учитывать погрешность механизма – мои часы спешили где-то на минуту в сутки. Уже через две недели я сбивался и, чертыхаясь, отступался.
Но, очевидно, благодаря отцовскому подзатыльнику ритуал ежеутренней подзаводки часов стал для меня такой же нормой, как умывание или чистка зубов. Проснувшись, первым делом я ковылял к серванту. Отец говорил, что пружины в часах хватает на двое суток, но просил, чтобы я заводил их каждый день, в одно и то же время, потому что это “залог здоровья часового механизма”.
Отец без всяких шуток называл часы “биологическими”. Говорил, что однажды я пойму, как ими надо пользоваться, и ещё скажу ему спасибо.
Так или иначе, именно часы впервые привели меня на кладбище – спустя два года.
*****
Отец и мать старались не вздорить открыто и, наверное, поэтому решили спровадить меня куда-нибудь на всё лето, чтобы без помех выяснять отношения.
Родительский выбор пришёлся на самый обычный лагерь, бывший пионерский, путёвки в который распространяли прямо в нашей школе. Лагерь находился за городом возле водохранилища и назывался как отечественный шампунь – “Ромашка”. Первую смену забирали в начале июня – увозили на автобусах со школьного двора.
По идее, путёвки были бесплатными, но в школьной канцелярии, куда мы пришли с отцом, пояснили, что бесплатно только детям из многодетных семей. Отец из принципа устроил скандал. Грозился написать жалобу в министерство и в газету. Дошло до того, что вызвали завуча, которая продемонстрировала отцу бумагу, где действительно было написано, что путёвки “по возможности” должны быть дармовыми. А такой возможности, как добавила завуч, нет.
Мне было ужасно неловко. Я буквально шкурой чувствовал полный ядовитой неприязни взгляд нашей завучихи, похожей в своих громоздких очках одновременно на паука и на пойманную им глазастую стрекозу.
А отец словно не понимал, что мне потом учиться в этой школе. Позже я не раз слышал неодобрительные учительские шепотки: мол, это сын того самого, который скандалил.
В итоге отцу всё равно пришлось заплатить. Ему с нескрываемым злорадством отказали в трёх сменах. Уступили одну – самую первую, июньскую.
На улице отец до боли стиснул мне руку и прошипел, как упавший в воду уголёк, что я сделал из него “посмеш-ш-шищ-ще”. Ведь именно я сказал ему, что лагерь бесплатный. Мне о лагере сообщил мой одноклассник Толик Якушев. Толик как раз был из многодетной семьи.
Отдельно я получил за то, что отец не захватил из дома деньги и едва наскрёб по карманам нужную сумму. А это, по его мнению, выглядело “смешно”.
* * *
Через неделю учебный год подошёл к концу. После образовательной реформы, отменившей десятилетку, мы из третьего класса перескочили сразу в пятый.
Свежим июньским утром родители проводили меня к школе – там стоял наш автобус. Я пристроил рюкзак на задних сиденьях, заменявших нам багажное отделение, и уселся в кресло у окна рядом с Толиком Якушевым. Он-то катил в “Ромашку” на всё лето – вместе с двумя старшими братьями и младшей сестрой.
Уже в дороге я вспомнил о часах и похолодел. Верный отцовскому наказу, я благополучно оставил их на полке в серванте!
Я как ужаленный сорвался с кресла и побежал в начало салона, где сидели наши вожатые – три девушки и два парня, студенты педагогического института. Я запомнил, как звали парней – Сергей и Эдик. Они знакомились с нами в школьном дворе перед посадкой. Отец, похмыкав, назвал их “толстый и тонкий”.
Я принялся сбивчиво объяснять, что оставил дома важные вещи и мне нужно срочно вернуться в город. Толстый Сергей даже не стал меня слушать, отмахнулся, сказав, что из-за одного человека никто не поедет обратно, а тонкий Эдик иронично прибавил, что “глобус и учебник математики” мне на выходные привезут родители. И ещё шутливо добавил:
– Давай, профессор, топай на место! – и все, кто это услышал, засмеялись. Профессором он назвал меня из-за очков, благодаря которым я производил впечатление учёного мальчика, а не троечника. Я поплёлся обратно.
Что и говорить, положение было ужасное. Объяснить вожатым истинную причину своей паники я не мог – меня бы подняли на смех. По большому счёту, мне самому было странно, отчего я так перепугался. Ну подумаешь, часы! Не верил же я всерьёз, что моё благополучие напрямую зависит от их бесперебойного хода…
Остаток пути я убеждал себя, что отец, конечно же, заметит часы на полке и заведёт их сам, но отвлечься от тяжёлых дум никак не удавалось. И так обидно было наблюдать за чужой беспечностью. Все радовались дороге: весело вскрикивали, когда автобус подбрасывало на ухабах, и вместе с Эдиком, несмотря на жаркий июнь, пели “Что такое осень – это небо”. В общем, всем, кроме меня, было хорошо.
На свежевыкрашенных воротах красовалась огромная, похожая на пропеллер ромашка. Белые лопасти обсыпала черёмуха, а солнечного цвета сердцевина стала липким кладбищем для стайки обманувшихся мошек.
Сам лагерь был неплох. Одноэтажные постройки с просторными верандами выглядели так приветливо, что язык не поворачивался назвать их бараками. Под длинным навесом располагались летние умывальники, округлые вымечки из алюминия – штук по двадцать с каждой стороны.
Мальчиковый туалет – сдвоенный деревянный сарайчик – украшала роспись из условных ромашек, очевидно, в честь названия лагеря. Возможно, цветы работали оптическим ароматизатором, потому что пахло у нас лучше, чем в соседнем девчачьем нужнике, где на стенах были только божьи коровки.
Имелся летний кинотеатр с небольшой сценой – для самодеятельности. Были павильоны: ручного творчества, шахматный, музыкальный, и возле каждого торчал стенд с нарисованным пионером; судя по тому, что пионер держал – лобзик, гигантского ферзя размером с младенца или же гитару, – можно было догадаться, чего ожидать внутри павильона.
Стенды были старые, из прошлой советской жизни, как и гипсовые болваны – салютующие или со вскинутыми горнами. Да и самой пионерской организации уже лет пять как не существовало.
В лагере вовсю кипела жизнь – автобусы из других школ приехали раньше на несколько часов. Возле теннисных столиков уже собралась очередь. На асфальтированной площадке стучал баскетбольный мяч, где-то в тополиной листве то откашливался, то репетировал мелодии осипший репродуктор.
Наши автобусы рассортировали по возрастам и разделили на отряды. Меня, Толика Якушева и ещё пятерых записали в отряд, где вожатой была стеснительная, мышиной комплекции педагогическая девица по имени Света. Эдик, видимо, хорошо знал её, потому что сказал нам с улыбкой:
– Светлану Николаевну не обижать! Ясно, разбойники?..
Вместо тихого часа мы обживали нашу палату, собирали панцирные кровати, таскали со склада одеяла и подушки, постельное бельё из прачечной. После полдника пришёл мужик в белых шортах и с аккордеоном, лагерный массовик, чтобы выяснить, есть ли в нашем отряде певчие таланты. Мы тянули хором “Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь”, а массовик говорил, кому помолчать, а кому петь дальше. При этом массовик тоже пел – ему самому очень нравилась песня. На вечерней линейке начальник лагеря поздравил нас с началом смены и пожелал хорошего отдыха.






