Еврейская нота Веллер Михаил
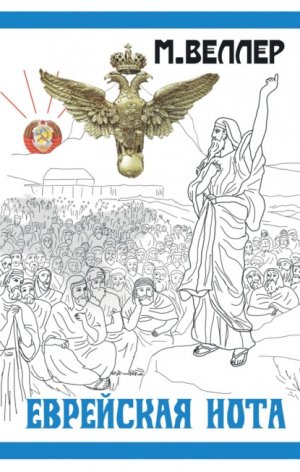
Мамин наказ
– Никогда не надо жаловаться. Наши горести обрадуют наших врагов и огорчат наших друзей.
Жид в школьной программе
Слово «еврей» в книгах попадалось советскому школьнику нечасто. И синоним. В специфическом контексте.
«Ох, проклятый жид!.. как под мышками режет!..» Лермонтов, «Герой нашего времени».
«– Перевешать всю жидову! – раздалось из толпы… …и толпа ринулась на предместье с желанием перерезать всех жидов.
Бедные сыны Израиля, растерявши все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жидовок; но козаки везде их находили». Гоголь, как вы понимаете, «Тарас Бульба».
«Входит жид. Жид: “Слуга ваш низкий”. Альбер: “Проклятый жид, почтенный Соломон…” Наше все Пушкин, «Скупой рыцарь».
Радость школьников энной национальности легко себе представить. Отрок порочного происхождения с плевком в душе постигает свое место в русской культуре.
Русская классика – наше сокровище, эталон высокой духовности. Школьная программа легализует печатное слово – оно легитимно.
…Бабеля читали только те, у кого он был дома. Единственное издание за послевоенные тридцать лет. В томике была жутковатая «Конармия» и феерические «Одесские рассказы». Там было полно как евреев, так и жидов, всех видов – от беспомощных жертв до победоносных бандитов. Это оказалась ни на что не похожая книга: евреи раскрывались в полном диапазоне от беззащитных калек до разухабистых героев, и вызывали чувства от жалостливого презрения до торжествующего восторга. Оказывается, естественный и нескрываемый (не замалчиваемый) еврей мог восприниматься с симпатией и уважением. Само собой; без ущербности и с достоинством.
Меж стихов
Мне было семнадцать, а в доме всегда были книги: много, с годами стеллажи встали во всю стену до потолка. Это было все нажитое родительское добро, они покупали («доставали») их везде и возили в ящиках из гарнизона в гарнизон.
В этом возрасте родители, сами начав самостоятельную жизнь в войну семнадцатилетними, сочли меня взрослым.
Однажды мама, мы были дома вдвоем, вытащила с полки синий томик Надсона в Малой серии «Библиотеки поэта» и прочитала вслух, как будто приоткрывая тихое напоминание:
«Я рос тебе чужим, отверженный народ, и не тебе я пел в минуты вдохновенья…» – и до конца: «Когда твои враги, как стая жадных псов, на части рвут тебя, ругаясь над тобою – дай скромно стать и мне в ряды твоих борцов, народ, обиженный судьбою».
– Вот так вот, – вздохнула она.
А после заключительного занятия у Риднера он через стол протянул мне двойной тетрадный листок в клеточку, мелко исписанный почти в столбик:
«Над Бабьим Яром памятников нет. Крутой обрыв, как грубое надгробье. Мне страшно. Мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу».
Ни автора, ни названия на листочке не стояло – ни сверху, ни в конце.
– Кто это? – спросил я, дочитав.
– Евтушенко. А ты думал, он только про стиляг и Братскую ГЭС писал?
Бабий Яр был запрещен цензурой к упоминанию. Как и Холокост вообще. Про могилы тысяч и десятков тысяч гражданского населения, даже если все убитые были евреями, установлено было писать: «Уничтоженные фашистскими палачами мирные советские граждане». С незначительными вариациями: «советские люди», «гражданское население». Могли упомянуть: «женщин, детей, стариков». Иногда могли перечислить национальности: «Тысячи советских граждан – русских, украинцев, татар, евреев, узбеков». Евреев в перечень могли включить, могли нет. Никогда не называли на первом или втором месте – даже если на тысячу евреев было трое иных.
…Чуть позднее попали мне в руки стихи опять же, без автора и названия: «И, в чужом жилище руки грея, старца я осмелилась спросить: кто же мы такие? – Мы евреи! Как ты смела это позабыть?! – …Я спрошу у Маркса и Эйнштейна, что великой мудростью сильны – может, им открылась эта тайна нашей перед вечностью вины?»
Это оказалась Маргарита Алигер. Непечатавшаяся глава из поэмы 1946 года «Твоя победа». Ходили списки, некоторые строфы не совпадали.
Медаль
Я кончал школу в 1966 году, очередная реформа: с одиннадцатилетнего обучения перешли обратно на десятилетнее. В нашей лучшей в Могилеве школе № 3 было семь выпускных классов: три одиннадцатых и четыре десятых. Двести тридцать человек.
Обе золотых медали получили евреи: Веллер и Негинский. И три из пяти серебряных: Коган, Цедик и Куявский. Еще две серебряных получили русские: Курачков и Коваленко. При том, что евреев училось человека три на класс, в среднем. Человек двадцать всего, может двадцать пять, получается.
Директора звали Таисия Ивановна, белоруска, завуча – Станислав Янович, поляк. Подход к оценкам был жесткий и честный: в прошлом году школьные медалисты посыпались при поступлении в минских и московских вузах, и РОНО сделало суровый втык школьному начальству: у них там выполнялись какие-то свои планы и методички, в которых надо было отчитываться не только за количество, но и качество товара, в смысле соответствия медалистов требованиям высшей школы. Так что национальный фактор был выключен, давайте объективный. (Что касается здесь взяток и услуг – в те времена об этом даже не слышали. В Белоруссии и России, во всяком случае.)
Филфак ЛГУ
Поступать я хотел только на филологию Ленинградского университета, и все сообщали, что меня туда не примут. Идеологический факультет и вообще. Не с моим копытом в калашный ряд.
Конкурс в тот год был на русское отделение 12,9 (на английское переводческое вообще 34). Никак не могу сказать, чтоб на вступительных экзаменах меня резали – нет, отношение совершенно же доброжелательное было.
На курсе у нас училось триста человек – на стационаре, не считая вечернего и заочного. Да, так я хотел только сказать, что еврей там оказался я один. Ну как-то так. Поздней знающие люди объяснили: из провинции, отличник, отец военнослужащий, член партии – я подходил: анкета успокоительна, а нужен пример демократизма, равенства и непредвзятости, на случай предъявлять друзьям и врагам.
Курсов было пять, полторы тысячи человек, стало быть, и «аид» на все полторы тысячи был еще один – Аркашка Спичка с чешского отделения, на два курса старше. Инаф. Аллес капут.
Комсорг
Я был, что называется, пламенный юный коммунист. Идейный и наивный. На первом курсе я был комсорг группы – двадцать три человека. На втором – комсорг курса, то бишь секретарь курсового комсомольского бюро; это уж триста рыл, значит. Потом я дорос до председателя стройкома факультета – организация и координация, как бы это выразиться, филфаковских ССО – студенческих строительных отрядов, сектор факультетского комитета ВЛКСМ; я ездил в дальние стройотряды на Мангылшак и в Норильск после первого и второго курсов.
Национальность здесь не имела никакого значения, и только однажды, уже в конце третьего курса, когда мы сидели после занятий в комитете и пили пиво, меня по-доброму, свои ребята, с юмором, спросили:
– Ну а ты-то, Веллер, за каким хреном в комсомольскую работу влез? Для тебя же все равно Монголия заграница.
Они все были с английского, испанского, французского отделений, им нужно было вступать в партию и иметь хорошие анкеты – все хотели работать за границей, в странах языка, переводчиками или клерками любого рода. Валюта, мир и карьера. Хорошие ребята. Всему свой возраст и свое время.
Мало того, что я с русского отделения, так еще и еврей. Мало того, что еврей, так еще вообще с русского отделения. Мы поржали. Веселый цинизм. Ничего недоброго. Исполненная энергии и жизнелюбия юность констатирует факт, и под некоторым углом рассмотрения факт забавен.
…Я вспомнил товарищеский прогноз десять лет спустя, когда въехал с сезонной бригадой скотогонов в Монголию принимать гурт барана и сарлыка в перегон до Бийска.
Библия
Университетский филфак раскрепощал. На первом же занятии по старославянскому языку преподавательница шутливо, но наставительно попеняла:
– Милые мои, филолог, который не читал Библию – это же нонсенс!
Мы раскрыли рты. Половина группы – медалисты. В своих провинциях мы такого не слыхали и помыслить не могли. Религия – опиум для народа. Статья в «Правде»: «Не заигрывать с боженькой!». Библия – это сказки для темных людей прошлого.
Образование лишает ум невинности.
Библия оказалась написана евреями. И все ее герои были евреи. Они страдали от угнетателей и в славе героев побеждали врагов.
Библия была запрещена к продаже, ее ни у кого не было и невозможно достать, но в факультетской читалке выдавали несколько экземпляров: просто Синодальная Библия, шесть огромных черных томов из одиннадцати «Толковой Библии с комментариями» Лопухина и также дореволюционный один том из трехтомной Библии с иллюстрациями Густава Доре.
Христос оказался еврей, мать его, она же дева Мария, носила еврейское имя!!! и двенадцать апостолов (кто такие?) тоже евреи, и так далее… И все эти еврейские истории и подробности две тысячи лет почитались всеми народами, в смысле всеми цивилизованными народами.
Мир был странен и противоречив. И евреев в нем делалось все больше.
Русская филология
Куратором нашей первой русской группы был блестящий лингвист Владимир Викторович Колесов, интеллигентнейший ум старой петроградской школы. Кафедрой русской литературы заведовал знаменитый Макогоненко, щеголь и звезда, советской – Выходцев, кудрявый седеющий гигант, геройский фронтовой разведчик в прошлом и бездарный прохиндей в настоящем. Фольклор первому курсу читал Горелов, а четыре лекции нам в первом нашем семестре еще прочел в последний раз великий и легендарный Владимир Яковлевич Пропп.
Мы были советские интернационалисты и воспринимали многонациональность страны как естественное. Пропп оказался немец, что с того. Владимир Иванович Даль был датчанин, Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ – поляк с французской родословной, что Дитмар Эльяшевич Розенталь еврей мы подозревали еще в школе согласно фамилии на учебнике.
Нам, юным лоботрясам с заоблачным самомнением, университет передавал славные традиции и высочайший уровень Петроградской филологической школы. А это родоначалие всех мировых школ русской филологии. И вот среди блестящей профессуры:
Русскую литературу XVIII века нам читал Павел Наумович Берков, первую часть второй половины XIX – Григорий Абрамович Бялый, вторую часть – Исаак Григорьевич Ямпольский. Георгий Пантелеймонович Макогоненко (1-я половина XIX) с его блеском и авторитетом возглавлял и покрывал эту сомнительную, выразимся так, шайку. Он превосходил лекторским талантом и обаянием всех прочих, студенты его обожали и предавались предмету беззаветно – он легко был снисходительным и справедливым.
Кафедра же советской литературы это сионистское гнездо ненавидела, но в силу малых заслуг и бездарности деяний была бессильна бороться. На ней еще работал Лев Абрамович Плоткин, один из двух авторов школьного учебника советской литературы. Старшекурсники нам поведали, что в 1946 году после Постановления ЦК ВКП/б «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» и начала травли Ахматовой и Зощенко, в номере 7–8 «Звезды» вышла статья Плоткина «Проповедник безыдейности М. Зощенко» – и в читалке журнал выдают.
(…Мне было уже под тридцать, мы шли летним вечером с другом по улице Ракова, ныне Итальянской, и на газетном щите я увидел некролог – умер Плоткин. Рефлекторно, не рассуждая, с мстительной злобой я плюнул на этот некролог. Единственный раз в жизни делал я подобное. Мы не были равнодушны к истории литературы, которую нам передали.)
На той же кафедре работал соавтор Плотника по школьному учебнику – Евгений Иванович Наумов. Этот евреем не был – напротив: когда гениального литературоведа Григория Александровича Гуковского, завкафедрой русской литературы филфака ЛГУ и бывшего декана факультета «подвергли общественному осуждению и ходатайствовали перед органами» в 1949 в ходе процессов над космополитами, любимый аспирант Женечка Наумов выступил и полил его грязью больше всех. Гуковский через год умер в тюрьме, а Наумов начал писать докторскую.
Литературный Ленинград оказался неслабо замешан на еврейском вопросе. Вместе с Гуковским тогда втаптывали в грязь академика Жирмунского, профессоров Азадовского и Эйхенбаума. Знаковые все фигуры! Всех выкинули из университета и Пушкинского дома, все перебивались бедной и позорной поденщиной; двое вернулись к работе только после хрущевского ХХ Съезда. Азадовский не дожил – умер раньше.
Борис Эйхенбаум, мало того, всю жизнь трясся: его брат Всеволод, знаменитый анархист, был идеологом у Махно под псевдонимом Волин, дважды арестовывался большевиками, бежал за границу и прожил жизнь во Франции. Расстреливали людей и за куда меньшее по обвинению в шпионаже на Францию и зарубежные разведки.
Да, а поскольку показателем вкуса и компетентности был у нас тогда в поэзии Серебряный Век, а в литературоведении ОПОЯЗ – декаданс и формализм в пику осточертевшему и осмеиваемому официальному соцреализму, – мы погрузились в эти открывшиеся посвященным, запретные миры.
ОПОЯЗ – Общество изучения поэтического языка, возникшее в Петрограде в 1916 и рассосавшееся в середине бурных тридцатых. Так мы сейчас сидим на еврейской теме и на ней же едем:
Главный основатель – Шкловский, с ним – знакомый нам Эйхенбаум и Тынянов (все трое, не сомневайтесь). Это – в литературоведении. А в лингвистике – Якобсон, Якубинский, Поливанов. Стиховедение: Брик, Бернштейн. И в разное время примыкавшие к ним Гинзбург, Векслер, Слонимский, Ховин, Томашевский – то есть подавляющее большинство сей могучей кучки. Отъявленные русисты.
Это они создали теорию изучения литературы как прежде всего изучение законов структуры вербального носителя, формы как суммы приемов художника, определили появление структурализма и постструктурализма, двинули на новый этап семиотику и проложили путь ее развития в литературоведении и языкознании.
Такая штука: изучая русскую литературу, еврей перестает быть национально одиноким. Национальность уже в силу профессии ассимилирует в русскую сторону. Внося в русское дело и вещество жизни еврейскую неугомонность, изобретательность и страсть.
1967
Май – Шестидневная война. Израиль разгромил: Египет, Сирию, Иорданию, а также помогавшие им контингенты Алжира и Ирака. Советский Союз, оскорбленный поражением своих друзей и союзников, накачанных советским оружием и обученных советскими советниками, разорвал отношения с Израилем. Газеты наполнились карикатурами: горбоносый еврей в огромной каске тянет окровавленную когтистую лапу к сияющим мирным землям арабов в белых одеждах. На книжные витрины пошел поток брошюр: «Сионизм – это современный фашизм» и тому подобное.
И было задействовано неофициальное правило – «Три “Не”»: евреев не принимать, не продвигать и не увольнять. Действовало оно исправно. То есть никого никак не репрессировать, работающих не трогать, пусть дорабатывают на местах, а вообще дистанцировать их от большой жизни.
В результате одновременно прорастал необнаружимый еврейский национализм. Он появился (далеко не у всех) двадцатью годами раньше в ответ на гонения, унижения и страхи процессов космополитов и врачей-убийц. Ассимилированным советским интернационализмом, исполненным коммунистического мировоззрения, евреям напомнили, что они евреи.
А после победоносной Шестидневной войны евреи выяснили, что могут быть не только жертвами, но героическими и торжествующими бойцами. И Москва бессильна что-либо с ними сделать: евреи перемололи горы нашего оружия и осрамили наших советников. Май 1967 послужил к еврейской гордости. Причем! – изрядная доля советской интеллигенции эту победу поддерживала! Потому что фанфарное пение и барабанный треск к 50-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции всем изрядно осточертели. Оппозиционные настроения и чувство эмоционального и стилистического протеста выразились в солидарности с Израилем, а не арабами. Которым реально никто не сочувствовал, считали бездельниками и трусами.
Из знаковых анекдотов эпохи:
– Вы слышали? Вчера наши сбили семь наших самолетов!
Короче, после мая 1967 советские евреи стали более евреями как объективно, на правовом уровне, – так и субъективно, по самоощущению. Любой еврей воспринимался властью как скрытый потенциальный оппозиционер, то есть антисоветчик, и власть принимала разумные меры.
Двадцатилетние студенты университета в курсе уже всех новостей…
1968
Сути волнений и бунтов 1968 на Западе мы, советские комсомольцы, не понимали совершенно. Более того – подавление нашими танками Пражской весны мы полагали правильным и необходимым. Но от старших мы узнавали о закручивании гаек, о конкретном решении бороться с политическими анекдотами и «армянским радио». А главное – после 1968 усилили все закручивания1967.
Еврейский вопрос приобретал прокурорскую строгость – и вдруг в воздухе проступали невидимые ранее нити некоей двухуровневой паутины особого отношения к евреям – государственного и народного. И ты обнаруживал себя точкой на пересечении нескольких нитей.
Случайные слова
После стройотрядов на Мангышлаке и Таймыре, заработав впервые весомых собственных денег, поздоровев и войдя в авторитет на факультете, забываешь о стеснительности и застенчивости. Комплекс неполноценности исчезает и заменяется странным другим комплексом – некоей дополнительной инаковостью по сравнению со всеми. Ты как все – плюс еще немножко. Немножко – это еще и еврей. На тебе, таком как все, где-то оттиснута дополнительная печать.
И когда как-то в подъезде мы зацепились случайными словами с поддатым мужиком, на его: «Ты вообще кто? Русский?» – я ответил с прямым вызовом: «Еврей!». «Вот то-то!» – сказал мужик. «Что – то-то?» Мужик осмотрел меня и кратко подумал. «Да нет, я вообще-то ничего», – мирно сказал он: «Ну, еврей, так какая разница…»
Или летом во дворе играли в настольный теннис. А в тени на лавочке старушки обсуждали свои проблемы. И из тихой пересыпи речей выделилось мне в спину: «Еврей парш-шивый…» В голове взорвалось, я шагнул с ним и сдавленно и бешено просипел: «Кто это сказал?» Бабки поджались. «Кто это сказал?» – повторил я. Хотел бы я знать, что бы я сделал, если бы мне ответили. Ничего я не мог им сделать. Но они молчали. «Антисемитские морды, мать вашу ёб», – прохрипел я. «И что тут такого, – сглаживающим тоном сказала одна. – Если я вашу нацию оскорбила – ну, и вы мою оскорбите». «И рук ваших здоровых мы не боимся», – добавила другая.
Я заметил, что стою напряженный сгорбившись, немного раздвинув полусогнутые руки, в одной держа ракетку. Сделалось неловко. Я вернулся к столу и продолжил играть, не попадая по шарику. Друг мой после паузы поддержал, обратился осуждающе: «Как вам не стыдно». И как-то тихо-незаметно и они с лавочки снялись, и мы пошли портвейна купить.
Я к чему эти ничтожные мелочи всю жизнь помню. Они – как игольные неразличимые точки наколоты на окружающем зелено-голубом и солнечном пространстве. Но точки эти намеком на скрытый узор обозначают окружающую тебя сферу, и сфера та – отведенное тебе, еврею, пространство с барьерами и минами за этими значками.
Инка
Был в Ленинграде знаменитый «Сайгон» на углу Невского и Владимирского, а был рядом бар, он же коктейль-холл «Подмосковье» – за стенкой, при холле гостиницы «Москва». И весенним вечером я, студент третьего курса, пл там на свои три рубля два коктейля. Мудрость веков и несправедливость жизни продавили мне психику. Двадцать один год, кризис молодого возраста.
Приходили люди, бар наполнился, за столик подсели, завязывались разговоры, взрослые специалисты ставили бедному студенту, а через столик сидела в профиль девушка, от которой холодело в животе. Мягкие черты, белокурые волосы, и светлый плащик затянут на тонкой талии. Воплощение юной женственности, рождающее тоску по сказке. Я только на нее и глазел. Бар, табачный дым, опьянение, вечер и неожиданная любовь. Но с ней был тридцатилетний верзила в нелепом фирменном прикиде, а у меня не было ни копейки и некуда вести.
И вот полдвенадцатого, и я уже набрался угощений, и давно стараюсь на нее не смотреть, чтоб не травить душу и не давать повод меня презирать, сейчас она уйдет.
И вдруг слышу над ухом голос: нежный, высокий, тихий девичий голос:
– Молодой человек, как вас зовут?
В полном же обалдении оборачиваюсь – и вижу над собой ее серые глаза, и розовые губы, и тонкую точеную фигуру, и с деревянной глупостью вешаю звук:
– Может быть, мы отойдем куда-нибудь?
– Нет, – возражает она ровно, – я не одна.
– Миша, – говорю я механически.
– Миша, я хочу, чтоб вы мне позвонили, – и сует мне в руку бумажку с телефоном.
Бредя ночью влюбленный, я и придумал эту фразу: «Раз в жизни сбывается несбыточное».
Это я к тому, что. Через два дня мы выпили кофе в «Сайгоне», потом по коктейлю рядом, ее звали Инна, и она была потрясающая. И смотрела на меня своими серыми прозрачными глазами, и жила одна в квартире родителей-полярников.
Ей было двадцать, мы гуляли по Фонтанке, курили на скамейке в Летнем саду, нас так и клонило друг к другу, и она спросила (тоже хотела в университет, из любопытства посмотрела мой студенческий):
– Миша, вы чисто русский?
Я был не готов. Откуда, и здесь, опять. Менее всего я собирался сейчас утверждать свое национальное достоинство. Любовь – это когда ради нее ты можешь предать Родину.
– Чисто, – отвечал я с легким ласковым недоумением. – Особенно после душа, – плоско шутил. – Фамилия? Прадед был эстляндский немец, ничего?
– Просто я считаю, что не должна иметь дело с людьми ниже меня, – сказала Инна. – Верно же? Какого черта.
…Черт возьми, я никогда не считал, что потом она долго имела дело с человеком ниже ее. Ничего подобного близко не выказывала. А прелесть и красавица была редкостная.
Вот и разберись: я позорно и малодушно не признался в еврейской национальности – или обманул честную открытую девушку, преследуя собственные намерения? Острая и восхитительная дилемма: борьба противоположностей, которые хотят слиться.
Отец
В 1968 году отец получил назначение на начальника крупного госпиталя под Москвой – полковничья должность. Он был призван в армию в июле 1942, сразу после школы за две недели до семнадцатилетия, и по военкоматовской разнарядке тут же направлен в Военно-Медицинскую Академию, как окончивший десять классов, да еще на все пятерки. К 1968 дослужился до подполковника, начальника областного госпиталя, защитил кандидатскую и писал докторскую. В Управлении кадров медслужбы Министерства обороны сообщили, что его кандидатура идеальна, чего уж там: член партии, 26 календарей, служба в Германии и отдаленных районах, все ступеньки службы, начиная с младшего полкового врача, кандидат наук, научные внедрения, награды. Верти дырочку в погонах, подполковник, с тебя причитается.
Приказ все не утверждался, суетиться под начальством в армии не принято. После нового года выяснилось, что место уже занято. В Москве был старый сослуживец с министерскими связями. Какого хрена ты сразу не позвонил? – спросил он по телефону. А в конце утешил: – Плюнь, здесь все равно ничего нельзя было сделать. Просто твоя фамилия и графа. Новые ветры с прошлого года. Вернее, старые.
Маршруты космополитов
Когда я был дома на каникулах, отец кратко помянул несостоявшийся перевод и сказал в утешение про старого приятеля и однокурсника Макса Кушаковского, уже доктора и профессора в Ленинграде, знаменитого кардиолога: в 1951 Макса, кандидата наук и молодую звезду кафедры, выперли из Академии врачом аж в Красноводск. И сидел он там тише воды ниже травы пять лет, пока не пошли хрущевские послабления.
Года с 1947 и до смерти Сталина евреев старались выпихивать со всех мест куда подальше. Поскольку, скажем, сопки Маньчжурии на монгольско-китайской границе – это вполне подальше, то в борзинском военном госпитале евреев была половина врачей. По северам и дальним востокам можно было формировать еврейские офицерские роты.
По редчайшей случайности доводилось мне в студенческие годы сидеть за одним столом с физиком, ядерщиком из первой курчатовской группы, последним из живых. Вот он рассказывал: Курчатов заходил на экзамены старших курсов в МФТИ, слушал и после тыкал пальцем в список: мне этого, этого и этого. Игорь Васильевич, но ведь Лазарь… и Герштейн… вы понимаете. Этих, я сказал! Его курировал Берия лично, их ограничения не касались – дай результат.
К чему эти сведения общего характера? А это все капает и капает на темя информация, воспринимаясь как сугубо тебе личная: когда узнаешь это впервые, да еще в двадцать лет. Сталь не сталь, хрен его знает, что там закаляется.
Родня
Перед смертью бабушка, мамина мать, рассказала мне, что всю их каменец-подольскую родню расстреляли не немцы, а украинские полицаи. А выдали полиции соседи. Люди все сказали, когда она с дочерью, моей мамой, вернулись из эвакуации. Они успели убежать пешком, сутками на ногах.
Голос крови
Другая бабушка рассказала другую историю. Когда молодой отец, слушатель Академии уже в офицерских погонах, вернулся ненадолго в родительский дом в Ленинграде, пара милых однокурсников евреев же, научили его прочувственному традиционному тосту на идише. На идише отец не понимал ни единого слова, в их доме язык вообще не звучал, и ему написали текст русскими буквами на бумажке.
На день рождения матери собрались выжившие родственники, а было их когда-то семь сестер-братьев у папиного отца и десять у матери, и почти половина выжила, да с женами-мужьями, все немолоды. За праздничным столом молодой офицер встал и произнес заученный тост. Женщины побагровели, мужчины загоготали и сползли под стол. Бабушка, отцова мать, закрыла глаза и провалилась сквозь землю. Это был набор отъявленных и неприличных ругательств, смесь солдатской грубости и сексуальных извращений, сулимых всем присутствующим.
Это был первый и последний опыт отца на идише.
Вот в такой сугубо советской семье я рос.
Горизонты карьеры
Таким образом, к четвертому курсу я лучше представлял себе то будущее, которого никогда не будет, чем то, которое возможно. Запрет вообще конкретнее разрешения.
Там, где ты ничего не можешь, ты ничего не должен хотеть, на грани издевки и стоицизма сказал Сенека. Мне чудовищно повезло: я не хотел того, чего не мог.
Я не хотел оставаться в аспирантуре. Не хотел писать кандидатскую и докторскую, вообще не хотел быть литературоведом, доктором, профессором. Лингвистом тем более не хотел. Жизнь облегчалась. Меня бы туда никто и не взял. В обозримом будущем.
Еще я не хотел работать за границей. Увидеть ее – о да! Но быть там переводчиком или преподавать иностранцам – мы уже видели на факультете стажеров из Франции и Штатов: редко тупые ребята.
Я хотел в жизни две вещи. Первая – написать книгу рассказов. Пусть даже одну за всю жизнь – но хорошую. И вторая – все остальное. Остальное – это видеть мир и работать самые разные работы. Пиратом уже нельзя. Но моряком рыбфлота, лесорубом, промысловым охотником – можно.
Еще меня интересовали девушки, и они тоже не спрашивали национальность. Кроме одной (которая все равно привела меня в постель).
Таким образом, у работяг национальность роли не играет – если только не за границу. А там, где она играет, мне ничего не нужно.
Вы чувствуете: я как-то пристроился со своей национальностью так, чтобы она мне не мешала. Я не пробивал головой стены не потому, что слаб или труслив, а потому что мне там ничего не надо было. Это примечательный психологический феномен.
Бородатая советская шутка
Объявление:
Меняю одну национальность на две судимости.
И ведь смеешься без всякого трагизма! И хрен поменяешь.
«Нева»
На пятом курсе вместо распределения учителем в сельскую школу открылась сияющая возможность: журналу «Нева» дали третью ставку в отдел прозы, младшего редактора. Это был толстый литературный журнал, престижный и уважаемый, с редакцией в начале Невского, почти угол Адмиралтейского проспекта. Эркер второго этажа выходил окнами на Дворцовую площадь, и оттуда можно было смотреть парады (правда, на это время милиция перекрывала все ближние подъезды и проверяла пропуска).
В прозе «Невы» прошлой весной я месяц читал рукописи и редактировал идущие в набор, отрабатывая журналистскую практику (вместо фольклорной). Отдел одобрил, и еще дважды по месяцу меня приглашали делать то же самое, когда редактор или завредакцией отъезжали на разного рода семинары и совещания в Дома творчества. Оплачивали меня из редакционного бюджета, то есть давая рукописи на платное рецензирование. И.о. младшего редактора на доб-ровольно-доверительных началах. В сущности, я был подготовленный и проверенный кандидат на знакомое место.
– Миша, – с добрым цинизмом улыбнулся старший редактор, мой шеф Саша Лурье, принимая от меня заполненную анкету, – вы ведь понимаете, что шансы близки к нулю. В отделе из двух человек один еврей у них уже есть – это я, и это больше, чем они хотели бы. Если взять еще вас, то тут возникнет 66,6 % процентов потенциальных сионистов, и никакой обком это не пропустит в страшном сне, хотя ему это не грозит, потому что не пропустит наш собственный отдел кадров, его за этим и держат.
Я не возлагал надежд на пустой номер, и когда вопрос о моем приеме растворился в пустоте, не переживал. Попытка не пытка, не правда ли, товарищ Берия.
Взяли на место Лешу Иванова, хорошего парня, начинающего писателя из спортсменов, бывшего гребца.
Антисионистский комитет
Советская идеология требовала борьбы. Америку перестали обвинять в империализме, ФРГ – в реваншизме, и даже Китай – в гегемонизме. Рейтинг Израиля в советском информационном пространстве резко вырос – он обвинялся в сионизме, худшем из всех пороков.
Быть евреем стало означать причастность к преступлениям против человечности.
Для мобилизации рядов и консолидации взглядов создали Советский Антисионистский Комитет. Его направленность была предельно проста: советские евреи – против сионизма и расистской военщины Израиля. Иногда Комитет заседал в телевизоре и клеймил убийц беззащитного арабского народа.
Представительствовали уважаемые лица еврейской национальности: израненный Дважды Герой танкист Драгунский, любимая народом Аксинья из «Тихого Дона» – Элина Быстрицкая и т. д.
От Белоруссии там никого не было. Отца решили пощупать на амплуа рядового советского еврея с идеальной биографией: офицер, коммунист, врач, кандидат наук, в семье никто не был репрессирован. На работу пришли двое приятных ребят в серых костюмах. Как живете, слышали ли о Комитете. Отец дистанцировался: офицер, коммунист, присяга и приказ, занят работой. Дали прочитать страничку и предложили подписать: статья для «Литературной Газеты». Спасибо, я не публичный человек. А для «Советской Белоруссии»? «Могилевская Правда»? Нет? А вы никогда не думали об отъезде в Израиль?






