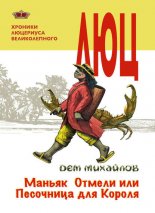Большая грудь, широкий зад Янь Мо

Когда обе выплакались, матушка вытерла Лайди слезы тыльной стороной ладони и взмолилась:
– Доченька, пообещай матери, что не будешь водиться с этим Ша.
Но сестра стояла на своем:
– Мама, но я только и желаю, что быть с ним! Да и семье хочу добра. – Она покосилась на лежащие на кане лисью шубу и курточки из рыси.
– Завтра чтобы все скинули это барахло! – не сдавалась и матушка.
– И ты будешь смотреть, как мы с сестрами околеваем от холода?!
– Спекулянт проклятый, вот он кто! – бросила матушка.
Сестра отодвинула дверной засов и, даже не обернувшись, вышла из дома.
Матушка, словно обессилев, откинулась на кане; было слышно, как из груди у нее вырывается сиплое дыхание.
В это время под окном послышались нетвердые шаги Ша Юэляна. Язык у него заплетался, и губы не слушались. Наверняка он намеревался легонько постучать по подоконнику и деликатно заговорить с матушкой о женитьбе. Но под воздействием алкоголя чувства притупились, а желаемое и действительное не совпадали. Он забарабанил в окно с такой силой, что прорвал дыру в бумаге, и через нее влетел холодный воздух с улицы и запах перегара.
– Мамаша! – заорал он гнусным и в то же время потешным голосом завзятого пьянчуги.
Матушка соскочила с кана, застыла на секунду, потом снова забралась на него и подтащила меня поближе к себе.
– Мамаша… – старательно выговаривал Ша Юэлян, – нашу с Лайди свадьбу… когда бы нам устроить… Нетерпеливый я вот такой немного…
– Собралась лягушка лебединого мясца поесть, – процедила сквозь зубы матушка. – Ой размечтался ты, Ша!
– Что ты сказала? – переспросил Ша Юэлян.
– Размечтался, говорю!
Он будто внезапно протрезвел и без малейшей запинки произнес:
– Названая матушка, я, Ша, еще никогда и ни у кого ничего смиренно не просил.
– А тебя никто и не заставляет просить.
– Названая матушка, – холодно усмехнулся Ша, – у Ша Юэляна, если что задумано, все исполняется…
– Тогда тебе придется сперва убить меня.
– Я твою дочку в жены взять собрался, – усмехнулся Ша Юэлян. – Как я могу свою тещу убить?
– Значит, никогда мою дочку не заполучишь.
– Дочка у тебя уже большая, – хохотнул Ша Юэлян, – и ты ей не указ, тещенька дорогая. Вот и поглядим, что выйдет.
Все так же похохатывая, он прошел к восточному окну, прорвал бумагу и бросил туда большую горсть леденцов, заорав:
– Ешьте, сестренки! Пока Ша Юэлян рядом, будете, как я, есть сладкое и пить горькое…
В эту ночь Ша Юэлян не спал. Он безостановочно бродил по двору, то громко кашляя, то насвистывая. Свистел он замечательно, потому что умел подражать десяткам птиц. А кроме кашля и свиста еще горланил арии из старинных опер и современные антияпонские песенки. Он то гневно казнил Чэнь Шимэя38 в большом зале кайфэнского ямыня39, то, подняв большой меч, рубил головы японским дьяволам. Чтобы этот нетрезвый герой антияпонского сопротивления, встретивший преграду в любовной страсти, не сломал дверь и не ввалился в дом, матушка закрыла ее еще на один засов. Этого ей показалось мало, и она притащила мехи, шкаф, обломки кирпичей – в общем, все, что только можно было принести, и завалила дверь. Потом засунула меня в «карман», взяла тесак для овощей и стала расхаживать по дому от западной стены до восточной. Никто из сестер шуб не скинул; тесно прижавшись друг к другу, они спали, сладко посапывая, и ни какофония во дворе, ни выступившие на кончиках носов капли пота не были им помехой. Седьмая сестра, Цюди, пустила во сне слюнку на соболиную шубу второй сестры, а шестая сестра, Няньди, приткнулась, как ягненок, в объятия черного медведя – третьей сестры, Линди. Как я теперь припоминаю, матушка с самого начала потерпела поражение в борьбе с Ша Юэляном. Этими мехами он переманил сестер на свою сторону, создав тем самым в нашем доме единый фронт. Матушка потеряла поддержку масс и осталась в этой войне одна.
На следующий день матушка закинула меня за спину и помчалась в дом Фань Саня. Объяснила она всё просто: чтобы отблагодарить тетушку Сунь за выказанную милость и принятые роды, она хочет выдать Шангуань Лайди за старшего из ее внуков – бессловесного героя сражения с воронами. Если сегодня договориться о помолвке, то завтра уже можно обсудить приданое, а на третий день и свадьбу справить. Фань Сань уставился на нее, ничего не понимая.
– О мелочах не переживай, дядюшка. Вино, чтобы отблагодарить тебя как свата, у меня уже приготовлено, – добавила она.
– Но это какое-то сватовство наоборот! – Фань Сань пребывал в явном недоумении.
– Да, верно, – согласилась матушка.
– А зачем оно нужно? – никак не мог взять в толк Фань Сань.
– Дядюшка, не задавал бы ты вопросов! Пусть немой приходит к нам в полдень с подарками на помолвку.
– Да у них дома и нет ничего.
– Что есть, то и есть.
Так же бегом мы вернулись домой. Дорогой матушка вся испереживалась. И предчувствия ее не обманули. Во дворе мы увидели стаю поющих и пляшущих животных. Тут был и колонок, и черный медведь, и олень, и пятнистая собака, и ягненок, и белый заяц, не видать было лишь соболя. Соболь с лисой на шее сидел в восточной пристройке на мешках пшеницы и не сводил глаз с командира отряда стрелков. Тот устроился на тюфяке и чистил тыквочки-пороховницы и свой мушкет.
Матушка стащила Лайди с мешков.
– Она помолвлена с другим, командир Ша, – ледяным тоном заявила она. – У вас, в антияпонских отрядах, наверное, нельзя уводить чужих жен.
– Об этом и разговору нет, – спокойно проговорил Ша Юэлян.
Матушка выволокла старшую сестру из пристройки.
В поддень заявился немой из семьи Сунь с диким кроликом в руках. Куртка на подкладке была ему явно мала – снизу торчал живот, сверху выглядывала шея, и рукава лишь наполовину прикрывали толстые руки. Все пуговицы с куртки отлетели, и поэтому немой подпоясался веревкой. Он поклонился матушке, и на лице у него появилась дурацкая улыбочка. Взяв кролика в обе руки, он положил его перед матушкой.
– Жена Шангуань Шоуси, все сделал, как ты просила, – сказал сопровождавший его Фань Сань.
Матушка долго, словно застыв, смотрела на кролика, у которого из уголка рта еще капала кровь.
– Ты, дядюшка, пока не уходи, и он пусть не уходит, – указала она на немого. – Приготовим кролика с турнепсом, и, считай, дети помолвлены.
Из восточной комнаты донеслись громкие вопли Лайди. Сначала она плакала как маленькая, пронзительно, исходя на крик, но вскоре стала сипло реветь, перемежая плач страшными и грязными ругательствами. Потом плач сменился бесслезными завываниями.
Она сидела на грязном полу у кана, уставившись перед собой и забыв про то, что на ней драгоценный мех. На лице не осталось ни слезинки, разинутый рот, походивший на высохший колодец, исторгал беспрестанный вой. Все шестеро сестер тихо всхлипывали, слезинки скатывались по медвежьему меху, подпрыгивали на шкуре оленя, посверкивали на мехе колонка, увлажняли овечью шкуру и мочили заячью.
В комнату заглянул Фань Сань – и будто увидел привидение. Вытаращив глаза, с трясущимися губами он попятился и, развернувшись, стремглав выскочил из дома.
Старший немой из семьи Сунь стоял посреди нашей главной комнаты и вертел головой в разные стороны, с любопытством озираясь вокруг. Кроме идиотской улыбочки на его лице находили отражение потаенные мысли непостижимой глубины, а иногда это была лишь застывшая печаль, если не просто окаменевшее запустение. Позже я увидел, как страшен он может быть во гневе.
Матушка продела через кроличью губу тонкую стальную проволоку и подвесила его к балке в главной комнате. Стенания старшей сестры она игнорировала; не заметила она и странного выражения на лице немого. Взяла ржавый тесак и принялась снимать шкуру с кролика. Из восточной пристройки вышел Ша Юэлян с мушкетом.
– Командир Ша, – холодно процедила матушка, даже не повернув головы, – у нашей старшей дочери сегодня помолвка. Кролик – подарок по этому случаю.
– Хорошенький подарок, – усмехнулся Ша Юэлян.
– Сегодня у нее помолвка, завтра – подношение приданого, а послезавтра – свадьба. – Матушка тюкнула тесаком по голове кролика и, обернувшись к Ша Юэляну, добавила: – Не забудь прийти выпить за молодых!
– Не забуду, разве такое забудешь. – Ша Юэлян вскинул мушкет на плечо и, звонко насвистывая, вышел из ворот.
Матушка продолжала свое занятие, но явно потеряла к нему всякий интерес. Оставив кролика висеть на балке, она прошла со мной на спине в дом и крикнула:
– Как говорится, и без ненависти мать и дитя не вместе, и без милосердия врозь, – так что, Лайди, можешь ненавидеть меня! – Выпалив эти жестокие слова, она беззвучно зарыдала: слезы текли по щекам, плечи подрагивали – а она взялась за турнепс. Чик – и турнепсина развалилась на две половинки, открыв зеленовато-белое нутро. Чик – и две половинки распались на четыре. Чик, чик, чик, чик – движения становились всё быстрее, всё размашистее. Турнепс на разделочной доске разлетался на мелкие кусочки. Матушка еще раз высоко занесла тесак, но он уже словно плыл в воздухе и, выпав у нее из руки, упал на нарезанный турнепс. Едкий дух переполнил комнату.
Сунь поднял большой палец, выражая восхищение. Несколько произнесенных при этом нечленораздельных звуков тоже, должно быть, выражали восторг.
– Иди давай, – сказала матушка, утерев слезы рукавом. Тот стал размахивать руками, но матушка, указав в сторону его дома, громко крикнула: – Ступай, ступай, тебе говорят!
Немой наконец понял, что она имеет в виду. Он скорчил мне рожу, как маленький. Над пухлой верхней губой торчали усики – будто его мазнули зеленой краской. Он очень похоже изобразил, как лезет на дерево, потом летящую птицу и, наконец, как маленькая птичка вырывается у него из ладони. Улыбнувшись, он указал на меня, а потом ткнул себе пальцем в сердце.
Матушка еще раз махнула в сторону его дома. На миг он застыл, кивнул – мол, понятно, потом рухнул на колени вроде бы перед матушкой – она резко отшатнулась, – а по сути перед разделочной доской с нарезанным турнепсом, в поклоне коснулся лбом земли, встал и с довольным видом удалился.
Утомленная всем происшедшим, матушка спала в эту ночь глубоким сном. Проснувшись, она увидела диких кроликов, огромных, жирных, которые висели на утуне, на цедреле40, и на абрикосовом дереве, словно диковинные плоды. Ухватившись за косяк, она медленно сползла на порожек.
Восемнадцатилетняя Шангуань Лайди сбежала в своей соболиной шубе и с лисой на шее вместе с командиром отряда стрелков «Черный осел» Ша Юэляном. А несколько десятков диких кроликов Ша Юэлян поднес матушке по случаю помолвки. Ну а заодно чтобы уесть ее. Вторая, третья и четвертая сестры помогли старшей бежать. Все случилось после полуночи: пока усталая матушка похрапывала, а пятая, шестая и седьмая сестры крепко спали, вторая сестра встала, прошла на цыпочках к двери и разобрала сооруженную матушкой баррикаду, а третья и четвертая открыли обе створки. Чуть раньше Ша Юэлян смазал петли ружейным маслом, поэтому двери отворились беззвучно. Под холодным полночным светом луны девочки обнялись на прощание. Ша Юэлян, глядя на свисающих с ветвей кроликов, тишком ухмылялся.
Через день должна была состояться свадьба. Матушка спокойно сидела на кане и штопала одежду. Ближе к полудню явился немой. Не скрывая нетерпения, он жестами и гримасами дал матушке понять, что пришел за невестой. Она слезла с кана, вышла во двор, указала на восточную пристройку, потом на деревья, где по-прежнему висели уже закоченевшие от мороза кролики. При этом она не произнесла ни слова, но немой всё понял.
Спустились сумерки. Мы, усевшись всей семьей на кане, ели нарезанный турнепс и хлебали жидкую кашу из пшеничной муки, когда от ворот донесся страшный шум. Вбежала запыхавшаяся вторая сестра. Она ходила в западную пристройку кормить урожденную Люй:
– Мама, худо дело, немой с братьями явился, а с ними свора псов!
Сестры страшно перепугались. Матушка и бровью не повела и продолжала кормить с ложки восьмую сестренку. Потом принялась с хрупаньем жевать турнепс, невозмутимая, как беременная крольчиха. Шум за воротами неожиданно стих. Спустя какое-то время – столько нужно, чтобы выкурить трубку, – через нашу низенькую южную стену перемахнули три красновато-черные фигуры. Это были немые братья Сунь. Вместе с ними во дворе появились три черных пса, шерсть у них блестела, будто смазанная топленым салом; они скользнули над стеной тремя черными радугами и бесшумно опустились на землю. Немые и собаки застыли, как статуи, в багровых лучах заходящего солнца. В руках у старшего сверкал холодным блеском гибкий бирманский меч. Второй сжимал отливающий синевой меч с деревянной рукояткой. Третий волочил покрытый потеками ржавчины клинок с длинной ручкой. За спиной у всех троих висели небольшие котомки из синей в белый цветочек ткани, будто они собрались в дальний путь. У сестер аж дыхание перехватило от страха, а матушка как ни в чем не бывало шумно хлебала кашу. Старший немой вдруг зарычал, за ним зарычали его братья, а затем и псы. Капельки человечьей и собачьей слюны заплясали в лучах заката, как светящиеся мошки. И тут немые вновь продемонстрировали искусство владения мечом, как тогда, в великой битве с воронами в день похорон на пшеничном поле. В тот далекий сумеречный час начала зимы на нашем дворе сверкали клинки: трое сильных молодых мужчин беспрестанно подпрыгивали, напряженно тянулись крепкими, как стальные листы, телами, чтобы изрубить на куски десятки висевших на ветвях кроликов. Псы рычали от возбуждения, вертя огромными головами, на лету хватая отрубленные куски. Наконец немые натешились, на их лицах появилось довольное выражение. Весь двор был усеян изрубленными кроликами. На ветках осталось несколько кроличьих голов – несорванные, высохшие на ветру плоды. Немые вместе с псами сделали несколько кругов по двору, демонстрируя свою удаль, а потом так же, как и заявились, ласточками перемахнули через стену и исчезли во мраке.
Матушка, держа перед собой чашку, еле заметно усмехнулась. Эта, очень особенная, усмешка глубоко врезалась в память всем нам.
Глава 13
Женщина начинает стареть с груди, а грудь стареет с сосков. После побега старшей сестры всегда упруго торчавшие соски матушки вдруг поникли, как созревшие колоски, став из розовых темно-красными, как финики. Молока поубавилось. Оно уже не было таким свежим, ароматным и сладким, как раньше, а стало жидким и отдавало древесной гнилью. К счастью, со временем настроение матушки улучшилось, особенно после того как съели большого угря. Соски начали обретать свою прежнюю форму, светлеть, и молока стало столько же, как и осенью. Беспокоили вызванные старением глубокие морщины у основания сосков, напоминающие замятины на книжных страницах. Эта неожиданная перемена стала тревожным сигналом, и я благодаря то ли инстинкту, то ли озарению свыше начал менять свое, прямо скажем, потребительское отношение к грудям. Я понял, что их нужно ценить, ухаживать за ними, любоваться ими, как изящной посудой, с которой обращаются с крайней осторожностью.
Зима в том году выдалась особенно морозной, но мы надеялись безбедно продержаться до весны благодаря пшенице, которой была забита пристройка, и целому подвалу турнепса. В третью девятку41, в самые студеные дни, выпало много снега, он завалил дверь, под его тяжестью ломались даже ветви деревьев во дворе. Закутавшись в подаренные Ша Юэляном шубы, мы скучивались вокруг матушки и впадали в какую-то спячку. Но вот в один прекрасный день выглянуло солнце, и снег начал таять. На крышах повисли огромные сосульки, на заснеженных еще ветвях зачирикали долгожданные воробьи, и мы стали отходить от сонной зимней одури. Уже много дней, чтобы добыть воду, растапливали снег. От турнепса, сваренного в этой воде – а он был нашей основной пищей, – сестер уже воротило. Вторая сестра, Чжаоди, первой заявила, мол, в этом году снег пахнет кровью, нужно начинать ходить по воду к реке, иначе недолго и слечь с какой-нибудь хворью. От нее не убережешь даже Цзиньтуна, хотя он и живет на молоке матери. Губастая Чжаоди говорила с обворожительной хрипотцой и уже взяла на себя главенствующую роль, которая раньше принадлежала Лайди. Она пользовалась определенным авторитетом, потому что с зимы вся готовка была на ней. Матушка же сидела себе на кане, как раненая молочная корова, и стеснительно, а иногда и с полным сознанием своей правоты запахивалась в ту самую роскошную лисью шубу: она заботилась о своем теле, о количестве и качестве молока.
– С сегодняшнего дня за водой будем ходить на Цзяолунхэ, – непререкаемым тоном заявила вторая сестра, глядя в глаза матушке. Та не возразила.
Третья сестра, насупившись, стала сетовать на скверный запах от вареного турнепса и снова предложила продать муленка, а на вырученные деньги купить мяса.
– Все вокруг замерзло и завалено снегом, где его продавать? – язвительно вставила матушка.
– Тогда диких кроликов ловить пойдем, – не сдавалась Линди. – Им в такую стужу далеко не убежать.
Матушка аж в лице переменилась:
– Запомните, дети: в этой жизни я больше ни одного кролика видеть не хочу!
Той суровой зимой во многих домах кроличье мясо действительно поднадоело. Толстые и жирные, кролики ползали по снегу хвостатыми личинками, и их могла поймать даже женщина с маленькими ножками. Лисам и корсакам было просто раздолье. Из-за войны деревенские остались без оружия: все охотничьи ружья реквизировали разномастные партизанские отряды. Опять же из-за войны настроение у людей было подавленное, и в разгар охотничьего сезона лисам не нужно было, как прежде, опасаться за свою жизнь. Долгими ночами они вольно шастали по болотам, и самок, нагулявших приплод, было больше обычного.
Третья и четвертая сестры несли на шесте большую деревянную бочку, вторая сестра тащила огромный молот. Так, втроем, они и отправились на речку. Проходя мимо дома тетушки Сунь, они невольно поглядывали на него. Во дворе царило запустение, вид у дома был нежилой. Стая ворон на окружавшей двор стене заставила вспомнить, как здесь было раньше. Кипевшая жизнь ушла в прошлое, немые исчезли неизвестно куда. Проваливаясь по колено в снег, девочки спустились с дамбы. Из кустов на них уставились несколько енотов. Под косыми солнечными лучами, падавшими с юго-востока, ложе реки сияло ослепительно-ярким светом. Под ногами хрустели тонкие белые лепешки припая. На середине реки лед отливал синевой – твердый, скользкий, блестящий. Сестры брели осторожно, но четвертая все же поскользнулась, а за ней повалились и остальные. Под девичий смех шест с бочкой и молот с грохотом упали на лед.
Вторая сестра выбрала место почище, подняла тоненькими руками молот, служивший семье Шангуань не одно поколение, и обрушила его на лед. Лед хрустнул, как под лезвием острого ножа, и от этого звука зашуршала бумага на окне нашего дома.
– Слышишь, Цзиньтун, – проговорила матушка, поглаживая соломенные волосики у меня на голове и шерсть рыси на курточке, – это твои старшие сестры лед колют. Вырубят большую прорубь, принесут бочку воды и полбочки рыбы.
Восьмая сестренка лежала в углу кана, свернувшись клубочком в своей рысьей курточке, и улыбалась странной улыбкой – этакая маленькая мохнатая Гуаньинь.
После первого удара на льду обозначилась белая точка с грецкий орех, на молот налипли мелкие льдинки. В третий раз сестра поднимала его уже с заметным усилием и опускала покачиваясь. Вторая точка на льду появилась почти в метре от первой. Когда точек стало больше двадцати, Чжаоди уже тяжело дышала, изо рта у нее валил пар. Еле подняв тяжелую железяку, она опустила ее из последних сил и свалилась сама. Лицо мертвенно побледнело, толстые губы стали пунцовыми, глаза затуманились, нос покрылся кристалликами пота.
Третья и четвертая сестры начали недовольно ворчать. С севера задул ветер, он резал лица, как ножом. Вторая сестра поднялась, поплевала на ладони и опять взялась за молот. Но после пары ударов упала снова.
Отчаявшись, сестры вздели бочку на шест и собрались в обратный путь. Они уже смирились с мыслью, что для готовки придется и дальше растапливать снег. В это время на скованной льдом реке появилась дюжина саней. Они мчались во весь опор, вздымая снежную пыль. Солнечный свет отражался от поверхности льда всеми цветами радуги. К тому же сани приближались с юго-востока, и второй сестре сначала показалось, что они скользнули на землю по солнечным лучам, отбрасывая золотистые отсветы. В серебристом блеске мелькали лошадиные копыта, звонко цокали подковы, на щеки сестер сыпались разлетавшиеся во все стороны кусочки льда. Сестры стояли, разинув рот, и даже не пытались убежать. Сани описали круг и остановились как вкопанные. Оранжево-желтые, они были покрыты толстым слоем тунгового масла и отливали радужным блеском. В санях сидело по четыре человека, все в пышных лисьих шапках. Усы, брови, ресницы у них, даже шапки спереди были сплошь в инее. Изо рта и ноздрей валил густой пар. По невозмутимости лошадок – изящных, словно точеных, с густой шерстью на ногах – вторая сестра догадалась, что это легендарная монгольская порода. Из вторых саней выскочил высокий мужчина в заношенной куртке из овчины, распахнутой на груди. Под ней виднелась телогрейка из шкуры леопарда, перехваченная широким кожаным поясом, на котором висели револьвер и топорик с короткой ручкой. У него одного шапка была не меховая, а фетровая, с тремя клапанами из кролика.
– Вы из семьи Шангуань, девушки? – спросил он.
Это был не кто иной, как Сыма Ку, младший хозяин Фушэнтана.
– Что делаете? А-а, прорубь! Ну, это работа не для девичьих рук! – И крикнул сидящим в санях: – Все слезайте, поможем соседям с прорубью, а заодно и лошадей напоим!
Из саней вылезло несколько десятков упитанных молодцев, они громко отхаркивались и сплевывали. Некоторые опустились на корточки, вынули из-за пояса топорики и принялись рубить лед. Осколки летели во все стороны, но во льду образовалось лишь несколько белых выбоин. Один бородач потрогал острие топорика, высморкался и сказал:
– Брат Сыма, коли так рубить, боюсь, и до ночи не управимся.
Сыма Ку, вытащив свой топорик, тоже присел на корточки. Попробовал рубануть несколько раз и выругался:
– Ну и замерз, мать его! Крепкий как сталь.
– Давай-ка, брат, все помочимся здесь, а ну и поможет, – предложил бородач.
Сыма лишь выругался:
– Трепач хренов! – Но тут же восторженно хлопнул себя по заду – и даже рот приокрыл, потому что обожженное место еще не зажило: – Придумал! Техник Цзян, иди-ка сюда. – Подошел худощавый человек и молча уставился на него, всем своим видом показывая, что ждет указаний. – Эта твоя штуковина лед расколоть может?
Цзян презрительно усмехнулся:
– Расквасит, как молот яйцо. – Голос у него был по-бабьи визгливый.
– Тогда быстренько сделай мне здесь… восемью восемь… шестьдесят четыре проруби, пусть землякам от Сыма Ку польза будет. А вы не уходите, – добавил он, обращаясь к сестрам.
Цзян откинул холстину на третьих санях и достал пару окрашенных в зеленое стальных штуковин, похожих на большие артиллерийские снаряды. Уверенными движениями вытащил длинный шланг из красной резины и намотал на головки этих штуковин. Затем глянул на круглый циферблат, на котором покачивалась тонкая и длинная красная стрелка. Надев брезентовые рукавицы, он щелкнул металлическим предметом, похожим на большую опиумную трубку, который был подсоединен к двум резиновым шлангам, и крутанул. Послышалось шипение выходящего газа. Его помощник, костлявый парень лет пятнадцати, чиркнул спичкой, поднес к струе газа, и она с гудением полыхнула тоненьким, не больше червя тутового шелкопряда, голубым язычком. По команде Цзяна парень влез на сани, повернул несколько раз головки стальных штуковин, и голубой язычок стал ослепительно-белым и ярким, ярче солнечного света. Взяв «опиумную трубку» в руки, Цзян вопросительно взглянул на Сыма Ку. Тот прищурился и махнул рукой:
– Валяй!
Склонившись, Цзян направил белое пламя на лед. Под громкое шипение вверх на целый чжан стали подниматься молочно-белые клубы пара. Направляемая его рукой и изрыгающая белый огонь «опиумная трубка» очертила большой круг.
– Готово, – объявил Цзян, подняв голову.
Сыма Ку с сомнением склонился надо льдом: действительно, в воде, вместе с мелкими обломками, плавала большая – с мельничный жернов – глыба. Цзян перерезал ее белым огнем крест-накрест и ногой загнал эти четыре куска под лед, чтобы их унесло течением. Образовалась прорубь, в которой плескалась голубая вода.
– Славно сработано! – одобрил Сыма Ку; столпившиеся вокруг бойцы восхищенно взирали на Цзяна. – Режь дальше!
И Цзян со всем тщанием прорезал в толстом, полуметровом льду Цзяолунхэ несколько десятков прорубей. Круги и квадраты, прямоугольники и треугольники, трапеции и восьмиугольники, некоторые даже в шахматном порядке, – они напоминали страницу учебника по геометрии.
– Ну, Цзян, первый опыт – первый успех! – заключил довольный Сыма Ку. – И скомандовал: – По саням, ребята, надо успеть к мосту до темноты. Но сперва напоите лошадей, напоите из реки!
Лошадей повели к прорубям на водопой, а Сыма Ку обратился к Чжаоди:
– Ты ведь вторая старшенькая? Вернешься домой – скажи матери, что в один прекрасный день я разобью-таки этого драного черного осла Ша Юэляна и верну твою сестру старшему немому Суню.
– А вы знаете, где она? – бойко спросила вторая сестра.
– С ним, с этим торговцем опиумом. С ним и его отрядом стрелков, так их и этак.
Других вопросов задать Чжаоди не осмелилась, лишь проводила его глазами до саней. Он уселся, и все двенадцать саней стрелой помчались на запад. У каменного моста через Цзяолунхэ они повернули и исчезли из виду.
В восторге от только что увиденных чудес сестры даже про мороз забыли. Им никак было не насмотреться на проруби: они переводили взгляды с треугольной на овальную, с овальной на квадратную, с квадратной на прямоугольную… Ноги промокли и вскоре обледенели. Легкие переполняла поднимавшаяся из прорубей речная свежесть. Все трое исполнились благоговейного преклонения перед Сыма Ку. Перед глазами стоял славный пример старшей, Лайди, и в еще не сформировавшемся сознании второй сестры зародилась смутная мысль: «Хочу замуж за Сыма Ку!» – «У него три жены!» – прозвучало холодным предупреждением. «Тогда буду четвертой!»
– Сестра, тут мяса дубина целая! – испуганно воскликнула Сянди.
«Дубиной» оказался здоровенный угорь, всплывший из мрака речного дна и неуклюже ворочавший серебристо-серым телом. Угрюмые глаза на большой, с кулак, голове напомнили о змее, страшной и безжалостной. Голова пускала пузыри у самой поверхности.
– Угорь! – восторженно воскликнула Чжаоди. Схватив бамбуковый шест с крючком на конце, она ударила по этой голове, вспенив воду. Угорь ушел вниз, но тут же всплыл опять. Удар пришелся ему по глазам. После второго сокрушительного удара он стал двигаться все медленнее и медленнее и наконец затих совсем. Сестра отбросила шест, ухватила рыбину за голову и вытащила из воды. Угорь тут же закоченел на морозе и действительно превратился в настоящую дубину.
Набрав воды, сестры еле добрались до дому: третья и четвертая несли бочку, а вторая сестра одной рукой тащила молот, а другой, под мышкой, – угря.
Матушка отпилила угрю хвост и разрезала тулово на восемнадцать частей – они со стуком падали на землю. Угря из Цзяолунхэ сварили в воде из Цзяолунхэ, и суп получился – пальчики оближешь. С того дня матушкина грудь вновь обрела молодость, хотя морщинки, как замятины на книжной странице, остались.
После того как мы вволю наелись этого чудесного рыбного супа, улучшилось и матушкино настроение. Ее лицо вновь сияло добротой, как лик Девы Марии или бодхисатвы Гуаньинь. Облепив ее, как листочки лотосового трона, сестры слушали матушкины рассказы о дунбэйском Гаоми. В тот уютный вечер в доме царила любовь. На Цзяолунхэ завывал северный ветер, печная труба выводила трели что твой свисток. Во дворе потрескивали, раскачиваясь под ветром, обледенелые ветви деревьев; на камень, где отбивали белье, с крыши упала сосулька и со звоном разлетелась на мелкие кусочки.
– В правление под девизом Сяньфэн42 династии Цин, – рассказывала матушка, – здесь еще никто постоянно не жил. Летом и осенью сюда приходили ловить рыбу, собирать лекарственные травы, тут разводили пчел, пасли коров и овец. Откуда взялось название Далань?43 Говорят, ветви деревьев переплелись между собой и образовали изгородь, поэтому здесь останавливались пастухи со стадами овец. Зимой здесь охотились на лис, но все охотники, слышала я, умирали не своей смертью. Если не замерзали в пургу, то заболевали дурной болезнью. Позже – в каком году и месяце, неведомо – обосновался здесь один человек могучей силы и великой храбрости. Звали его Сыма Да Я, это дед братьев Сыма Тина и Сыма Ку. Да Я – его прозвище, а настоящего имени никто не знает. Хоть его и прозвали Да Я – Большой Зуб, – передних зубов у него не было вовсе, и говорил он пришепётывая. Да Я построил себе шалаш на берегу реки и добывал пропитание острогой и ружьем. Рыбы в те времена было хоть отбавляй – в реке, в вымоинах, в низинках – наполовину вода, наполовину рыба. Однажды летом сидел он на берегу с острогой. Глядь – по течению плывет большой глазурованный чан. Пловец Да Я был отменный и мог провести под водой столько, сколько надобно, чтобы трубку выкурить. Нырнул он в реку и вытащил чан на берег. А в чане – девушка в белом платье, слепая. – При этих словах мы все повернули головы к нашей слепой – Юйнюй. Она слушала, склонив голову набок, на больших ушах четко проступали кровеносные сосуды. – Девушка эта была просто красавица, – продолжала матушка. – Если бы не слепота, хоть за императора выдавай. Потом родила она мальчика и умерла. Да Я выкормил ребенка рыбным супом и дал ему имя Сыма Вэн44. Это был батюшка Сыма Тина и Сыма Ку.
Далее матушка рассказала, как власти переселяли в дунбэйскую глубинку народ, поведала о дружбе Сыма Да Я со старым кузнецом Шангуанем, нашим прадедом, о том, как тогда в Дунбэе началось движение ихэтуаней45, как Сыма Да Я вместе с нашим дедом устроили с германцами, которые прокладывали железную дорогу, яростное сражение при Дашалян – большой песчаной гряде к западу от деревни: вспоминая о нем, не знаешь – плакать или смеяться. А дело было так. Прослышали они, что у германцев нет коленок и ходят они на негнущихся ногах. Еще прознали, что германские черти чистюли страшные и больше всего боятся испачкаться в дерьме: от него их воротит так, что могут и дуба дать. Еще заморских чертей называли ягнятами46, а ягнята больше всего боятся тигров и волков. Вот эти два первопроходца из Гаоми и сколотили из любителей вина и мацзяна47, а также из другого отребья отряд «Хулан» – «Тигры и волки». Все, ясное дело, молодцы хоть куда: и смерти не страшились, и воинскими искусствами владели отменно. С этим отрядом Сыма Да Я и наш дед Шангуань Доу задумали заманить германских солдат на большую песчаную гряду, чтобы их несгибающиеся костыли-ноги увязли в песке. Бойцы отряда раскачают подвешенные на ветках чаны с дерьмом и бутыли с мочой и окатят чистоплюев-германцев. Тем станет так худо, что они тут же и окочурятся. В исполнение этой задумки «тигры» и «волки» под водительством Сыма Да Я и Шангуань Доу целый месяц собирали дерьмо и мочу, наполняли ею оплетенные бутыли из-под вина и отвозили на Дашалян. Место, где прежде разносился аромат цветущих софор, так провоняло, что пчелы, прилетавшие туда каждый год за нектаром, дохли тысячами…
В тот чудный вечер, когда мы, погрузившись в распалявшую воображение историю дунбэйского Гаоми, пытались представить себе эту великую битву, родной внук Да Я, Сыма Ку, проезжал по льду под железнодорожным мостом через Цзяолунхэ в тридцати ли от деревни – здесь и проходила построенная германцами железная дорога Цзяоцзи48, – готовясь открыть новую страницу в истории нашего края. Героическая борьба с германцами отряда «Хулан», бойцы которого сражались, не жалея жизни и используя самые невероятные способы, на какое-то время задержала ее строительство. Но потом эта железная полоса все же рассекла мягкое подбрюшье дунбэйского Гаоми на две половины. Как выразился по этому поводу Сыма Вэн, «это все равно, мать их, что животы нашим женщинам вспороть». И вот огромный железный дракон, изрыгая густой дым, покатился по Гаоми, как по нашей груди. Сейчас тут хозяйничали японцы. Они отправляли по этой дороге наш уголь и хлопок, чтобы потом обрушить все это на наши же головы в виде пуль и снарядов. Задумав разрушить железнодорожный мост, Сыма Ку, можно сказать, продолжал дедовские традиции во славу нашего края. Вот только средства у него, ясное дело, были совершеннее, чем у предков.
Три Звезды49 клонились к западу, над верхушками деревьев повис серп луны. Мост гудел под лютовавшим на реке западным ветром. Мороз в тот вечер был такой, что даже лед на реке покрылся широкой паутиной трещин, и треск стоял громче ружейной пальбы. Возле моста санная колонна остановилась. Сыма Ку выскочил из саней первым. Зад болел так, будто кошки искусали. На небе тускло мерцали звезды, чуть отсвечивал прибрежный припай, а вокруг царила кромешная мгла. Он похлопал в ладоши, и хлопки раскатились в морозном воздухе. Загадочный мрак волновал и бодрил. Позже на вопросы о том, как он чувствовал себя перед этой операцией, Сыма Ку отвечал: «Отлично. Будто Новый год праздновал».
Держась за руки и осторожно ступая, бойцы зашли под мост. Сыма Ку забрался на опору и, достав из-за пояса топорик, рубанул по одной из ферм. Лезвие высекло большущую искру, и стальная конструкция резко загудела.
– Бабку твою за ногу! – выругался Сыма Ку. – Сплошная сталь.
Вечернее небо с шелестом прочертила падающая звезда. Длинный хвост разлетелся красивыми голубыми искорками, которые ненадолго осветили пространство между небом и землей, и ему удалось разглядеть бетонные опоры моста и переплетения стальных ферм.
– Цзян! – крикнул он. – Иди-ка сюда!
Под одобрительный гул товарищей Цзян забрался на опору, следом стал карабкаться его юный помощник. На опоре, как грибы, наросли глыбы льда. Сыма Ку протянул парню руку, но сам при этом поскользнулся. Парень устоял, а Сыма Ку грохнулся вниз, на лед, причем тем самым местом, откуда беспрестанно сочилась кровь с гноем.
– Мамочки! – заорал он. – Больно-то как, сдохнуть можно…
Подбежавшие бойцы стали поднимать его, а он продолжал жалобно сетовать, и его вопли разносились далеко в округе.
– Потерпи чуток, брат, – увещевал его один из бойцов, – не то плакала наша конспирация.
Сыма Ку тут же умолк и, дрожа всем телом, скомандовал:
– Цзян, быстро за дело. Несколько разрезов – и ходу отсюда. Все этот Ша Юэлян, мать его, со своей мазью. Чем больше втираешь, тем хуже становится, – добавил он.
– Вот ты и раскрыл коварный план этого типа, брат, – ухмыльнулся еще один боец.
– Болячка скрутит – любому лекарю обрадуешься, – огрызнулся Сыма Ку.
– Потерпи, брат, – продолжал боец. – Вот возвернемся, попользую тебя барсучьим жиром. Любые ожоги лечит на все сто, намажешь – и всё как рукой снимет.
Меж балок моста с шипением взметнулись голубые искры – голубые с белым, белые с голубым, – и вспыхнул такой яркий свет, что заслезились глаза. Явственно обозначились пролеты моста, опоры, балки, фермы, полушубки из собачьего меха, лисьи шапки, оранжево-желтые сани, запряженные в них монгольские лошадки… Все стало видно как на ладони. Техник Цзян и его подмастерье, пристроившись на балке, как обезьяны, резали ее вырывающимся из «опиумной трубки» дьявольским пламенем. Поднимавшийся молочно-белый дым стелился по руслу реки, и вокруг разносился необычный запах расплавленного металла. Сыма Ку следил за этими искрами и за сверкавшей, как молния, аркой света будто завороженный, даже о мучившей его боли забыл. Язычки пламени вгрызались в металл, как червячки шелкопряда в тутовые листья. Прошло совсем немного времени, и одна из балок, тяжело свесившись вниз, ткнулась под углом в лед.
– Режь, режь эту хреновину к чертям собачьим! – орал Сыма Ку.
– В том сражении, где в ход пошли дерьмо с мочой, наш дед и Да Я, по правде говоря, одержали бы победу, окажись дошедшие до них сведения верными, – продолжала свой рассказ матушка. – После того как их планы рухнули, разбежавшиеся бойцы отряда «Хулан» провели свое расследование и через полгода, опросив тысячи людей, в конце концов выяснили, что первым о том, будто у германцев нет коленок и что они окочурятся, если их облить дерьмом, узнал сам предводитель отряда «Хулан» Сыма Да Я, а ему эти сведения сообщил его сын от слепой девушки Сыма Вэн. Проводившие расследование вытащили Сыма Вэна из постели проститутки и предложили сознаться, откуда у всей этой истории ноги растут. Тот заявил, что это слова Ипиньхун, девицы из заведения «Забудь печаль». Приступили к Ипиньхун, но та напрочь отрицала, что говорила что-либо подобное. Признала только, что принимала техников-германцев, строителей и проектировщиков, да и солдатню тоже: «Вон, все ляжки истолкли своими коленками – такие они у них твердые и здоровенные. Разве я могла такую глупость сморозить!» Тут ниточка и оборвалась. Разбежавшиеся «тигры» и «волки» вернулись к своим делам – кто рыбу ловить, кто землю возделывать.
Матушкин дядя Юй Большая Лапа в то время был парень молодой, задорный и, хотя в отряд «Хулан» не попал, в сражении участие принял: притащил пару-тройку вил навоза. Он рассказывал, что, когда германцы перешли мост, Да Я запустил в них хлопушку, Шангуань Доу пальнул из берданки, и отряд стал отступать к песчаной гряде Дашалян. Германцы за ними. Черные шляпы с разноцветными перьями неспешно покачивались при ходьбе. Зеленые мундиры, усыпанные медными пуговицами, белоснежные брюки в обтяжку. Казалось, их тонкие и длинные ноги на бегу не сгибаются, будто они и впрямь без коленок. Дойдя до Дашалян, отряд выстроился в одну шеренгу и давай костерить германцев на все лады; ругательства так и сыпались, причем в рифму, – тут постарался учитель деревенской частной школы Чэнь Тэнцзяо.
– Как только «тигры» и «волки» начали выкрикивать ругательства, германские черти по команде припали на одно колено. Кто говорил, что у германцев ноги в коленях не сгибаются? Пока изумленный дядя соображал, в чем тут дело, – продолжала матушка, – из стволов германских винтовок завился дымок, и раздался звук ружейного залпа. Несколько хулителей, обливаясь кровью, попадали на землю. Увидев, что дело худо, Да Я спешно скомандовал забрать тела убитых и отходить к песчаной гряде. Увязая ногами в зыбучем песке, все не переставали размышлять о коленках германцев. Те преследовали их по пятам и продвигались по глубокому песку ненамного неуклюжее «тигров» и «волков». Более того, под брюками в обтяжку ясно обозначились ходившие ходуном большие коленные чашечки. Отряд охватила паника. Да Я тоже нервничал, но держался: «Ничего, братцы, раз они не увязли в песках, у нас для них еще кое-что имеется». Германцы в это время как раз преодолели песчаную западню. Как только они вошли в рощицу софоры, прадед ваш громко скомандовал: «Тяни!» – и несколько дюжин «тигров» и «волков» потянули за зарытые в песке веревки. Чаны и бутыли, висевшие на ветвях и скрытые от глаз красно-белыми цветками, стали опрокидываться, и на головы германских чертей обрушился ливень дерьма и мочи. Несколько плохо закрепленных чанов с дерьмом рухнули вниз, не успев опорожниться, и от удара по голове один из чертей скончался на месте. Яростно оскалившись и вопя во всю глотку, германцы один за другим отступили, волоча за собой винтовки. Дядюшка утверждал, что, если бы тогда «тигры» и «волки», подобно настоящей стае свирепых тигров и волков, бросились за ними, развивая успех, из восьмидесяти с лишним германцев не осталось бы в живых ни одного. Но отряд знай себе хлопал в ладоши и хохотал, позволив германцам добраться до речки и попрыгать в воду, чтобы смыть с себя нечистоты. «Тигры» и «волки» ожидали, что германцы захлебнутся собственной рвотой, но те, смыв грязь, снова взялись за винтовки и дали залп. Одна пуля вошла прямо в рот Да Я и вышла через макушку. Он и хмыкнуть не успел. Германцы тогда весь Гаоми сожгли начисто. Прислал солдат и Юань Шикай50. Они-то и схватили вашего прадеда Шангуань Доу. Для устрашения остальных его казнили посреди деревни под большой ивой самой страшной казнью: заставили ходить босым по раскаленным чугунным сковородкам. В день казни весь Гаоми гудел как пчелиный рой, посмотреть пришли более тысячи человек. Наша прабабка видела всё собственными глазами. Сначала на камнях установили восемнадцать сковородок, развели под ними огонь и раскалили докрасна. Затем палач подхватил прадеда под руки и повел по этим сковородкам босыми ногами. От ног поднимался коричневатый дымок, разнеслась омерзительная вонь. Вспоминая об этом, прабабка потом еще долго падала в обморок. По ее словам, Шангуань Доу недаром был кузнец: могучий телом и духом, с полным ртом золотых зубов, он принимал эту пытку с плачем и воплями, но о пощаде не молил. Он дважды прошел по сковородкам туда и обратно, ноги его превратились в нечто невообразимое. Потом ему отрубили голову и выставили в цзинаньской управе на всеобщее обозрение.
– Ну вот, уже недолго осталось, брат, – сказал Сыма Ку боец, обещавший попользовать его барсучьим жиром. – Поезд должен подойти до рассвета.
Под мостом валялось уже с десяток отрезанных балок, а на мосту еще сверкало бело-голубое пламя.
– Сукины дети, – злобно пыхтел Сыма Ку. – Еще легко отделаются. Ты уверен, что под тяжестью поезда мост рухнет?
– Если резать дальше, брат, боюсь, он и без поезда рухнет!
– Тогда ладно. Цзян! Эй, Цзян, слезай! – крикнул Сыма Ку. – А вы, – обратился он к остальным бойцам, – помогите эти двум славным парням спуститься и выдайте в награду по бутылке гаоляновки.
Голубые искры погасли. Цзяна и его помощника с почтением приняли и усадили в сани. Близился рассвет: ветер стих, мороз стал еще злее и пробирал до костей. Монгольские лошадки потянули сани, осторожно ступая в полумраке. Через пару ли Сыма Ку скомандовал остановиться:
– Полночи трудились, а теперь полюбуемся представлением.
Поезд появился, когда небо чуть подернулось красным. Река протянулась светлой полосой, деревья на берегах отливали золотой и серебряной глазурью. Мост висел молчаливой глыбой. Сыма Ку нервно потирал руки и еле сдерживался, чтобы не выругаться. Погромыхивая, состав надвигался все ближе. У самого моста он дал свисток, и этот звук эхом раскатился по округе. От паровоза поднимался черный дым, из-под колес вырывались клубы пара, от грохота и лязга аж лед на реке подрагивал. Бойцы напряженно следили за приближающимся составом, лошади прижали уши к гривам. Поезд, эта, казалось бы, безудержная грубая сила, ворвался на мост, который стоял нерушимо, как скала. На какой-то миг лица Сыма Ку и его бойцов залила бледность, но в следующую секунду они уже с радостными криками прыгали по льду. Сыма Ку, несмотря на свою довольно серьезную рану, кричал громче всех и прыгал выше всех. Огромный мост обрушился в считаные секунды, все посыпалось вниз: шпалы, рельсы, песок и гравий, земля вместе с паровозом. Паровоз врезался в одну из опор, и она тоже рухнула. Потом раздался оглушительный грохот, и вверх на несколько десятков чжанов взлетели, купаясь в лучах солнца, куски льда, огромные камни, перекрученные металлические конструкции и разнесенные в щепки шпалы. Несколько десятков нагруженных доверху вагонов навалились друг на друга: одни упали в реку, другие сошли с рельс и опрокинулись, а потом пошли взрывы. Начались они с вагона, груженного взрывчаткой, затем стали рваться снаряды и патроны. Лед растрескался, и в воздух поднялись столбы воды. Вместе с водой вылетала рыба, креветки, вверх подбросило даже несколько зеленых черепах. На голову одной из лошадей упала нога в высоком ботинке: удар был такой силы, что у оглушенной лошади подкосились передние ноги, из гривы вырвало два клока волос. Колесо поезда весом, наверное, цзиней с тысячу пробило лед, и поднятый им фонтан воды окатил всё вокруг жидким илом. От мощных взрывов у Сыма Ку заложило уши, и ему оставалось лишь наблюдать, как запряженные в сани лошади бестолково тычутся друг в друга, словно мухи. Бойцы застыли кто стоя, кто сидя; из уха у одного из них сочилась черная струйка крови. Сыма Ку закричал, но не услышал собственного голоса. Бойцы тоже раскрывали рот, что-то крича, но слов было не разобрать.
Совершенно обессиленный Сыма Ку довел-таки свой санный отряд до места, где они накануне вырезали полыньи. Мои сестры – вторая, третья и четвертая – опять ходили туда за водой и за рыбой, но за ночь полыньи покрылись льдом в цунь толщиной, и Чжаоди пришлось долбить лед молотком с короткой ручкой и пешней. Когда туда добрался Сыма Ку с отрядом, лошади потянулись к воде. Но через несколько минут они затряслись всем телом, ноги у них задергались, они рухнули на лед и передохли: холодная вода разорвала расширившиеся до предела легкие.
Страшные взрывы на юго-западе в то утро ощутила каждая живая тварь в Гаоми: люди, лошади, ослы, коровы, куры, собаки, гуси, утки. Даже змеи, приняв их за весенний гром во время цзинчжэ51, повылезали из нор и замерзли в полях.
На отдых Сыма Ку привел отряд в деревню. Сыма Тин встретил их отборными ругательствами, каких во всем Китае не услышишь. Но им, оглохшим, казалось, что тот рассыпает похвалы, потому что Сыма Тин сохранял самодовольное выражение на лице, даже когда ругался. Сыма Ку окружили трое жен – каждая со своим тайным снадобьем, секрет которого передавался из поколения в поколение, – с намерением попользовать обожженные и обмороженные места на заднице своего единственного мужчины. В результате пластырь, наложенный старшей женой, отодрала вторая, которая пришла с мазью из десятка лучших китайских лекарственных трав, а сначала ей необходимо было промыть больное место. Третья жена стерла мазь и присыпала больные места порошком из толченых сосновых и кипарисовых иголок и корней остролиста, смешанных с яичным белком и пеплом от крысиных усиков. Кожа без конца то смачивалась, то подсыхала, и к старым болячкам добавились новые. Дошло до того, что Сыма Ку надел ватные штаны, затянул на себе два ремня, и стоило появиться любой из жен, он тут же хватался за топорик или вытаскивал револьвер. Рану ему так и не вылечили, а вот слух вернулся.
Первое, что он услышал, была злобная ругань старшего брата:
– Из-за тебя, сучий потрох, вся деревня пострадает, вот увидишь!
Сыма Ку протянул маленькую ручку, такую же мягкую и розовую, с мясистыми пальцами и тонкой кожей, как у брата, и взял его за подбородок. Сыма Тин всегда брился чисто, и, глядя на пробивающуюся рыжеватую бородку из вьющихся волосков и на растрескавшиеся губы, Сыма Ку грустно покачал головой:
– Мы сыновья одного отца, так что, ругая меня, ты ругаешь себя. Давай, крой, коли нравится! – И убрал руку.
Разинув рот, Сыма Тин уставился на широкоплечую фигуру брата. Покачал головой, взял гонг, вышел из ворот дома, неуклюже забрался на вышку и стал вглядываться в направлении северо-запада.
Сыма Ку еще раз съездил с отрядом к мосту, привез кусок рельса, перекрученный как жаренный в масле хворост, ярко-красное колесо от паровоза, а также груду кусков железа и меди непонятного происхождения. Все это он разложил на главной улице перед входом в церковь и похвалялся перед земляками своими боевыми подвигами. Он раз за разом рассказывал собравшимся зевакам, как разрушил мост и пустил под откос японский воинский эшелон, и в уголках рта у него пенилась слюна. Эта история постоянно обрастала все новыми животрепещущими подробностями, становилась ярче и интереснее и в конце концов уже мало отличалась от «Фэн шэнь яньи»52. Самой преданной слушательницей Сыма Ку была моя вторая сестра, Чжаоди. Сначала одна из многих собравшихся, она затем стала одним из очевидцев применения нового оружия, а потом оказалось, что она тоже принимала участие в операции по разрушению моста. Она якобы следовала за Сыма Ку с самого начала, вместе с ним забралась на опору, вместе с ним и упала оттуда. Когда Сыма Ку морщился от боли, она тоже строила гримасу, будто у них болело одно и то же место.
Матушка всегда говорила, что в семье Сыма все мужчины с прибабахом. Эта девица, что приплыла в чане, красоты редкостной, но незрячая. Да и говорила так, что ничего не разберешь. Не то чтобы слов не понять – смысла не уяснить. В общем, если не лиса-оборотень, то уж точно душевнобольная. Ну и какое может быть у такой женщины потомство? Матушка уже поняла, что у Чжаоди на уме, и предчувствовала: скоро история с Лайди повторится. С тревогой вглядываясь в черные глаза дочери, матушка видела, что они горят устрашающей страстью, и поражалась, как у семнадцатилетней девушки могут быть такие пунцово-красные, бесстыдно набухшие губы. Ясное дело – молодая телушка, лишь одно в голове.
– Чжаоди, доченька, – как-то попробовала она подступиться к ней. – Ты хоть знаешь, сколько тебе годов?
Вторая сестра посмотрела на нее вызывающе:
– А тебя в моем возрасте разве уже не выдали за отца? А твоя тетушка – она сама мне говорила – в шестнадцать уже двойню родила, двух ребятеночков, пухленьких, как поросята!
Раз дело дошло до таких речей, матушке оставалось лишь вздыхать. Но вторая сестра не унималась:
– Я знаю, ты сейчас скажешь, что у него уже есть три жены. Значит, буду четвертой. Можешь еще сказать, что он на целое поколение старше. Но фамилии у нас разные, родней мы друг другу не приходимся, так что никакие правила не нарушаются.
Матушка отказалась от мысли повлиять на Чжаоди, предоставив ей возможность поступать как вздумается. Внешне она казалась спокойной, но по вкусу молока можно было судить, какие в душе у нее бушуют страсти. В те дни, когда вторая сестра хвостиком ходила за этим бесшабашным болтуном Сыма Ку, матушка заставила остальных шестерых сестер копать тайный ход из подвала с турнепсом к южной стене, где были свалены стебли гаоляна. Часть выкопанной земли сбросили в уборную, часть перетаскали в ослиный хлев, а остальное ссыпали в старый колодец рядом с гаоляном.
Праздник Чуньцзе53 прошел мирно. В праздник фонарей матушка вечером взвалила меня на спину, и вместе с сестрами мы пошли любоваться фонарями. Их вывешивали у каждого дома, но всё небольшие. Два огромных – с чан для воды – красных фонаря висели лишь на воротах Фушэнтана. В каждом горела большая и толстая – толще моей руки – свеча из бараньего жира. Пламя колебалось, и фонари радовали глаз своим светом. Где была в это время Чжаоди? Таким вопросом матушка уже и не задавалась. Вторая сестра стала у нас в семье партизанкой и могла пропадать три дня подряд, а могла вдруг и появиться. Пришла она и в новогоднюю ночь, когда мы собирались пускать хлопушки в честь бога богатства Цайшэня. Черная накидка наброшена на плечи так, чтобы был виден стягивающий тонкую талию ремень из воловьей кожи и засунутый за него, отливающий металлическим блеском револьвер.
– Вот уж не думала, что в семье Шангуань появится еще одна разбойница с большой дороги! – с издевкой проронила матушка.
Она чуть не плакала, а губы второй сестры едва дрогнули в улыбке. Это была улыбка влюбленной девушки, и матушке показалось, что ее еще можно наставить на путь истинный.
– Чжаоди, я не могу допустить, чтобы ты стала наложницей Сыма Ку, – сказала она.
На это вторая сестра ответила холодным смешком – так усмехаются порочные женщины, – и лучик надежды в душе матушки угас.
В первый день нового года матушка пошла поздравить тетушку. Когда разговор зашел о Лайди и Чжаоди, тетушка – женщина пожилая и много повидавшая на своем веку – сказала:
– Что до любовных дел сыновей и дочерей, тут уж ничего не поделаешь, как выйдет, так и выйдет. К тому же с такими зятьями, как Ша Юэлян и Сыма Ку, ты горя знать не будешь. Эти двое – птицы высокого полета!
На что матушка ответила:
– Боюсь только, умрут они не своей смертью.
Но старуха и тут нашлась:
– Те, кто умирает своей смертью, большей частью никудышные трусы!
Матушка пыталась что-то возразить, но тетушка нетерпеливо махнула рукой, отметая ее слова, как назойливую муху:
– Дай на сынка-то твоего глянуть.
Матушка вытащила меня из «кармана» и положила на кан. Я со страхом смотрел на узкое, маленькое, изборожденное морщинами лицо матушкиной тетки и на ее глубоко посаженные ясные зеленые глаза. Выступающие надбровные дуги совершенно безволосые, зато глаза окружает густая желтоватая поросль. Костлявой рукой она погладила меня по голове, потрепала за ухо, ущипнула за кончик носа и даже залезла между ног, чтобы дотронуться до моего хозяйства. Мне страшно не понравились все эти ее оскорбительные вольности, и я стал изо всех сил отползать в угол кана. Но она заграбастала меня и заорала:
– А ну вставай, ублюдок маленький!
Матушка пыталась урезонить ее:
– Тетушка, ему всего семь месяцев, как он тебе встанет!
На что та отвечала:
– Я в семь месяцев уже собирала яйца из-под куриц для твоей бабки.
Матушка согласилась:
– Так это ты, тетушка! Ты у нас человек необычный.
Тетка не сдавалась:
– Думается мне, этот мальчонка тоже не из простых! Эх, бедный Мюррей!
Матушка покраснела, а потом лицо ее покрыла мертвенная бледность. Я подполз к краю кана, ухватился за подоконник и встал.
– Глянь-ка, я же говорила, что он может стоять, вот он и стоит! – захлопала в ладоши тетушка. – Ну-ка посмотри на меня, ублюдок маленький!
– Тетушка, его Цзиньтуном зовут, что ты его все ублюдком маленьким кличешь!
– Ублюдок или нет, это только его матери известно! Верно, племянница моя дорогая? К тому же я его так любовно называю – все равно что черепашонок, зайчонок, теленок. Иди сюда, ублюдок маленький! – позвала она.
Я повернулся на трясущихся ногах и взглянул на матушку, которая следила за мной со слезами на глазах.
– Цзиньтун, сыночек дорогой! – Она протянула ко мне руки, к ним я и устремился. Я умел ходить. – Мой сын ходит, – приговаривала матушка, крепко прижимая меня к себе, – мой сын ходит.
– Сыновья и дочери как птицы, – сурово проговорила матушкина тетка. – Придет им время улетать – не удержишь. Ну а ты? Я хочу сказать, а ну сгинут они все, как управляться будешь?
– Так и буду.
– Оно, конечно, верно, – не унималась тетка, – но, что бы ты ни делала, мыслями к небесам обращайся, к морям устремляйся; покажется – край самый, тогда в горы мысленно поднимайся, себя не обижай. Понимаешь, о чем я?
– Понимаю.
– Свекровь твоя жива еще? – поинтересовалась старуха, когда они прощались.
– Жива. Валяется в ослином дерьме.
– А ведь всю жизнь всех в кулаке держала, дрянь старая. Вот уж не думала, что докатится до такого!
Если бы не эта тайная беседа матушки с теткой, я в семь месяцев не сделал бы первых шагов, матушке было бы без интереса вести нас на улицу, и праздник фонарей прошел бы для нас скучно. Возможно, и история нашей семьи была бы не такой, как сейчас.
Народу на улице было много, но всё почти незнакомые. Все были исполнены чувства стабильности и единения. В толпе шныряло множество детей с «золотыми мышиными какашками», от которых с шипением разлетались искорки. Мы остановились перед Фушэнтаном, чтобы полюбоваться на висевшие с обеих сторон ворот громадины-фонари. В их размытом желтом свете на горизонтальной доске над воротами красовались золотые иероглифы благопожелательной надписи.