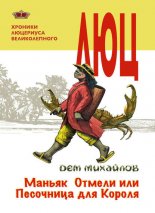Большая грудь, широкий зад Янь Мо

Через распахнутые настежь ворота были видны ярко освещенные внутренние дворики, оттуда доносились неясные звуки. Перед воротами собралось много народу. Все стояли молча, засунув руки в рукава, и, казалось, чего-то ждали. Бойкая на язык третья сестра спросила стоявшего рядом:
– Дядюшка, кашу раздавать будут, что ли?
Тот уклончиво покачал головой.
– Кашу будут давать только после праздника лаба54, барышня, – послышался голос сзади.
– А если каши не будет, чего вы тогда стоите? – обернулась Линди.
– Разговорную драму играть будут, – продолжал тот же голос. – Говорят, знаменитый актер из Цзинани приехал.
Сестра вознамерилась было сказать что-то еще, но матушка ее ущипнула.
Наконец из ворот Фушэнтана вышли четверо молодцев. Они несли длинные бамбуковые шесты с какими-то железяками наверху. Вырывавшиеся из этих штуковин слепящие языки пламени осветили все пространство перед воротами. Стало светло, как днем. Нет, даже светлее. С полуразрушенной церковной колокольни испуганно вспорхнули устроившиеся там дикие голуби и, громко воркуя, улетели во тьму.
– Газовые фонари! – крикнул кто-то из толпы.
Так мы узнали, что кроме масляных ламп, керосиновых ламп и фонарей со светлячками есть еще и газовые фонари и светят они ослепительно-ярко. Четверо смуглых молодцев возвышались перед воротами Фушэнтана четырьмя темными колоннами, образовав четырехугольник. Из ворот вышли еще несколько человек, они несли свернутую циновку из тростника. Проследовав в центр обозначенного четырьмя осветителями пространства, они бросили циновку на землю, развязали веревки, и она раскатилась. Потом нагнулись, потянули за углы и стали быстро перебирать черными волосатыми ногами. Ноги мелькали так быстро, а газовые фонари светили так ярко, что в глазах двоилось и казалось, что у каждого из этих бегущих по четыре ноги, а то и больше, и между ногами нечто вроде сверкающей паутины. От этого рябило в глазах и создавалось впечатление, что в паутине барахтаются маленькие жучки. Расстелив циновку, актеры выпрямились, повернулись к зрителям и застыли в театральной позе. Лица размалеваны разными цветами, будто крашеные куски меха. Тут и леопард, и пятнистый олень, и рысь, и полосатый барсук – любитель таскать съестные подношения из храмов. Быстро перебирая ногами – два шага вперед, шаг назад – и пританцовывая, они скрылись за воротами.
Под шипение газа мы молча ждали. Ждала и тростниковая циновка. Четверо молодцев с шестами превратились в черные каменные статуи. Неожиданно ударил гонг, и все вытянули шеи, чтобы разглядеть, что делается внутри, за воротами, но мешал белый экран55 с большим иероглифом «счастье», взятым в рамку. Казалось, прошла целая вечность, и вот наконец на сцене появилась физиономия Сыма Тина, старшего хозяина Фушэнтана. Бывший голова Даланя, а теперь глава Комитета поддержки, он, держа в руках гонг, покрытый вмятинами от колотушки, и будто нехотя ударяя в него, сделал круг на циновке. Потом вышел на середину и обратился к нам:
– Земляки! Деды и бабки, дядья и тетки, братья и сестры, сыновья и дочери! Мой младший брат добился успеха – разрушил железнодорожный мост. Эта добрая весть разнеслась далеко по округе, поздравить нас прибыли многочисленные родственники, они поднесли более двадцати благопожелательных свитков. Чтобы отметить эту выдающуюся победу, брат пригласил труппу актеров. Он и сам выйдет на сцену и сыграет роль в новой пьесе для просвещения сельских жителей. Давайте даже в праздник фонарей не забывать о героической войне Сопротивления! Не позволим япошкам топтать нашу родную землю! Сын Китая Сыма Тин больше не глава их Комитета поддержки! Земляки, мы, китайцы, не будем служить этим сукиным детям японцам!
Он произнес все это гладко и с выражением, поклонился зрителям и бегом вернулся к воротам, откуда уже выходили музыканты с хуцинем56, бамбуковой флейтой и пипа57, таща за собой табуретки.
Музыканты расположились у края циновки и стали настраивать инструменты под две ноты, которые давал флейтист. Высокие звуки снижались, низкие взмывали вверх. Голоса хуциня, пипа и флейты сплелись воедино, прозвучали вместе и смолкли. Вскоре появились ударные: барабаны, гонг, большие и малые цимбалы. И эти музыканты несли табуретки; усевшись напротив струнных, они тоже провели небольшую разминку. Наконец несколько раз монотонно ударил гонг, затем пронзительно рассыпалась барабанная дробь, следом вступили вместе хуцинь, пипа и флейта, свиваясь в мелодию, которая словно опутала нам ноги так, что и шагу не ступить, так оплела души, что и мысли в голову не шли. Мелодия – то нежная и печальная, то журчащая, будто что-то нашептывающая, – что за жанр такой? Так это же дунбэйский маоцян, в народе его еще называют женой, привязанной к колу58. Как говорится, когда исполняют маоцян, в голове смешиваются три начала и пять принципов;59 правда и то, что, когда маоцян слушаешь, отца с матерью забываешь. Подчиняясь этому ритму, пришли в движение ноги зрителей, стали подрагивать губы, затрепетали сердца. Напряжение достигло крайней точки, как стрела в натянутой тетиве. Пять, четыре, три, два, один – и вот зазвучал нежный голос. Устремившись вверх, он поднимался все выше и выше, пронзая небеса. «Я юная красавица, скромная, прелестная…» В воздухе еще дрожала эта пропетая на самой высокой ноте фраза, а в воротах появилась Чжаоди. С бархатным красным цветком в волосах, в синей куртке с запахом на сторону, широких шароварах, спускавшихся на синие вышитые туфли, с бамбуковой корзинкой в левой руке и с вальком в правой, она просеменила мелкими шажками, скользнув струйкой воды в ярко освещенное фонарями пространство, и застыла, приняв театральную позу. И брови-то уже у нее не брови, а полумесяцы на краю небес, и взгляд, которым она обвела всех нас, словно орошал живительной влагой; тонкий нос с горбинкой, пухлые губы краснее вишни в мае. Наступила тишина, и сдерживаемое напряжение множества неморгающих глаз, множества замерших сердец прорвалось в громких возгласах одобрения. Тело сестры пришло в движение, она пригнулась и обежала вокруг сцены: талия тонкая и гибкая, как весенняя ива над прудом, шаг легкий, словно скольжение змейки по колосьям пшеницы. Несмотря на безветрие, холод в тот вечер стоял страшный, а сестра была одета по-летнему. Матушка с изумлением отметила, как развилась ее фигура после съеденного угря. Два бугорка плоти на груди созрели с пекинскую грушу величиной и обрели правильную, красивую форму, продолжая славную традицию женщин из семьи Шангуань, которые всегда отличались пышным телом, а особенно большой грудью. Сестра сделала круг, но дышала ровно, выражение лица не изменилось. После паузы она пропела вторую строчку: «…стала женой храбреца Сыма Ку…» Пропела ровно, не взяв верхней ноты в конце, но эффект на слушателей произвела сильнейший. В толпе переглядывались и перешептывались: «Откуда эта девушка?» – «Из семьи Шангуань». – «А разве дочка из семьи Шангуань не сбежала с отрядом стрелков?» – «Так это вторая!» – «И когда она успела стать наложницей Сыма Ку?»
– Это же театральное представление, мать вашу! – громко вступилась за сестру Линди, ее поддержал кое-кто из зрителей. – Заткнитесь же, наконец, так вас и этак!
На какое-то время шепот стих.
«Мой муж – мосты разрушать мастак, – пела Чжаоди, – облил вином и поджег мост через Цзяолунхэ. В пятый день пятого месяца, на праздник драконовых лодок60 взметнулось синее пламя на тысячи чжанов, япошек так подпекло, что отцов и матерей поминали. Тяжелую рану на заднем месте муж мой тогда получил. Ночью вчера мороз и ветер, окрест все белым-бело, муж мой повел бойцов своих на железнодорожный мост…» Тут она изобразила, что раскалывает лед и стирает в ледяной воде белье, трясясь всем телом, как высохший листок на верхушке дерева в зимнюю пору. Захваченные представлением зрители громко выражали свой восторг, а кое-кто даже смахивал рукавом слезу. Под грохот вступивших цимбал и барабанов сестра поднялась и стала вглядываться вдаль: «Слышу, как дрожат от взрывов западные небеса, вижу, вздымаются во мгле ночной пламени языки. Значит, муж мой одержал победу и разрушил мост, и уже на пути к Яньло-вану61 воинский эшелон. Мне пора домой возвращаться и подогреть вина, курицу ему зарезать, горшок супа сварить…» Тут сестра будто бы подбирает одежды и начинает забираться по склону дамбы, напевая при этом: «Поднимаю голову – а передо мной четверо шакалов и волков…» И тут же из ворот вылетает, выделывая кульбиты, четверка тех размалеванных быстроногих, что принесли и расстелили циновку. Они окружают сестру и тянутся к ней лапами, словно четверо котов, готовых схватить маленькую мышку. Раскрашенный под барсука гнусным голосом запевает: «Я капитан Камэда, шел красотку поискать. Мне давно говорили, в Дунбэе красавиц пруд пруди, а тут поднимаю голову и вижу прелестное личико прямо перед собой. Пойдем, девочка, пойдем с великим тайкуном62, ждет тебя счастье и услада…» «Японские черти» набрасываются на застывшую, как палка, сестру, подхватывают ее на руки и, подняв высоко над головой, обносят вокруг циновки. Барабаны и цимбалы выбивают бешеный ритм, словно налетел ураган. Переполненные эмоциями зрители устремляются к сцене. Впереди с криком «Опустите мою дочь!» бежит матушка. Я в своем «кармане» встал тогда на ноги – подобное чувство я пережил позже, когда впервые проехал верхом. Вытянув вперед руки, подобно коршуну, когтящему зайца, матушка норовила выцарапать глаза «капитану Камэда». Тот с воплем ужаса отскочил от сестры, остальные трое тоже убрали руки, и она грохнулась на циновку. Троица ретировалась, оставив «капитана Камэда» одного, а матушка взгромоздилась ему на спину и принялась драть за волосы.
– Мама, мама! – пыталась оттащить ее сестра. – Это же театральное представление, это же понарошку!
Подоспевшие на помощь с трудом оторвали матушку от «капитана Камэда». С расцарапанным в кровь лицом он во всю прыть рванулся в ворота.
– Пусть только кто-нибудь посмеет обидеть мою дочку, пусть только попробует! – едва переводя дыхание, кричала распалившаяся матушка.
– Мама, такая хорошая пьеса, а ты всё испортила! – сердито бросила вторая сестра.
– Чжаоди, послушай, что мать тебе скажет. Пойдем-ка домой, не нам такие пьесы играть. – И потянула ее за руку, но расстроенная сестра вырвалась.
– Мама, перестань срамить меня!
– Это ты меня срамишь! Пойдем давай! – настаивала матушка.
– Не пойду, – заявила сестра.
В этот момент на сцене появился Сыма Ку. Он громко распевал: «Вот я разрушил мост и возвращаюсь на коне домой…» В ботинках для верховой езды и в фуражке, с плетью, он восседал на воображаемом скакуне, притопывал ногами и продвигался вперед, то сгибаясь, то выпрямляясь, с несуществующими поводьями в руке, словно скакал во весь опор. Небеса сотрясались от грохота барабанов и цимбал, в лад звучали струнные и духовые; среди них выделялась флейта, звуки которой, как говорится, пронизывали тучи и разрывали шелк. Все застыли ни живы ни мертвы, но не от страха, а под воздействием этих звуков. Жесткое и холодное, как сталь, лицо Сыма Ку казалось донельзя суровым – ни следа лукавства или несерьезности. «Вдруг слышу на дамбе какой-то переполох, даю плеть скакуну, чтобы нес туда быстрей…» При этих словах струны хуциня имитируют конское ржание. «Сердце мое горит огнем, конь мой летит как ветер, его полшага – шаг других, два шага трем равны…» Ритм барабанов и цимбал нарастает, притопывая движется всадник, потом следует «переворот ястреба», «раскладка ног в воздухе», «задыхающийся буйвол», «лев, катящий узорный шар» – все свое умение демонстрирует на циновке Сыма Ку, и трудно даже поверить, что на заду у него большущий пластырь в полцзиня весом.
Чжаоди торопливо выпихивает со сцены матушку. Та, продолжая ворчать, неохотно возвращается на место. Трое «японцев», изогнув по-кошачьи спины, проникают в центр сцены, чтобы снова поднять сестру на руки. «Капитана Камэда» и след простыл, пришлось им справляться без него: двое взялись за сестру спереди, а один – за ноги. Зажатая между ног сестры размалеванная голова выглядела настолько комично, что зрители начали тихонько хихикать. Актер морщил нос, закатывал глаза, и смех усилился. А когда он стал делать это еще энергичнее, раздались взрывы хохота. На лице Сыма Ку отразилось явное неудовольствие, но он запел дальше: «Вдруг слышу шум толпы. Глядь – японские солдаты опять насильничать вздумали. Не раздумывая бросаюсь на них – хватаю эту кость собачью. Руки прочь!» С этим криком Сыма Ку вцепляется в «японца», голова которого зажата между ног сестры. За этим следует каскад приемов боевых искусств, – правда, изначально предполагалось, что будет четверо против одного, теперь же Сыма Ку противостояло лишь трое. В этом «бою» он и «японцев» одолел, и «жену» выручил. «Японцы» упали на колени, а Сыма Ку, ведя Чжаоди за руку, под радостную музыку вернулся за ворота. Тут же ожили четыре темные фигуры с газовыми фонарями и бегом унесли их. Перед нашими глазами непроглядной стеной встала тьма.
На другой день на рассвете деревню окружили настоящие японцы. Проснулись мы от винтовочной и орудийной пальбы и топота копыт. Схватив меня в охапку, матушка потащила сестер к подвалу с турнепсом. Мы все попрыгали туда и какое-то время пробирались ползком в темноте. Было сыро и холодно, потом стало попросторнее, и матушка зажгла масляную лампу. В ее тусклом свете мы уселись на циновку, прислушиваясь к слабым звукам, доносящимся сверху.
Не знаю, сколько мы так просидели. Вдруг в темноте прохода послышалось тяжелое дыхание. Матушка схватила кузнечные клещи и быстро задула лампу. Подвал погрузился в кромешную тьму. Я заплакал, и матушка сунула мне грудь. Молоко было холоднющее, вязкое и отдавало горько-соленым.
Дыхание приближалось, матушка уже занесла клещи. В это время раздался изменившийся голос второй сестры:
– Мама, не бей, это я…
Матушка, словно обессилев, опустила руки.
– Ну, Чжаоди, до смерти напугала, – облегченно выдохнула она.
– Мама, зажги лампу, – попросила сестра, – у меня тут еще кое-кто.
Хоть и не сразу, лампа загорелась, едва осветив нашу пещеру. Вторая сестра, в грязи с головы до ног, с кровавой царапиной на щеке, держала в руках какой-то сверток.
– Это еще что? – удивилась матушка.
Рот Чжаоди скривился, и по измазанному лицу потекли светлые слезы.
– Мамочка, – сдавленным голосом произнесла она, – это сын его третьей наложницы.
Матушка как онемела, а потом взорвалась:
– Отнеси туда, где взяла!
Сестра подползла к ней на коленях и глянула снизу вверх:
– Матушка, помилосердствуйте, у него всю семью вырезали, он единственный, кто остался…
Отогнув уголок свертка, матушка открыла смуглое и тощее личико последнего отпрыска рода Сыма. Малыш сладко спал, ровно дыша и сложив розовые губки, словно сосал грудь. Меня переполнила ненависть к этому поганцу. Я выплюнул сосок и заревел, но матушка наладила его обратно, еще более холодный и горький, чем прежде.
– Матушка, так вы согласны оставить его? – спросила сестра.
Матушка сидела с закрытыми глазами и не проронила ни звука.
Вторая сестра сунула ребенка в руки третьей, бухнулась на колени и с плачем стала отбивать земные поклоны:
– Матушка, я по жизни его женщина, а после смерти буду приходить к нему как дух! Спасите этого ребенка, дочка по гроб не забудет вашей доброты!
Потом поднялась и стала протискиваться к выходу.
– Куда ты? – выдохнула матушка, пытаясь остановить ее.
– Мама, он ранен в ногу, прячется на мельнице под жерновом. Мне к нему надо.
Снаружи донесся топот лошадей и винтовочные выстрелы. Матушка загородила выход из подвала:
– Мать на всё согласна, но на смерть не пущу.
– Мама, у него кровь течет не переставая, без меня он умрет. А если он умрет, зачем твоей дочери жить? Ну отпусти меня, мама…
Матушка взвыла без слез, но тут же зажала себе рот.
– Матушка, ну хотите, опять на колени встану?
Чжаоди снова отбила земной поклон и застыла на миг, уткнувшись лицом в ноги матери. Потом оторвалась от нее и, согнувшись, стала пробираться к выходу.
Глава 14
Головы девятнадцати членов семьи Сыма провисели на деревянной раме за воротами Фушэнтана до самого праздника Цинмин63, когда стало по-весеннему тепло и начали распускаться цветы. Рама была сколочена из пяти толстых еловых стволов и по форме напоминала качели. Головы свешивались с нее, прикрученные стальной проволокой. Хотя плоть уже начисто склевали вороны, воробьи и совы, можно было без труда узнать жену Сыма Тина, его двух дурачков-сыновей, первую, вторую и третью жен Сыма Ку, девятерых детей, которых они втроем нарожали, а также гостивших в доме Сыма отца, мать и двух младших братьев третьей жены.
Деревня после нагрянувшей беды обезлюдела, а те, кто уцелел, походили на призраков. Днем все отсиживались по домам и осмеливались выходить лишь с наступлением темноты.
Вторая сестра как ушла, так и не появлялась, и от нее не было никаких вестей. С оставленным ею ребенком была одна морока. Чтобы он не умер с голоду, когда мы прятались во мраке подземного прохода, матушке пришлось кормить его грудью. Разинув большущий рот и выпучив глаза, он жадно сосал грудь, которая должна была принадлежать только мне. Съесть он мог на удивление много и, высосав груди подчистую, так, что они повисали пустыми кожаными мешками, орал, требуя еще. Орал что твоя ворона, как жаба, как сова. А выражение лица у него было как у волка, как у одичавшей собаки, как у дикого кролика. Он стал моим заклятым врагом, и мир был тесен для нас двоих. Когда он овладевал матушкиной грудью, я ревел не переставая; когда же я пытался вернуть ее себе, в беспрерывном крике заходился он. Орал он, выпучив глаза, а глаза у него были как у ящерицы. Черт бы побрал эту Чжаоди! Надо же было принести в дом это ящерицыно отродье!
От нашего тиранства лицо матушки отекло и побледнело, и мне чудилось, что на теле у нее повылезало множество бледно-желтых ростков, как на турнепсе, пролежавшем в нашем подвале всю долгую зиму. Первые появились на груди, и я ощутил сладковатый привкус турнепса в молоке, которого, надо сказать, становилось все меньше и меньше. А ты, пащенок из семьи Сыма, неужто не уловил этот жуткий запах? Тем, что твое, нужно дорожить, но мне было уже не до этого. Не высосу я – высосет он. Вы иссохли, мои драгоценные тыквочки, и кожа на вас сморщилась, маленькие голубочки, фарфоровые вазочки; кровеносные сосуды на вас посинели, соски почернели и бессильно поникли.
Опасаясь за мою жизнь и за жизнь этого ублюдка, матушка рискнула вывести сестер из подвала к свету, к людям. Вся пшеница, что хранилась у нас в восточной пристройке, исчезла. Исчезли и ослиха с муленком. От горшков, чашек и другой посуды остались лишь осколки, даже Гуаньинь стояла в алтаре безголовым трупом. Пропала лисья шуба, которую матушка забыла взять с собой в подвал, и наши с сестренкой рысьи курточки. Шубы сестер остались при них – они никогда их не снимали, – но мех на них вылез, образовались проплешины, и сестры смотрелись как облезлые зверьки.
Урожденная Люй лежала у жернова в западной пристройке. Она сгрызла все двадцать турнепсин, что оставила ей матушка, перед тем как спуститься в подвал, и наделала рядом большую кучу – твердую, как галька. Горсть этих «камешков» она швырнула в матушку, когда та зашла проведать ее. Кожа на лице у старухи походила на мерзлый турнепс, спутанные седые волосы торчали во все стороны, а глаза мерцали зеленым светом. Покачав головой, матушка положила перед ней еще несколько турнепсин. Все, что осталось нам после японцев – а может, и китайцев, – это полподвала ноздреватого турнепса, уже покрывшегося желтыми ростками. Совершенно отчаявшись, матушка отыскала один чудом уцелевший горшок, в котором Шангуань Люй хранила свой драгоценный мышьяк, и насыпала этого красного порошка в суп из турнепса. Когда порошок растворился, на поверхности появились разноцветные маслянистые разводы, вокруг разнесся отвратительный запах. Она помешала суп половником, зачерпнула этого варева, чуть наклонила половник, и мутная струйка с журчанием потекла через его щербатый край в котел. Уголки губ у матушки странно подергивались.
– Линди, отнеси бабке своей, – велела она, налив немного в треснувшую чашку.
– Мама, ты туда яду добавила? – охнула третья сестра. Матушка кивнула. – Хочешь отравить ее?
– Всем нам не жить, – проговорила матушка.
Сестры хором разревелись, заплакала даже слепенькая восьмая сестренка. Больше похожий на гудение пчелы, ее плач был еле слышен, и большие черные ничего не видящие глазки этого самого несчастного, самого жалкого существа наполнились слезами.
– Мамочка, мы не хотим умирать… – молили сестры.
Даже я подхватил:
– Ма… Ма…
– Бедные дети!.. – выдохнула матушка и разрыдалась.
Плакала она долго, а вместе с ней плакали и мы. Потом звучно высморкалась, взяла ту треснувшую чашку и выбросила во двор вместе с содержимым.
– Не помрем! – заявила матушка. – Чего еще бояться, коли смерть нестрашна? – С этими словами она приосанилась и повела нас со двора искать съестное.
Мы оказались первыми, кто высунул нос на улицу. Увидев головы семьи Сыма, сестры сначала испугались. Но через несколько дней это зрелище стало привычным. Я видел, как матушка, держа маленького ублюдка Сыма на руках, прошептала, указывая на головы:
– Запомни это хорошенько, бедолага.
Матушка с сестрами отправились за околицу, в проснувшиеся уже поля. Там они накопали белых корешков трав, чтобы промыть, растолочь и сварить из них суп. Умница третья сестра наткнулась на норку полевок и не только наловила мышей, мясо которых удивительно вкусное, но добралась и до их припасов. Еще сестры сплели из конопляной бечевки сеть и натаскали из пруда почерневшей и иссохшей после суровой зимы рыбы и креветок. Как-то матушка попробовала сунуть мне ложку рыбного супа. Я решительно выплюнул его и ударился в рев. Тогда она сунула ложку этому паршивцу Сыма, и тот запросто проглотил содержимое. Слопал он и вторую ложку.
– Вот и славно, – обрадовалась матушка. – При всех своих несчастьях есть ты все же научился. – И повернулась ко мне: – А ты что? Тебя тоже надо отлучать от груди. – В ужасе я ухватился за ее грудь обеими руками.
Вслед за нами стали возвращаться к жизни и остальные обитатели деревни. Это обратилось в невиданное бедствие для полевок, а за ними пришла очередь диких кроликов, рыбы, черепах, креветок, раков, змей и лягушек. Во всей округе из живности остались лишь ядовитые жабы да птицы на крыле. И все равно, если бы вовремя не разрослась трава, половина сельчан умерли бы с голоду. Прошел праздник Цинмин, стали опадать яркие лепестки цветков персика, в полях поднимался пар, земля оживала и ждала сеятеля. Но скотины не было, не было и семян. Когда в болотных вымоинах, в круглом пруду и на речном мелководье появились жирные головастики, жители стали покидать деревню. В четвертом месяце ушли почти все, но, когда наступил пятый, большинство вернулись в родные места. «Здесь хоть дикие травы и корешки не дадут помереть с голоду, – сказал почтенный Фань Сань. – В других местах и того нет». К шестому месяцу появилось множество пришлых. Они спали в церкви, во двориках дальних покоев семьи Сыма, на заброшенных мельницах. Словно взбесившиеся от голода псы, они воровали у нас еду. В конце концов почтенный Фань Сань собрал деревенских мужчин, чтобы организовать отпор чужакам. У наших во главе встал Фань Сань, у пришлых тоже появился вожак – молодой большеглазый парень с густыми бровями. Умелый птицелов, он всегда ходил с парой рогаток за поясом и мешком через плечо, полным шариков из глины. Третья сестра своими глазами видела, как лихо у него все получается. Заметив пару милующихся в воздухе куропаток, он вытащил рогатку и пульнул, почти не целясь, будто походя. Одна птица тут же упала с пробитой головой прямо к ногам сестры. Другая испуганно взмыла ввысь, но и ее настиг шарик, и она тоже свалилась на землю. Подняв ее, чужак подошел к третьей сестре. Он смотрел на нее в упор, она тоже уставилась на него ненавидящим взглядом. Эту ненависть всколыхнул в нас почтенный Фань Сань. Он уже приходил и агитировал за изгнание пришлых. Но чужак не только не забрал лежавшую у ног сестры куропатку, но и бросил туда же ту, что держал в руках. И, ни слова не говоря, пошел прочь.
Третья сестра принесла куропаток домой, накормила матушку мясом, сестер и маленького паршивца – бульоном, а Шангуань Люй отдала кости, которые та сгрызла с громким хрустом. То, что куропаток поднес чужак, она сохранила в тайне. Благодаря куропаткам насытился и я, потому что матушкино молоко вскоре обрело чудесный вкус. Матушка несколько раз пробовала накормить мальца Сыма, пока я спал, но тот не брал грудь ни в какую. Так и рос на травках, корешках и на коре деревьев, причем поедал всё в таких количествах, что только подавай.
– Ну чистый осленок! – изумлялась матушка. – Видать, судьба ему такая – траву уминать с самого рождения.
Даже какашки у него напоминали ослиные. Более того: матушка считала, что у него два желудка и что он может жевать жвачку. Бывало, отрыгнет ком травы и пережевывает, зажмурившись от наслаждения. В уголках рта у него выступала слюна. Прожевав, он напрягал шею и шумно проглатывал.
С пришлыми началась настоящая война. Сначала урезонивать их отправился почтенный Фань Сань, он вежливо предложил им убраться. Пришлые выдвинули своего представителя, того самого парня, что поднес третьей сестре пару куропаток, умелого птицелова по прозванию Пичуга Хань. Уперев руки в рогатки на поясе, тот приводил обоснованные доводы и ни за что не хотел уступать.
– На месте Гаоми испокон веку был пустырь, – говорил он, – и никто здесь не жил, тут все пришлые. Вы вот живете, а мы почему не можем?
Слово за слово, началась перебранка, страсти закипели, все стали пихаться и задирать друг друга. Один деревенский сумасброд, по прозвищу Шестой Чахоточный, выскочил из-за спины Фань Саня с железякой в руках, размахнулся и огрел по голове пожилую мать Пичуги Ханя. У бедной женщины мозги вылетели наружу, и дух вон. Взвыв, как раненый волк, Пичуга выхватил свои рогатки, и два глиняных шарика оставили Шестого Чахоточного без глаз. В начавшейся свалке деревенские мало-помалу стали брать верх. Пичуга Хань взвалил на плечи тело матери, пришлые, огрызаясь, начали отступать, пока не дошли до песчаной гряды Дашалян к западу от деревни. Там Пичуга Хань опустил мать на землю, вытащил рогатки, зарядил и нацелил на Фань Саня:
– Оставил бы ты свои задумки извести нас под корень, начальник. Загнанный в угол заяц и тот кусается! – Он еще не договорил, когда одна из пулек со свистом рассекла воздух и ударила Фань Саня в ухо. – Оставляю тебе жизнь только потому, что все мы китайцы, – добавил Пичуга.
Держась за рассеченное пополам левое ухо, Фань Сань без звука отступил.
Чтобы закрепить за собой землю, пришлые возвели на песчаной гряде несколько дюжин навесов. Через десяток лет там уже образовалась деревушка. Прошло еще несколько десятков лет, и на этом месте уже стоял процветающий городок, который почти слился с Даланем, их разделяло лишь озерцо с узкой дорожкой по берегу. В девяностых Далань разросся из городка в настоящий город, его западным пригородом стал Шалянцзычжэнь. К тому времени там уже развернул свою деятельность крупнейший в Азии птицеводческий центр «Дунфан», где можно было приобрести множество редких птиц, которых не часто встретишь даже в зоопарках. Торговля редкими видами птиц велась, конечно, полулегально. Основателем Центра стал сын Пичуги – Попугай Хань, который разбогател на разведении, селекции и выращивании новых видов попугаев. С помощью своей жены Гэн Ляньлянь он стал большим человеком; потом его арестовали и посадили.
Пичуга Хань похоронил мать на песчаной гряде и прошелся пару раз по главной улице с рогатками в руках, забористо ругаясь на своем плохо понятном для местных диалекте. Он хотел показать деревенским: мол, теперь я один как перст, убью одного – и мы при своих, убью двоих – один за мной. Будем, мол, надеяться, что теперь заживем в мире и согласии. Деревенские прекрасно помнили, как он раскроил ухо Фань Саню, как остался без глаз Шестой Чахоточный, так что высовываться никто не захотел. Как бы то ни было, смерть матери Пичуги не прошла незамеченной.
С тех пор пришлые с деревенскими замирились, хотя зуб друг на друга имели. Почти каждый день третья сестра встречалась с Пичугой на том самом месте, где он впервые поднес ей куропаток. Сначала эти встречи были вроде бы случайными, потом пошли свиданки в полях, откуда они не уходили, не дождавшись друг друга. Третья сестра в том месте всю траву вытоптала. Пичуга Хань каждый раз бросал ей птиц и, ни слова не говоря, удалялся. То пару горлиц принесет, то фазана, а однажды положил к ее ногам большую птицу, мясистую, цзиней на тридцать весом. Третья сестра взвалила ее на спину и еле дотащила до дому. Даже многоопытный Фань Сань не мог сказать, как эта птица прозывается. Я же узнал – опять-таки через матушкино молоко, – что ее мясо бесподобно на вкус.
Фань Сань на правах близкого знакомого семьи неоднократно обращал матушкино внимание на отношения третьей сестры и Пичуги Ханя. Получалось это у него как-то оскорбительно, с неким душком:
– Твоя третья дочка, племянница, с этим птицеловом… Ай-яй-яй, как это супротив заведенных приличий, все в деревне не знают, куда и глаза девать! – сказал как-то он.
– Так она еще девчонка! – возразила матушка.
– У вас в семье дочки не такие, как у других, – настаивал Фань Сань.
– Пусть в ад катятся все эти сплетники! – отшила его матушка.
Отшить-то она отшила, но с третьей сестрой, когда та возвернулась с еще трепыхавшимся красноголовым журавлем, завела серьезный разговор.
– Линди, мы не можем больше есть чью-то птицу, – заявила она.
– Почему это? – уставилась на нее сестра. – Для него поймать птицу легче, чем блоху.
– Легко – нелегко, но ловит-то их он. Разве не знаешь: чей хлеб ешь, под ту дудку и пляшешь?
– Придет время, верну я ему долг.
– Чем, интересно, ты его вернешь?
– Выйду за него.
Тут голос матушки посуровел:
– Линди, из-за твоих сестер наша семья уже настолько потеряла лицо, что дальше некуда. На этот раз будет по-моему, какие бы ты речи ни вела.
– Хорошо тебе говорить, мама! – вспыхнула сестра. – А ведь если бы не Пичуга, разве он так выглядел бы? – И она указала на меня. – И он тоже, – повернулась она к малышу Сыма.
Глянув на мое гладкое, пухлое лицо и на краснощекого мальца Сыма, матушка не смогла ничего возразить. Но потом все же заключила:
– Линди, хоть что говори, но больше мы его птиц есть не будем.
На следующий день сестра вернулась с целой связкой диких голубей через плечо и, будто назло, бросила их к ее ногам.
Незаметно наступил восьмой месяц, появились стаи диких гусей. Они летели издалека, с севера, и садились в болотах к юго-западу от деревни. С крюками, сетями, действуя другими дедовскими способами, деревенские и пришлые устроили славную гусиную охоту. Поначалу добыча была богатой, и по всей деревне – и на главной улице, и в проулках – летал гусиный пух. Но вскоре гуси научились гнездиться в дальних топях, куда и лисы добирались с трудом, и все старания и уловки людей были безрезультатны. Только третья сестра что ни день возвращалась домой с гусем – битым, а то и с живым. Бес его знает, как только Пичуга умудрялся ловить их.
Матушке оставалось лишь смириться с суровой реальностью. Потому что не будь у нас подношений Пичуги Ханя, мы, как и большинство жителей деревни, уже страдали бы от недоедания, опухли бы и задыхались, и глаза у нас то потухали бы, то загорались бесовским огнем. А то, что мы ели птиц Пичуги, означало лишь, что к нашим зятьям кроме предводителя отряда стрелков и мастера разрушать мосты добавился еще один – умелый птицелов.
Утром шестого дня восьмого месяца третья сестра опять отправилась на обычное место встречи за птицей, а мы остались дома ждать. Всем уже приелась отдававшая травой гусятина, мы надеялись, что Пичуга принесет что-то другое. О том, что третья сестра еще раз притащит огромную птицу с превосходным мясом, мы и мечтать не смели, а вот пара лесных голубей, перепелов, горлиц, диких уток – это же возможно, верно?
Третья сестра вернулась с пустыми руками, зареванная, с покрасневшими, как персик, глазами. Когда обеспокоенная матушка спросила, в чем дело, сестра выдавила из себя:
– Увели его люди в черном, с винтовками и на велосипедах…
Вместе с ним угнали еще с десяток молодых, здоровых парней. Их связали вместе, как цикад. Пичуга Хань сопротивлялся изо всех сил, на руках у него вздулись мускулы, большие, как воздушные шары. Солдаты били его прикладами по заду и пояснице, пинали ногами.
– За что?! – громко вопрошал он, и его покрасневшие глаза, казалось, готовы были брызнуть то ли кровью, то ли огнем.
Командир солдатни схватил пригоршню грязи и шмякнул Пичуге в лицо, залепив глаза. Тот взревел, как загнанный зверь.
Третья сестра все время шла за ними следом, потом остановилась и позвала:
– Пичуга Хань… – Чуть постояв, снова догнала: – Пичуга Хань… – Солдаты уставились на нее с мерзкими ухмылками. – Пичуга Хань, я буду ждать тебя, – вымолвила она наконец.
– Шла бы ты знаешь куда! – заорал Пичуга. – Никто тебя не просит ждать!
В тот день, стоя перед горшком, в котором варился суп из диких трав – такой жидкий, что в нем можно было увидеть собственное отражение, – мы, в том числе и матушка, поняли, насколько важен стал для нас Пичуга.
Третья сестра проплакала два дня и две ночи, не поднимаясь с кана. Матушка и так и сяк пыталась успокоить ее, но тщетно.
На третий день после ареста Пичуги сестра спустилась с кана и босиком, в кофте, бесстыдно распахнутой на груди, вышла во двор. Взобравшись на гранатовое дерево, она ухватилась за вершину и упруго выгнула ее, как лук. Матушка бросилась стаскивать ее, но сестра ловко перепрыгнула на утун, с утуна на большую катальпу64, а оттуда перелетела на конек нашей крытой соломой крыши. Проделывала она все это с невероятным изяществом, будто у нее крылья выросли. Усевшись на конек верхом, она подняла глаза к небу, и на отливающем золотом лице заиграла улыбка. Матушка стояла во дворе, задрав голову, и жалобно умоляла:
– Линди, доченька милая, спускайся, никогда больше не буду вмешиваться в твои дела, делай как знаешь…
Третья сестра никак не реагировала, словно стала птицей и перестала понимать язык людей. Матушка кликнула во двор четвертую сестру, пятую сестру, шестую сестру, седьмую сестру, восьмую сестру и даже маленького Сыма и заставила звать сидевшую на крыше третью. Сестры безостановочно молили ее слезть, но она не обращала ни на кого внимания. Вместо этого опустила голову и стала покусывать плечо – так птицы приглаживают перья. Казалось, голова у нее на шарнирах, и она вертела ею, запросто доставая до плеча, а наклонив, могла дотянуться до своих маленьких грудок. Я ничуть не удивился бы, если бы она достала до попы или пяток. При желании ей ничего не стоило дотянуться губами до любой точки своего тела. Мне казалось, что, сидя на крыше, сестра по сути перешла в мир птиц: она и мыслила по-птичьи, и вела себя как птица, и выражение лица у нее было птичье. Думаю, не позови матушка Фань Саня с дюжиной крепких молодцев и не вызволи они сестру с крыши кровью черной собаки, у нее выросли бы чудесные крылья и она превратилась бы в прекрасную птицу: если не в феникса, то в павлина, а не в павлина, так в золотистого фазана. В какую бы птицу она ни оборотилась, она расправила бы крылья, взлетела высоко-высоко и отправилась бы на поиски своего Пичуги Ханя. Но закончилось все самым постыдным, отвратительным образом: почтенный Фань Сань велел Чжан Маолиню, ловкому коротышке по прозвищу Обезьяна, забраться на крышу с ведром крови черной собаки. Тот подобрался к третьей сестре сзади и окатил ее. Сестра вскочила, взмахнула руками, словно собираясь взлететь, но тут же скатилась с крыши и с глухим стуком шлепнулась на выложенную плитками дорожку. Из раны на голове – величиной с абрикос – беспрестанно шла кровь, сестра была без сознания. Рыдающая матушка сорвала пучок травы и приложила к ране, чтобы остановить кровь, потом с помощью четвертой и пятой сестер отмыла ее от собачьей крови и перенесла в дом, на кан. Когда сестра пришла в себя, уже сгустились сумерки.
– Линди, как ты себя чувствуешь? – с трудом сдерживая рыдания, спросила матушка.
Взглянув на нее, сестра вроде бы кивнула, а вроде и нет. Из глаз у нее ручьем потекли слезы.
– Бедная моя девочка, замучили тебя… – приговаривала матушка.
– В Японию его угнали, – бесстрастно молвила сестра. – И вернется лишь через восемнадцать лет. Поставила бы ты мне алтарь, мама. Ведь я – птица-оборотень.
Для матушки эти слова были как гром среди ясного неба. Обуреваемая самыми разными чувствами, она испуганно вглядывалась в лицо дочери, пытаясь обнаружить печать волшебных чар. Ей много чего хотелось сказать, но она не вымолвила ни слова.
За короткую историю дунбэйского Гаоми из-за несчастной любви или несложившегося брака шесть женщин стали оборотнями лисы, ежа, хорька, пшеничной змейки, барсука и летучей мыши. Они жили своей таинственной жизнью, вызывая у людей страх и благоговение. И вот теперь, когда воплощенный дух птицы появился в нашей собственной семье, матушку одолели мрачные, неотвязные предчувствия. Но она не смела и пикнуть, потому что помнила кровавые уроки прошлого. Лет десять тому назад Фан Цзиньчжи, молодую жену торговца ослами Юань Цзиньбяо, застали на кладбище на тайном свидании с молодым парнем. Мужчины из семьи Юань забили его до смерти. Фан Цзиньчжи тоже досталось изрядно, и она от стыда и горя выпила мышьяку. Когда это обнаружилось, ее спасли, залив в горло жидкого дерьма с мочой, чтобы вызвать рвоту. Придя в сознание, она сказалась воплощением духа лисы и попросила поставить ей алтарь. Семья Юань отказалась. С тех пор у них то и дело загорались дрова и сено, ни с того ни сего билась посуда, у главы семьи из чайника вместе с вином выплеснулась ящерица, престарелая мать семейства расчихалась, и через ноздри у нее вылетели два передних зуба. А сварив целый котел пельменей, семейство обнаружило в нем множество дохлых жаб. Пришлось Юаням пойти на мировую. Они установили алтарь духа лисы и предоставили Фан Цзиньчжи тихие покои.
Птице-Оборотню тихие покои устроили в восточной пристройке. Матушка вместе с четвертой и пятой сестрами убрали всякую дребедень, оставленную Ша Юэляном, очистили стены от паутины и балки от пыли, вставили в окна новую бумагу. В углу возле северной стены поставили столик для благовоний и зажгли три сандаловые палочки, оставшиеся с тех пор, когда урожденная Люй поклонялась бодхисатве Гуаньинь. Перед столиком следовало бы установить образ птицы-оборотня, но как она выглядит? Матушке пришлось обратиться к сестре за разъяснениями.
– Где нам взять святой образ духа, почтенная небожительница, чтобы установить перед столиком с благовониями и приносить ему жертвы?
Третья сестра сидела прямо, с закрытыми глазами и раскрасневшимся лицом, словно наслаждаясь прекрасным любовным сновидением. Не смея торопить ее, матушка повторила просьбу с еще большим благоговением. Третья сестра раскрыла рот в протяжном зевке и, не поднимая век, произнесла – это было нечто среднее между птичьим щебетом и человеческой речью:
– Завтра будет.
Утром следующего дня заявился какой-то нищий с орлиным носом и ястребиными глазами. В левой руке он держал посох из бамбука, чтобы отгонять собак, а в правой нес большую фарфоровую чашу с двумя щербинами на ободке. Он был грязный с головы до ног, будто катался в пыли и песке или прошел долгий путь в тысячи ли. Ни слова не говоря, он прошел прямо в главную комнату, свободно и без стеснения, будто вернулся к себе домой. Снял крышку с котла, налил чашку супа из диких трав и стал есть, с шумом втягивая его в рот. Поев, устроился на краю плиты и молча сидел, буравя матушкино лицо острыми, как ножи, глазами. Матушка встревожилась, но виду не подала и спокойно обратилась к нему:
– Мы, уважаемый гость, люди небогатые, и попотчевать вас особо нечем. Отведайте вот, коли не побрезгуете. – И протянула ему пучок диких трав.
Нищий отказался, облизав кровь на растрескавшихся губах, и произнес:
– Зять вашей семьи попросил меня доставить вам сюда пару вещей.
На первый взгляд при нем ничего не было. Видя его заношенную, драную одежонку, сквозь которую проглядывала грубая, грязная кожа, покрытая сероватыми чешуйками, мы не могли взять в толк, где он прячет то, что принес.
– Это который зять? – уточнила озадаченная матушка.
– Вот уж не знаю, который он у вас в семье зять, – отвечал горбоносый. – Знаю лишь, что он немой, письму обучен и меч держать в руках умеет. Один раз жизнь мне спас, я ему тоже. Так что мы с ним квиты. Вот почему пару минут назад я еще раздумывал, отдавать ли вам эти две драгоценности. Если бы ты, хозяюшка, позволила себе какое дерзкое слово, когда я наливал вашего супа, эти две драгоценности остались бы при мне. Но ты не только воздержалась от дерзостей, но и поднесла пучок трав, так что мне остается лишь передать их вам. – С этими словами он встал и поставил на плиту щербатую чашу: – Это сокровенный синий фарфор, вещь редкая, как цилинь65 или феникс, таких в Поднебесной, может, больше и нет. О ее ценности ваш немой зять понятия не имеет. Досталась она ему при дележке награбленного, и он отослал ее вам, скорее всего, лишь потому, что она большая. И вот еще это. – Он постучал по земле бамбучиной, и по звуку стало ясно, что внутри она полая. – Нож есть?
Матушка подала ему тесак для овощей, и он перерезал еле заметную бечевку на концах. Бамбучина распалась на две половинки, и на землю выкатился свиток. Нищий развернул его, пахнуло гнилью, и перед нами предстала нарисованная на пожелтевшем шелке большая птица. Мы невольно вздрогнули: она как две капли воды походила на ту большую птицу с вкуснейшим мясом, что приволокла домой на спине третья сестра. На картине птица стояла, выпрямившись, высоко вздернув голову и искоса глядя потухшим взором больших глаз. Пояснений по поводу свитка или изображенной на нем птицы горбоносый давать не стал. Он снова свернул его, положил поверх чаши и, даже не оглянувшись, вышел из дома. Свободные теперь руки висели вдоль тела, он одеревенело отмерял в лучах солнца огромные шаги.
Матушка застыла подобно сосне, а я – подобно наросту на ее стволе. Пятеро сестер походили на серебристые ивы, а малец Сыма – на молодой дубочек. Вот так, частичкой смешанного леса, мы и стояли молча перед таинственной чашей и загадочным свитком. Может, мы и впрямь обратились бы в деревья, если бы не насмешливое хихиканье третьей сестры с кана.
Итак, ее слова сбылись. С благоговением мы отнесли картину в тихие покои и повесили перед столиком для благовоний. А раз у большой щербатой чаши такая необыкновенная история, разве след простому человеку пользоваться ею? У матушки от свалившегося на нас счастья голова заработала яснее, вот она и пристроила чашу на столик для благовоний, налив в нее чистой воды для Птицы-Оборотня.
Весть о том, что в нашей семье воплотился дух птицы, с быстротой молнии разнеслась по Гаоми, а вскоре достигла и более отдаленных мест. Люди нескончаемым потоком шли к третьей сестре за лекарствами и предсказаниями, но она принимала не более десятка в день. Из своих покоев сестра не выходила, просители обращались к ней, стоя на коленях у окна. Через небольшое отверстие, проделаное в бумаге, доносилась ее похожая на птичий щебет речь: она указывала заблудшим путь истинный, давала консультации и советы больным. Рецепты третьей сестры – теперь исключительно Птицы-Оборотня – были курьезны до крайности, иногда даже смахивали на розыгрыш. Страдавшему желудком она посоветовала перемолоть и смешать семь пчел, пару шариков навозного жука, два ляна66 листа персика, полцзиня яичной скорлупы и принимать все это, запивая кипяченой водой. Человеку в заячьей шапке, у которого болели глаза, предписала растолочь семь цикад, пару сверчков, пять богомолов и четырех земляных червей, смешать в кашицу и наносить на глаза. Пациент поймал вылетевший из дырочки рецепт, прочел, и на лице у него отразилось полное неуважение. Мы услышали, как он проворчал себе под нос:
– Вот уж действительно Птица-Оборотень: всё сплошь птичья еда.
Продолжая ворчать, он ушел, а нам стало стыдно за сестру. Цикады да сверчки – птичьи лакомства, как этим вылечить глаза? В то время как я в смятении размышлял над этим, человек с больными глазами буквально влетел обратно в наш двор и, рухнув на колени у окна, стал биться лбом о землю, да так часто, будто чеснок толок:
– Великий дух, прошу простить! – голосил он. – Великий дух, прошу простить…
В ответ на его причитания раздался ехидный смешок сестры. Позже мы узнали, что, как только этот говорун вышел за ворота, ему на голову из поднебесья ринулся ястреб и, закогтив шапку, снова взмыл в вышину.
Другой человек задумал недоброе и, притворившись, что страдает от уретрита, преклонил колена перед окном, моля о помощи.
– Что у тебя болит? – спросила через окно Птица-Оборотень.
– Мочиться трудно, – отвечал тот. – Одеревенелое все и холодное.
По другую сторону окна стало тихо, будто Птица-Оборотень в смущении удалилась. А мнимый больной, который до чувственных утех был сам не свой, возьми да и приникни глазом к отверстию в бумаге, чтобы подсмотреть, что там делается внутри. И тут же с воплем отшатнулся. Откуда-то сверху свалился огромных размеров скорпион и без лишних церемоний впился ему в шею – она мгновенно распухла. Потом распухло и лицо, да так, что от глаз остались одни щелочки, как у гигантской саламандры.
То, что Птица-Оборотень употребила свои волшебные чары, чтобы наказать негодяя, вызвало бурный восторг у людей добродетельных и в то же время резко подняло ее авторитет. В последующие дни на нашем дворе уже можно было услышать диалекты самых далеких провинций. Матушка поспрашивала и выяснила: кто-то аж с Восточного моря сюда добирался, а иные так и с Северного. А когда она поинтересовалась, откуда они узнали о Птице-Оборотне, они смотрели на нее, не зная, что сказать. От этих людей исходил солоноватый запах, и матушка объяснила, что так пахнет море. Спали они у нас во дворе, терпеливо дожидаясь своей очереди. Птица-Оборотень, как ею было заведено, принимала каждый день по десять человек. После этого в восточной пристройке наступала мертвая тишина. Матушка посылала туда четвертую сестру с водой, а вместо нее выходила третья. Потом, когда она посылала в пристройку пятую сестру с едой, оттуда выходила уже четвертая. Так они и мелькали одна за другой перед страждущими, тем так и не удалось выяснить, кто из них Птица-Оборотень.
Сбрасывая состояние птицы-оборотня, сестра в целом вела себя как человек, но странных выражений лица и телодвижений у нее было предостаточно. Говорила она немного, постоянно щурилась, предпочитала сидеть на корточках, пила чистую холодную воду, причем с каждым глотком запрокидывала голову, как делают птицы. Хлеба не ела, да и мы его не ели, потому что в доме не было ни зернышка. Все посетители подносили нашей семье то, что любят птицы. Из мясного это были цикады, червячки шелкопряда, бобовая тля, майские жуки, светлячки. Подносили и вегетарианское: конопляное семя, кедровые орешки, семечки подсолнуха. Все эти подношения мы, конечно, сначала передавали третьей сестре, а остатки делили между матушкой, сестрами и сопляком Сыма. Сестры, как примерные дочери, часто краснели до ушей, но отказывались от своего червячка шелкопряда или бобовой тли. Молока у матушки стало очень мало, но по качеству оно оставалось превосходным. В эти «птичьи» времена она пыталась отнять меня от груди, но, поняв, что я могу обораться до смерти, отказалась от своей затеи.
В благодарность за горячую воду и другие удобства, а главное – за то, что Птица-Оборотень помогла решить их проблемы, люди с моря оставили нам на прощание целый мешок вяленой рыбы. Бесконечно признательные, мы проводили их до самой дамбы. Именно тогда мы и увидели на неторопливо несущей свои воды Цзяолунхэ несколько десятков рыбачьих лодок с толстыми мачтами. За всю историю реки на ней пару раз видели лишь деревянные плоты, на которых перебирались на другой берег во время разлива. Благодаря Птице-Оборотню по Цзяолунхэ установилось прямое сообщение с просторами морей. Было уже начало десятого месяца, и на реке задувал сильный северо-западный ветер. Люди с моря взошли на лодки; хлопая, поднялись серые паруса с множеством заплат, и лодки стали медленно выруливать на середину реки. От ила, поднятого кормовыми веслами, вода помутнела. Стаи серебристо-серых чаек совсем недавно встречали эти рыбачьи лодки, а теперь провожали их в обратный путь. С пронзительными криками они то камнем падали на поверхность воды, то взмывали высоко в небо. Некоторые даже устроили представление: летали на спине или даже зависали в воздухе. На дамбе собралось много зевак, они тоже приняли участие в торжественных проводах отбывающих в дальние края. Паруса наполнились ветром, задвигались кормовые весла, и лодки стали медленно удаляться. Их путь лежал по Цзяолунхэ до места, где она сливалась с Великим каналом67, из Великого канала – в Баймахэ – реку Белой Лошади, а оттуда прямо в Бохай68. В пути они пробудут двадцать один день. Эти сведения по географии сообщит мне восемнадцать лет спустя Пичуга Хань.
Прибытие в дунбэйский Гаоми гостей издалека было чуть ли не повторением сказаний о путешествиях Чжэн Хэ и Сюй Фу69 и стало одной из славных страниц истории нашего края. И все благодаря Птице-Оборотню из семьи Шангуань. Эта слава разредила горестные тучи в душе матушки. Может, она надеялась, что в семье воплотится дух еще какой твари, появится какая-нибудь Рыба-Оборотень, что ли. А может, она вовсе так и не думала.
Рыбаки отправились в обратный путь, а нас посетила знатная гостья. Она прибыла в сверкающем черным лаком американском «шевроле», на подножках с обеих сторон стояли два крепких молодца с «маузерами». Машина высокой гостьи поднимала на деревенской дороге целое облако пыли, и бедные телохранители походили на вывалявшихся в пыли серых ослов. Возле наших ворот автомобиль остановился, охранник открыл дверцу. Сначала показалась увешанная драгоценностями голова, потом шея и дебелое тело. И фигурой, и выражением лица эта женщина напоминала гусыню, правда холеную. А гусь, как известно, тоже птица. Но вновь прибывшая была не из простых, а обращаться к Птице-Оборотню следовало со всем почтением. Птица-Оборотень знала всё наперед, от нее ничего нельзя было скрыть, и она не выносила лицемерия и гордыни. Женщина встала на колени перед окошком и, закрыв глаза, начала вполголоса молиться. Ясно, что не о здоровье приехала просить – с лицом-то цвета розовых лепестков. Жемчугами усыпана с головы до ног – значит, и не о богатстве. С чем, интересно, могла обратиться к Птице-Оборотню такая дама? Через какое-то время из дырки в окне вылетела свернутая трубочкой бумажка. Женщина развернула ее, прочитала и зарделась, как петушиный гребешок. Бросила под окно несколько серебряных даянов, повернулась и была такова. Что написала на бумажке Птица-Оборотень? Об этом знают лишь она да эта женщина.
Вскоре наплыв посетителей иссяк, закончилась и вяленая рыба. Наступила суровая зима. У матушкиного молока опять появился привкус трав и коры. На седьмой день двенадцатого месяца прошел слух, что одна из крупнейших в уезде христианских сект, «Божье собрание», утром восьмого дня устраивает в соборе Бэйгуань благотворительную раздачу каши. Вот мы и пошли с матушкой на ночь глядя, с чашками и палочками в руках, в уездный город вместе с толпой таких же голодных. Дома остались лишь третья сестра и Шангуань Люй: одна потому, что получеловек-полусвятая, другая потому, что наполовину человек, наполовину злой дух, и от голода они страдали меньше.
– Эх, свекровушка, свекровушка, – сказала матушка, бросив урожденной Люй пучок сухой травы, – помирай-ка ты быстрее, коли можешь. Чего вместе с нами мучиться!
На дорогу, ведущую в уездный город, мы ступили впервые. Да и какая это дорога – так, белесая тропинка, протоптанная ногами людей и копытами скота. Ума не приложу, как по ней проехал автомобиль той роскошной дамы. Мы брели под усыпанным холодными звездами небом. Я стоял в своем «кармане» на спине матушки, малец Сыма устроился на спине четвертой сестры, пятая тащила на себе восьмую сестренку, а шестая и седьмая шли сами. Минула полночь. В пустынных полях вокруг беспрестанно слышался детский плач. Седьмая и восьмая сестры, а с ними и малец Сыма тоже захныкали. Матушка велела им прекратить, но и сама начала всхлипывать, равно как четвертая, пятая и шестая сестры. Пройдя еще немного на ослабевших ногах, они повалились на землю. Пока матушка, подняв одну, шла поднимать другую, первая падала снова; пока поднимала первую, падала вторая. В конце концов матушка тоже уселась на промерзлую землю. Мы сбились в кучу и согревались теплом друг друга. Матушка перетащила меня со спины на грудь и поднесла мне к носу свою холодную ладонь, чтобы проверить, дышу ли я. Наверное, решила, что я уже умер от голода и холода. Слабым дыханием я дал понять, что еще жив. Она подняла занавеску над грудью и запихнула мне в рот ледяной сосок. Будто кусок льда стал таять, во рту все онемело. Грудь ее была пуста, и, как я ни старался, высосать не удалось ничего. Из груди сочились лишь тоненькие, похожие на ниточки жемчуга, струйки крови. Ну и холодина, просто жуть! Среди этой страшной стужи у голодных людей возникало множество прекрасных видений: жарко пылающий огонь в печке, окутанный паром горшок, в котором варится курица с уткой, полные тарелки больших пирожков с мясом, а еще свежие цветы, зеленая трава… У меня перед глазами стояли лишь груди – две гладкие и нежные драгоценные тыквочки, два исполненных жизни голубочка, две сияющие чистым и влажным блеском фарфоровые вазы. Прекрасные, ароматные, они изливали голубоватую, сладкую, как мед, влагу, наполняющую желудок и пропитывающую меня с головы до ног. Я обвивал их руками, плавал в их молоке… Миллионы и миллиарды звезд вращались над головой, из них постепенно тоже складывались груди. Грудь Сириуса – Небесного Пса, грудь Большой Медведицы – Северного Ковша, грудь Ориона – Охотника, грудь Веги – Ткачихи, грудь Альтаира – Пастуха, грудь богини Чан Э на луне, грудь матушки… Я выплюнул матушкину грудь и вдруг увидел человека, который, словно жеребенок, приближался к нам, высоко держа факел – горящие лохмотья своей куртки. Это был почтенный Фань Сань. Голый по пояс, в едком дыму от тлеющей шерсти, он хрипло кричал:
– Земляки! Ни в коем разе не садитесь, не садитесь ни в коем разе! Как только сядете, сразу замерзнете! Поднимайтесь, земляки, и марш вперед! Идти – значит жить, усесться – значит конец.
Призыв Фань Саня вырвал многих из иллюзорного тепла – верного пути к смерти, – и они снова побрели вперед. И это был единственный шанс выжить в страшную стужу. Поднялась и матушка. Она переместила меня на спину, маленького бедолагу Сыма прижала к груди, взяла за ручку восьмую сестренку, а потом, как взбесившаяся лошадь, стала пинать сестер – четвертую, пятую, шестую и седьмую, – чтобы заставить их встать. И мы побрели за Фань Санем, который все так же высоко держал пылающий факел, освещая нам путь. Несли нас не ноги, нами двигала сила воли, желание добраться до города, до собора Бэйгуань, чтобы сподобиться милости Божией и съесть чашку каши-лаба.
Десятки трупов остались по обочинам дороги после этого трагического похода. Некоторые лежали с расстегнутыми куртками и исполненными счастья лицами, будто пытались согреть грудь пламенем факела.
Почтенный Фань Сань умер, когда восходящее солнце залило красным всё вокруг.
Посланной Богом каши мы все же поели. Я тоже отведал ее через матушкину грудь. Раздачи этой каши не забыть никогда. Высоченная каменная глыба собора. Рассевшиеся на кресте сороки. Пыхтение паровоза на железной дороге. Окутанные паром огромные котлы – в них можно приготовить целого быка. Священник в черном облачении читает молитву. Очередь из нескольких сотен голодных людей. Прихожанин «Божьего собрания» раздает кашу черпаком – каждому по черпаку, неважно, большая чашка или маленькая. Каша вкусная, поглощают ее с громким чавканьем. Сколько слез пролито над ней! Несколько сот красных языков дочиста вылизывают чашки. Съевшие свою порцию встают в очередь снова. В огромный котел засыпают еще несколько мешков мелкого риса и наливают несколько ведер воды. По вкусу молока я определил, что на этот раз «кашу милосердия» варили из обрушенного риса, тронутого плесенью гаоляна, подгнивших соевых бобов и ячменя с мякиной.
Глава 15
Но когда, наевшись каши, мы возвращались в свою деревню, голод стал нестерпимым. Похоронить трупы, валявшиеся в поле вдоль дороги, не было сил, даже глянуть на них духу не хватало. Исключением стал почтенный Фань Сань. Его обычно не очень-то жаловали, но в трудную минуту он скинул куртку, поджег ее и огнем и своими призывами привел нас в чувство. Он спас нам жизнь – такое не забывается. Под водительством матушки иссохшее, как прутик, тело старика отнесли в сторону от дороги и забросали землей.
Первое, что мы увидели, придя домой, была Птица-Оборотень. Она расхаживала по двору, держа на руках что-то, завернутое в соболью шубу. Матушка оперлась на ворота, чуть не падая. Третья сестра подошла и протянула ей сверток.
– Что это? – спросила матушка.
– Ребенок, – прощебетала сестра почти человеческим голосом.
– Чей ребенок? – задала вопрос матушка, хотя, похоже, уже догадалась.
– Ясное дело чей, – ответила сестра.
Конечно, шуба Лайди – значит, и ребенок ее.
У этой смуглой, как угольный брикет, девочки с черными, как у бойцового петуха, глазами и тонкими стрелками губ большие бледные уши явно контрастировали с цветом лица, что со всей ясностью свидетельствовало о ее происхождении: для нас с сестрами это была первая племянница, и произвели ее на свет старшая сестра и Ша Юэлян.
Лицо матушки исказилось от отвращения, а ребенок ответил на это каким-то полусмешком-полумяуканьем. От ненависти у матушки аж в глазах помутилось, и она, презрев могущественные чары Птицы-Оборотня, лягнула ее по ноге. Та взвыла от боли, отскочила на пару шагов, а когда обернулась, то выразила свой гнев чисто по-птичьи: твердо сжатые губы приподнялись, словно готовые клюнуть, руки взмыли вверх, будто она собиралась взлететь. Но матушке было уже все равно, птица перед ней или человек.
– Кто позволил тебе принять этого ребенка, идиотка? – Третья сестра вертела головой, словно выискивая насекомых в дупле. – Лайди, шлюха бесстыжая! – бушевала матушка, возведя глаза к небу. – И ты, Монах Ша, бандит с черным сердцем! Вы только рожать горазды, а растить этих детей кто будет? Думаете, подбросили ребеночка и в кусты? Как бы не так! Да я в реку ваше отродье брошу ракам на корм, собакам на улице оставлю, в болоте – воронам на съедение, вот увидите!
Схватив девочку в охапку и не переставая повторять свои угрозы, матушка помчалась по проулку. Добежав до дамбы, повернула обратно и рванула на главную улицу, там снова развернулась и опять устремилась к дамбе. Бежала она все медленнее, ругалась все тише, как трактор с соляркой на исходе. Тяжело шмякнувшись задом на землю там, где погиб пастор Мюррей, она подняла глаза на полуразрушенную колокольню, с которой он сиганул вниз, и пробормотала:
– Помираете вот… Сбегаете, бросаете одну. Ну как тут жить, когда столько ртов кормить нужно! Господи Боже, небесный правитель, ну скажи, как жить дальше?
Я разревелся, оросив слезами матушкину шею. Девочка тоже запищала.
– Цзиньтун, сердце мое, не плачь, – успокаивала меня матушка. – Бедная деточка! – повернулась она к девочке. – И зачем ты только появилась на свет! У бабки молока не хватает даже на твоего маленького дядю, а вместе вы оба с голоду помрете. Сердце у меня не камень, но что я могу поделать…
Она положила завернутую в соболью шубу девочку у входа в церковь и кинулась к дому, будто спасаясь от смертельной опасности. Но через несколько шагов ноги перестали слушаться. Девочка верещала, как поросенок под ножом, и невидимая сила остановила матушку, словно стреножив ее…
Три дня спустя все мы вдевятером появились в уездном городе на оживленном рынке, где торговали людьми. На спине матушка тащила меня, на руках – это отродье Ша. Четвертая сестра несла на закорках пащенка Сыма. Пятая сестра взвалила на себя восьмую сестренку, а седьмая шла сама по себе.
В мусорной куче мы отыскали немного гнилой капусты и, подкрепившись, кое-как доплелись до рынка. Матушка заткнула за ворот пятой, шестой и седьмой сестрам по пуку соломы, и мы стали ждать покупателей.
Перед нами тянулись дощатые бараки. Выкрашенные известью стены и верх резали глаз белизной. Из жестяных труб на крышах поднимались вверх черные клубы дыма, но ветер относил их в нашу сторону. Грациозно покачиваясь, они меняли свою форму. Время от времени из бараков выбегали проститутки – распущенные волосы, торчащие из распахнутых кофт белоснежные груди, ярко накрашенные губы и заспанные глаза. Кто с тазиком, кто с ведром, они направлялись за водой к колодцу, от которого валил пар. Немощными белыми ручками они вращали уныло поскрипывающий тяжелый ворот. Когда увесистая бадья показывалась из колодца, они, упираясь ногой в деревянной сандалии, чуть цепляли ее, а потом ставили на край, где уже наросло много льда в форме пампушек или грудей. Девицы бегали туда-сюда, сандалии звонко постукивали, а от выставленных напоказ – уже, наверное, ледяных от холода – грудей несло серой. Я выглядывал из-за плеча матушки, но издалека видны были лишь беспорядочно приплясывающие груди этих странных женщин, – они походили на бутоны мака, на порхающих в горном ущелье бабочек. Обратили на них внимание и сестры. Я слышал, как четвертая сестра что-то тихо спросила у матушки, но та не ответила.
Мы стояли перед высокой стеной, толстой и мощной. Она защищала от северо-западного ветра, так что было сравнительно тепло. Слева и справа жались такие же, как мы, пожелтевшие и осунувшиеся, такие же дрожащие, исстрадавшиеся от голода и холода люди. Мужчины и женщины. Матери с детьми. Мужчины все глубокие старики, морщинистые, как гнилые пни, большей частью слепые, а если не слепые, то с красными, опухшими, гноящимися глазами. Рядом стояли или сидели на корточках дети – мальчики и девочки. На самом деле отличить, кто из них мальчик, а кто девочка, было непросто: все чумазые, будто только что из трубы вылезли. У всех на спине вставлен за воротник пучок соломы, в основном рисовой, с торчащими сухими желтыми листьями. Это навевало мысли об осени, о запахе соломы в ночи, похрустывающей на зубах лошадей, и о том, какой радостью наполняет этот звук и людей, и животных. У других за воротником собачьими и ослиными хвостами висела сорванная где попало трава, вроде полыни. Большинство женщин, как и матушку, окружали целые стайки детей, но столько, как у нее, не было ни у кого. У одних все дети стояли с травой за воротником, у других лишь некоторые. Над головами детей тяжело покачивались морды лошадей, ослов, мулов: большие, как цимбалы, глаза, толстые, похотливые губы, обросшие жесткими, колкими волосками, за которыми мелькали ровные и крепкие белые зубы. Среди других выделялась одна женщина, вся в белом, даже волосы завязаны белой тесьмой; бледное лицо, посиневшие губы и веки. Она одиноко стояла у самой стены, без детей и без соломы за воротником. В руках она держала ветку полыни, хоть и высохшую, но красивую по форме.
Рядом с белеными бараками разгорелись страсти; пронзительные женские вопли, подобно лезвию ножа, прорезали воздух и солнечный свет. У колодца сцепились двое: одна в красных штанах, другая – в зеленых. Та, что в красных, заехала той, что в зеленых, по лицу. Та, что в зеленых, ответила ударом в грудь. Потом обе отступили и с минуту таращились друг на друга. Лиц я не видел, но мог себе представить, что они выражали. Мне эти двое почему-то показались похожими на старших сестер – Лайди и Чжаоди. Женщины вдруг подпрыгнули, как бойцовые петухи, и бросились друг на друга: ходуном ходили руки, мотались в разные стороны груди, крохотными жучками брызгали во все стороны капельки слюны. Красноштанная вцепилась противнице в волосы, вторая не замедлила сделать то же самое. Улучив момент, красноштанная пригнулась и впилась зубами в левое плечо противницы. Почти одновременно зеленоштанная тоже цапнула ее за плечо, и тоже за левое. Ни та ни другая не уступала, силы были равны, и обе безрезультатно топтались у колодца. Остальные проститутки занимались кто чем: кто безмятежно покуривал возле дверей, кто, присев на корточки, чистил зубы и сплевывал белую пену, кто хохотал, хлопая в ладоши, кто развешивал на стальной проволоке длинные тонкие чулки. На большом круглом валуне рядом с бараком стоял навытяжку человек в черных, начищенных до блеска кавалерийских сапогах. Со свистом рассекая воздух лозиной, зажатой попеременно то в левой, то в правой руке, он демонстрировал приемы владения мечом. Из одного из заведений на юго-западе вывалилась толпа мужчин: пара хохочущих толстопузых коротышек в окружении десятка длинных и тощих молодцев. Толстяки не просто смеялись, они гоготали. Этот необычный гогочущий смех, который до сих пор стоит у меня в ушах, заставил вспомнить о происходящем у колодца. Пузатики со свитой направились к баракам, гогоча всё громче. Мужчина с лозиной вместо меча покинул валун и юркнул в один из номеров. К колодцу же устремилась низкорослая толстушка; она семенила своими ножонками, покачиваясь при этом из стороны в сторону. Казалось, у нее их и нет: они словно в землю провалились. Она так размахивала своими короткими, толстыми, как корни лотоса, ручками, что можно было подумать, будто она бежит. На самом-то деле передвигалась она очень даже неспешно. Исходившая от ее тела мощь в основном расходовалась на то, чтобы раскачиваться и трясти мясами. До нее было еще метров сто с лишним – а может, и больше, – но мы уже явственно слышали ее пыхтение, от нее валил пар, будто она вышла из бани. Наконец она достигла колодца, ее ругань прерывалась одышкой и кашлем. Мы догадались, что драчуньи в ее подчинении и она пытается разнять их. Но те вцепились друг в друга отчаянной хваткой, и растащить их было невозможно. Они не могли пересилить друг друга, то одна брала верх, то другая. Пару раз чуть в колодец не рухнули – хорошо, ворот помешал. Толстуху отпихнули так, что она тоже чуть не сыграла в воду, – спасибо, опять ворот выручил. Когда она навалилась на него, он повернулся с тяжким скрипом. Было видно, как она пытается подняться, но из-за ледяных пампушек мягко шлепается на землю. Послышались какие-то звуки, вроде всхлипываний, и мы поразились: неужто плачет? Поднявшись, она налила в таз холодной воды и окатила драчуний. Те вскрикнули от неожиданности и мгновенно разошлись – растрепанные, исцарапанные, одежда разодрана, груди бесстыдно торчат – все в синяках и ссадинах. Но, полные злости, принялись смачно осыпать друг друга кровавыми плевками. Толстуха налила еще тазик и плеснула от души. Вода рассыпалась в воздухе прозрачными крылами, а толстуха снова шлепнулась, опередив падающие на землю капли. Таз вылетел у нее из рук и чуть не угодил по голове одному из компании пузатых. Те, видать, толстуху хорошо знали, подняли ее, перемежая ругань с прибаутками, отряхнули и вместе с ней всей толпой завалились в барак.
Раздался протяжный вздох разочарования: я понял, что все с интересом следили за этим представлением.
Около полудня на главной дороге с юго-востока показался конный экипаж. Большой белый жеребец шел, высоко подняв голову: на лоб легла прядь серебристых волос, глаза с поволокой, розоватая переносица, алые губы; на шее – медный колокольчик на красной бархатной ленте. Экипаж, покачиваясь, приближается, и вокруг разносится чистый звон. На спине жеребца высокое кожаное седло, на оглоблях посверкивает медная обивка. Огромные колеса с белыми ступицами и белый верх экипажа, многократно покрытый тунговым маслом для защиты от солнца и дождя, – в общем, великолепное зрелище. Такого роскошного экипажа мы в жизни не видели и были уверены, что пассажир в нем поблагороднее, чем дама на «шевроле», которая приезжала в Гаоми к Птице-Оборотню. Даже кучер в цилиндре, сидящий на козлах, развесив стрелки усов, казался нам человеком необыкновенным. Насупленное лицо, грозный взгляд – уж верно, не такая балаболка, как Ша Юэлян, и посуровее, чем Сыма Ку. С ним, наверное, лишь Пичуга Хань мог сравниться, да и то если его приодеть соответственно.
Экипаж неспешно остановился, красавец жеребец стал бить копытом в унисон с позвякиванием колокольчика. Кучер откинул занавеску, и пассажир – мы столько гадали, каков он из себя, – вышел.
Это была дама в собольей шубе с рыжей лисой вокруг шеи. Эх, была бы это моя старшая сестра Лайди! Так нет! Из экипажа вышла голубоглазая иностранка с золотистыми волосами. Сколько ей лет, знали, наверное, лишь ее родители. Следом появился симпатичный черноволосый юноша в накинутом на плечи синем шерстяном студенческом пальто. Он мог быть и сыном иностранки, но ничего общего в их обличье не было.
Люди ринулись было вперед, будто собираясь ограбить эту иностранку, но в нескольких шагах от нее робко остановились: «Госпожа, почтеннейшая, купите мою внучку!», «Госпожа, благородная госпожа, только гляньте на моего сына! Он повыносливее собаки будет, любую работу делать может…» – мужчины и женщины стеснительно предлагали иностранке своих детей. Лишь матушка осталась стоять где стояла. Она застыла, не в силах оторвать глаз от собольей шубы и лисы. Ясное дело, о Лайди думала: на руках ее ребенок, в душе все перевернулось, а слезы застлали глаза.
Высокородная иностранка прошлась по человечьему рынку, прикрывая рот платком. За ней тянулся такой аромат, что мы с этим заячьим отродьем Сыма даже чихнули. Она присела на корточки перед слепым стариком и окинула взглядом его внучку. Девочка испугалась свешивающейся с шеи лисы, ухватилась за дедовы ноги и спряталась за ним. У меня в мозгу отпечатались ее полные ужаса глаза. Слепец потянул носом и, почуяв, что благородная дама где-то рядом, простер руку:
– Спасите жизнь ребенка, почтенная, со мной она помрет с голоду. А мне ни фэня70 не надобно…
Иностранка поднялась и вполголоса что-то сказала юноше в студенческой форме.
– Ты кем ей приходишься? – громко обратился тот к старику.
– Дед я ей, да толку от меня никакого, сдохнуть бы такому деду…
– А что ее родители? – продолжал юноша.
– Померли с голоду, – отвечал слепец, – все померли. Те, кому бы след помереть, живые, а те, кому бы жить да жить, померли. Сделай милость, господин хороший, забери ее с собой. Мне ничего не надо, лишь бы ты помог ребенку выжить…
Юноша повернулся к иностранке, что-то проговорил, и она закивала. Молодой человек нагнулся и попытался вытащить девочку, но не успел он коснуться ее плеча, как она впилась зубами ему в запястье. Он вскрикнул и отскочил в сторону. Иностранка демонстративно пожала плечами и подняла брови. Платком, которым прикрывала рот, она обмотала юноше руку.
Обуреваемые невыразимым страхом или восторгом, мы с матушкой ждали, казалось, тысячу лет. И вот наконец увешанная жемчугами и драгоценностями, надушенная иностранка стоит перед нами, держа пострадавшего юношу за руку. В это время справа слепой старик пытался отлупить кусачую девчонку. Но та была начеку и словно играла с дедом в прятки, поэтому всякий раз он попадал своей бамбуковой палкой по земле или по стене.