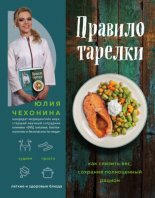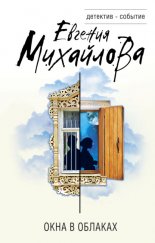Множественные ушибы Бекетт Саймон

– Будет жечь.
И жгло. Но когда она закончила, нога выглядела не так скверно, как прежде, и больше походила на конечность, чем на отбивную. Матильда наложила новые тампоны и забинтовала. Все проделывалось ловко, экономными движениями. Из-под темных волос белел кончик уха. Круги под глазами обозначились резче. В ней чувствовалась одновременно ранимость и неприступность – внутренняя сдержанность, в которой не так-то легко пробить брешь. Хотя никто не приносил извинений по поводу случившегося, у меня почему-то возникло ощущение, что по-дурацки себя вел именно я. Когда нога была забинтована, я кашлянул и поблагодарил:
– Спасибо.
Матильда принялась убирать свои перевязочные материалы обратно в аптечку.
– Позднее принесу горячую воду, чтобы вы могли помыться. Если хотите что-нибудь почитать, захвачу для вас книги.
Я был сам не свой, что мало располагало к чтению, и, отказавшись, спросил:
– Сколько мне еще тут валяться?
– Все зависит от того, как скоро вы восстановитесь и сможете ходить. – Матильда оглядела сваленный у стен хлам. – Здесь где-то должны быть костыли. Попробую найти их.
– Чьи они? – Я внезапно встревожился: неужели я не первый узник на этом чердаке?
– Мамины.
Забрав поднос, она направилась к люку. Я смотрел, как Матильда исчезает в проеме, почти ожидая, что крышка за ней закроется. Но на сей раз она осталась открытой.
* * *
Сегодня завтрак оказался разнообразнее: приправленные маслом и черным перцем яйца всмятку, хлеб и стакан молока. Я проголодался, но, стараясь продлить удовольствие, ел медленно. Закончив, посмотрел на часы и обнаружил, что время почти не двинулось вперед с тех пор, как я сверялся с циферблатом в прошлый раз. На чердаке становилось жарко, и он наполнялся смолистым запахом разогретого дерева и пыли. Я начинал потеть. Небритый несколько дней, покрытый щетиной, подбородок зудел. Я сознавал, что от меня исходит запах болезни и разгоряченного тела. Не удивительно, что Матильда предложила мне помыться. И еще было противно во рту. Я провел языком по зубам и хмыкнул: вчера мне не требовалось никакой бутылки, чтобы одолеть папашу, – достаточно было просто дыхнуть на него.
Я достал из рюкзака зубную щетку и пасту и чистил зубы до тех пор, пока не заболели десны. А потом опять улегся на матрас. Но был слишком взбудоражен, чтобы уснуть. И поскольку мозг занять было нечем, он начал потихоньку закипать и требовать активности.
Держась за стену, я прыжками пересек чердак к тому месту, где грудой свалили мебель. Матильда сказала, что где-то среди хлама лежат костыли, и обещала поискать их, но я не видел смысла ждать. Здесь валялись какие-то искореженные, разрозненные вещи, покрытые серой пылью. У стульев не хватало ножек, чемоданы заплесневели, комоды без ящиков напоминали беззубые рты. За ущербным, без верха, бюро я обнаружил с полдюжины старинных, затейливо украшенных рам без холстов и стекол. Машинально начал разбирать их, но вдруг вспомнил, что теперь не знаю никого, кому бы они пригодились. Эта мысль принесла с собой тупую боль вины.
Оставив в покое рамы, я сосредоточился на поисках костылей. Один обнаружился под кучей сломанных стульев, но второго нигде не было. Однако один все же лучше, чем ничего. Он был из потертого, помятого алюминия. Смахнув с него паутину и отрегулировав по высоте, я начал тренироваться и неуклюже ходил туда-сюда по чердаку. Усилия меня вскоре измотали, зато приятно было сознавать, что я вновь обрел мобильность.
Обливаясь потом и тяжело дыша, я решил отдохнуть, но, как только улегся на матрасе, мысли вновь закружили в голове. Надо было чем-то отвлечься. Большинство моих музыкальных записей хранились в телефоне, но в рюкзаке лежал старый плейер. В нем содержалась приличная подборка дорожек, а батарейки, к счастью, не разрядились. Я вставил в ухо наушник, включил воспроизведение и закрыл глаза, наслаждаясь обволакивающей меня музыкой. Не знаю, как я догадался, что на чердаке находится кто-то еще – то ли почувствовал движение воздуха, то ли заметил, как что-то мелькнуло против света из окна. Рядом с матрасом что-то стукнуло. Я рывком вскочил, открыл глаза и увидел перед собой человека.
– Боже!
Греттен вздрогнула и чуть не выпустила из рук ведро. Поспешно поставила его на пол, а я выключил музыку и вынул из ушей наушники. Внезапная тишина подействовала, как свет в кинозале во время демонстрации картины.
– Простите. Я подумала, вы спите, – пробормотала она.
– Давно вы здесь? – Греттен не реагировала. И я, сообразив, что говорю по-английски, повторил вопрос по-французски.
– Недавно. – Ответ прозвучал тихо, будто откуда-то издалека. – Матильда прислала вам воду, чтобы вы могли помыться.
Греттен смотрела под ноги, словно стеснялась поднять голову. Она раскраснелась от того, что тащила наверх ведро, и так вспотела, что хлопчатобумажная ткань прилипла к телу. Ее взгляд скользнул на висевшие у меня на шее наушники.
– Что слушаете?
Это была английская, но известная также в Европе группа. Но когда я сообщил название, понял, что Греттен ее не знает.
– Послушайте, может, понравится. – Я предложил ей наушники.
Ее лицо оживилось, но она покачала головой.
– Лучше не надо. Мне не следует с вами разговаривать.
– Так велел ваш отец? Однако вы уже говорите со мной.
– Это другое. Матильда занята сейчас с Мишелем, папа – с Жоржем.
То есть ее отец не знает, что она пришла на чердак. Я отложил наушники – не хотел неприятностей ни себе, ни Греттен.
– Кто такой Жорж? Муж Матильды?
Она уже упоминала это имя, однако мое предположение заставило ее рассмеяться.
– Нет, Жорж старый. Он помогает папе, – не переставая улыбаться, Греттен вновь посмотрела на наушники. – Может, я все-таки послушаю?
Устроившись на краешке матраса, она надела наушники. Но как только я включил музыку, заморгала.
– Громко!
Я начал убавлять звук. Она покачала головой.
– Не надо. Мне так нравится.
Не слыша себя, она почти кричала. Я вздрогнул и поднес палец к губам.
– Извините.
Греттен слушала музыку с детским восторгом, кивая в такт ритму. Ее лицо казалось мне почти безукоризненным, если не считать горбинки на носу. Но без этого изъяна ее красота была бы пресной. Я включил еще одну дорожку, а когда она закончилась, Греттен не могла скрыть разочарования. Но вдруг, снова засмущавшись, сняла наушники.
– Спасибо.
– Вы можете скопировать себе этот альбом.
Она опустила голову.
– Не получится. У нас нет компьютера. Даже плейера не осталось после того, как старый сломался.
Здесь жили, словно в другой эпохе. Подобное существование не очень подходило этой девушке. И уж если на то пошло, ее сестре тоже. Однако я не жалел, что ферма отрезана от внешнего мира.
– Какже вы развлекаетесь?
Греттен дернула плечом.
– Смотрю телевизор, гуляю с Мишелем.
– Сколько вам лет?
– Восемнадцать.
Старше, чем я подумал. Нет, она выглядела на свои годы, просто была в ней какая-то подростковая девичья незрелость.
– У вас есть друзья?
– Здесь живут ребята по соседству. – Греттен начала наматывать на палец провод наушников. Затем недовольно фыркнула. – Папа не разрешает мне встречаться с городскими. Говорит, что там одни идиоты и не следует тратить на них время.
Почему-то ее слова меня не удивили.
– Вам не скучно?
– Иногда. Но это папина ферма, и если я здесь живу, то нужно выполнять правила. Во всяком случае, большую часть времени.
Греттен лукаво покосилась на меня. Ждала, чтобы я спросил, что означает: «большую часть времени». Но я промолчал.
– Вчера вечером он рассердился из-за того, что вы нарушили правила?
Ее симпатичная мордашка сморщилась.
– Это вина Матильды. Ей нужно было рассказать отцу о вас. Она не имела права хранить все в тайне.
– И вы решили сообщить ему?
– А разве нельзя? – Греттен задиристо вздернула подбородок, став на какое-то время на удивление похожей на отца. – Матильда вечно мной распоряжается, говорит, что можно, что нет. Но как только вы очнулись, справедливость требовала, чтобы отец все узнал. Это его ферма, а не ее.
Я не собирался с ней спорить – достаточно хватало своих проблем, чтобы встревать в их семейные распри. Но вдруг почувствовал, что Греттен сидит ближе ко мне, чем минуту назад. Я ощущал тепло ее рук.
– Вам лучше уйти, прежде чем вас хватятся. – Я отобрал у нее наушники и, отложив в сторону, отодвинулся.
Греттен с удивлением посмотрела на меня, но встала.
– Можно, я еще как-нибудь послушаю?
– А что скажет ваш отец?
Она пожала плечами.
– Он не узнает.
Вот так-то она слушалась папу. У меня сложилось впечатление, что Греттен подчинялась лишь тем из папиных правил, которым хотела. Направляясь к люку, она покачивала бедрами. Я отвернулся и сделал вид, будто занялся наушниками. Когда ее шаги стихли внизу, вздохнул и снова вставил их в уши. Стало жаль Греттен, но не хотелось, чтобы голову мне морочила скучающая восемнадцатилетняя девица. Да еще при таком психопате-отце. Все, что мне было нужно, – как можно скорее убраться с фермы.
А что потом?
Чердак прогрелся больше, чем обычно, и стало совсем душно. Я закурил и, привалившись спиной к каменной стене, выпускал к крыше дым. Глядя, как рассеивается голубое облачко, думал о том, что мне сказали Матильда и Греттен. Во всех разговорах о ферме было одно лицо, которое ни разу не упоминалось.
Отец ребенка Матильды.
Глава 4
Я вышел на улицу на следующее утро.
После прихода Греттен я почти весь остаток предыдущего дня проспал, а в какой-то момент, проснувшись, обнаружил рядом с постелью поднос с едой. Сумел прободрствовать ровно столько, сколько потребовалось, чтобы съесть куриный бульон с хлебом, и снова провалился в сон, хотя намеревался встать и поупражняться с костылем.
На следующее утро понял, что еда и отдых сделали свое дело, – я почувствовал себя значительно лучше. Чердак был залит солнечным светом, но пока не разогрелся, и в нем царила благословенная свежесть, которая к полудню исчезнет. Поднос с остатками ужина поменяли на поднос с завтраком – все те же яйца с маслом. Я не услышал, как это случилось, однако успел привыкнуть к мысли, что на чердак приходят, пока я сплю.
С жадностью поев, я проглотил остатки желтка с хлебом и пожалел, что мало. Ведро с водой, которое накануне принесла Греттен, по-прежнему стояло у постели. Смыв с себя высохший пот, я достал бритву. По моим подсчетам, предстояло справиться с двухнедельной порослью, но в последнюю секунду я передумал. На чердаке не нашлось зеркала, даже какого-нибудь осколка, а на ощупь щетина показалась мне странной – еще не борода, но не мое прежнее лицо. Подумав, я решил, что это даже неплохо.
Несколько минут я радовался собственной чистоте, но вскоре снова начал потеть. Маленькое чердачное окно было открыто, правда, это мало что давало: ветерок снаружи лишь шевелил воздух, но нисколько не охлаждал. Зной усиливался и будоражил меня. Я встал, решив поупражняться с костылем, и вдруг увидел, что крышка люка открыта. Приблизился к ней и посмотрел вниз.
Никто же не велел мне безвылазно сидеть на чердаке.
Справиться со спуском на сей раз оказалось намного проще. Держа костыль под мышкой, я двигался по ступеням, как по веревочной лестнице. Ступню предостерегающе дергало, и я опирался о каждую ступеньку коленом, чтобы облегчить вес, когда приходилось вставать на больную ногу.
Остановился передохнуть на небольшой площадке, куда упал, когда отец Матильды спустил меня вниз. Пустые бутылки, которые я тогда раскидал, снова стояли в порядке. Но даже при свете дня сарай был промозглым и мрачным. Каменные стены глухие, свет проникал лишь в открытые ворота. Здесь было прохладнее, и, по мере того как я спускался, все явственнее чувствовались запах прокисшего вина вперемешку с заплесневелыми камнями и деревом. Прежде в сарае располагалась небольшая винодельня. Стоял металлический чан, а на мощеном полу остались следы от другого, позже убранного оборудования. В одном месте целую секцию булыжников вывернули, а пол зацементировали – он выглядел новее, но успел покрыться трещинами.
Из стены торчал кран. Когда я повернул вентиль, вода потекла на камни, и я подставил под струю ладонь, чтобы сделать несколько глотков. Вода оказалась такой холодной, что сводило челюсти, но на вкус удивительно свежей. Плеснув на лицо, я подошел к стоящему рядом винному стеллажу. Он был наполовину заполнен бутылками без наклеек, но пробки окрасили пятна, где вино просачивалось наружу. Я понюхал одну и поморщился от ударившего в нос кислого запаха. Затем направился к выходу.
Снаружи струился солнечный свет. Я на мгновение задержался, разглядывая открывшуюся за воротами картину. Внешний мир был вписан в них, словно в раму, и его четкий образ на фоне темных стен походил на экран кинотеатра. Сощурившись от солнца, я оперся на костыль и вышел наружу. Ощущение было таким, будто я шагнул в яркую цветную картинку. Я глубоко вдохнул, наслаждаясь ароматом диких цветов и трав. Ноги дрожали, но было очень приятно после удушающей атмосферы чердака почувствовать на лице солнечные лучи. Стараясь не потревожить забинтованную ногу, я спустился на землю и огляделся.
Прямо перед амбаром рос виноградник, который я видел из окна наверху. Он граничил с лесом, а дальше сквозь деревья простиралась голубая гладь озера. Все это окружали бледно-золотистые поля. Какой бы ни была эта ферма, она стояла на земле, где царили мир и покой. Воздух звенел от стрекота кузнечиков, где-то блеяли козы, но ничего больше не тревожило слух. Ни машины, ни механизмы, ни люди.
Я закрыл глаза и впитывал покой.
Но вдруг в идиллию вмешался новый звук – равномерное металлическое поскрипывание. Я поднял голову и увидел идущего по дорожке среди виноградника старика. Кривоногий, жилистый, он нес оцинкованные ведра, и они, слегка покачиваясь, издавали этот скрип. Его редкие волосы совсем побелели, лицо приобрело цвет древесины старого дуба. Он был едва ли выше меня, хотя я в это время сидел. Но в нем ощущалась физическая сила, и я заметил, как на предплечьях под закатанными рукавами рубашки бугрились мышцы.
Наверное, это был Жорж, о котором упоминала Греттен, решил я и произнес:
– Доброе утро!
Старик никак не отреагировал и продолжал, не спеша, идти к амбару. Мимо меня он прошел, словно я был пустым местом. Не удостоенный ответа, я повернул голову, стараясь рассмотреть, что он делает внутри. Звякнули ведра, когда их поставили на пол, через мгновение в них из крана полилась вода. Через несколько минут журчание прекратилось. Старик появился из амбара. На меня он по-прежнему не обратил внимания. Мускулы на руках вздулись под тяжестью веса, будто их набили грецкими орехами.
– Я тоже рад познакомиться, – сказал я ему в спину
И наблюдал, как он пересек виноградник и скрылся в лесу. Интересно, зачем ему там понадобились ведра с водой? Насколько можно было судить, на ферме не держали скотины, кроме кур и коз, чье блеяние я слышал. И ничего не выращивали на земле, только виноград. А судя по запаху от пробок и разоренному помещению винодельни, здесь никак не могли рассчитывать на успех в виноторговле.
Я вообще не понимал, чем живут эти люди.
Пока я отдыхал, мою открытую солнцу кожу стало покалывать, и она покраснела. Тяжело поднявшись и решив обойти амбар, я уперся подмышкой в костыль и поплелся к углу. За ним оказался туалет без крыши со старой выгребной ямой. Дальше двор, который я видел раньше. Здесь было еще жарче. От нагретой брусчатки поднималось горячее марево, а обнесенный лесами дом, куда я заходил за водой, казалось, был выбелен солнцем. Флюгер в виде петуха на искривленной крыше замер в ожидании хоть какого-нибудь ветра.
Курицы лениво копались в грязи, но людей поблизости не было. От мысли о воде во мне проснулась жажда. В амбаре был кран, однако после того, как мною так пренебрег старик, мне захотелось увидеть хотя бы мельком какое-нибудь другое человеческое лицо. Я захромал к дому, стараясь ставить прямо скользящий на камнях костыль. С одной стороны находилась конюшня со сломанными часами, и их единственная стрелка в застывшем замахе показывала на восемь часов. Машины с тех пор, как я приходил сюда в прошлый раз, не сдвинулись с места – грязный грузовик и прицеп стояли у стены конюшни. А из сводчатого стойла, напоминая морду спящей собаки, высовывался радиатор дряхлого трактора. Другое стойло занимал старый кузнечный горн. Кто-то прислонил к нему железные полосы, но я понял, что передо мной, лишь рассмотрев грубо сработанные треугольные зубья.
Ногу пронзила боль. Я повернул к дому.
Он оказался еще более ветхим, чем запомнился мне с первого раза. Половину его обнесли лесами, некрашеные ставни на окнах свисали, как крылышки мертвых насекомых. Землю у основания стен испещрила облупившаяся известковая штукатурка, до того раскрошившаяся, что больше напоминала непригодный для облицовки жилища песок. Кто-то сделал слабую попытку починить осыпающуюся каменную кладку, но работа была заброшена. Причем давно – леса успели заржаветь, как и валяющееся под ними долото. Когда я пошевелил его костылем, на камнях остался его четкий отпечаток.
Дверь в кухню была открыта. Смахнув с глаз пот, я постучал в створку.
– Эй!
Мне никто не ответил. Повернув назад, я заметил еще одну дверь в стене, некрашеную и покоробившуюся. Опираясь на костыль, я снова постучал, а затем осторожно открыл ее. Дверь скрипнула на несмазанных петлях. Внутри было темно, и даже с порога ощущался тянувшийся из помещения промозглый холод.
– Что тебе надо?
Я повернулся, изобразив при этом сложную танцевальную фигуру и стараясь не упасть и удержаться на костыле и здоровой ноге. Из-за конюшни материализовался отец Матильды. На его плече висел холщовый мешок, из него высовывалась окровавленная кроличья нога. В руках направленное в сторону ружье, что меня встревожило.
– Оглох? Я спросил, что тебе надо?
При дневном свете он выглядел старше лет шестидесяти, с бурыми старческими пятнами на лбу и руках. Это был невысокий, коротконогий, с длинным торсом и все еще крепкий мужчина.
Прошло несколько мгновений, прежде чем я обрел равновесие, стараясь не смотреть на его ружье.
– Ничего.
Он покосился на открытую дверь за моей спиной.
– Что ты здесь шныряешь?
– Захотелось попить воды.
– Кран в амбаре.
– Знаю. Вот решил подышать свежим воздухом.
– Ты только что сказал, что тебе захотелось пить. – На фоне обветренной кожи его светло-серые глаза казались осколками загрязнившегося льда. Взгляд остановился на костыле и стал суровым. – Откуда ты его взял?
– Нашел на чердаке.
– Кто тебе разрешил им пользоваться?
– Никто.
Я не понимал, почему защищаю Матильду, но мне казалось неправильным взваливать вину на нее. Чем агрессивнее старик выпячивал подбородок, тем больше я опасался его ружья.
– Решил, что тебе все дозволено? Что еще собираешься стащить?
– Нет, я не… – Мне вдруг расхотелось спорить. Солнце так сильно жгло, что высасывало из меня последние силы. – Послушайте, я не думал, что кто-нибудь станет возражать. Я положу костыль на место.
Я попытался обойти его и вернуться в амбар, но он загородил мне дорогу. И, направив на меня ружье, не собирался сходить с места. До сих пор я считал, что он больше играет, но, заглянув в его жестокие глаза, вдруг усомнился. Вскоре раздалось поскрипывание. Я посмотрел в конец двора и увидел неспешно приближающегося к нам Жоржа. В его руке качалось ржавое ведро.
Если он и удивился, увидев своего работодателя держащим на прицеле человека, он никак этого не показал.
– Починил, как сумел, забор, мсье Арно. Пока послужит. Но его все равно надо менять.
На меня Жорж не обратил внимания, словно я был человеком-невидимкой. Арно – я забыл фамилию на почтовом ящике, пока ее не произнесли вслух – еще больше побагровел.
– Хорошо.
Этим он дал понять, что старик может убираться на все четыре стороны, но тот намека не понял.
– Сходите посмотреть?
– Позже, – раздраженно бросил Арно.
Жорж довольно кивнул и, по-прежнему не реагируя на мое присутствие, зашагал через двор. Мне снова пришлось опереться о костыль, а отец Матильды, глядя на меня, с такой силой двигал челюстями, будто пережевывал слова. Но прежде чем он успел их выплюнуть, из-за конюшни вырвалась собака – молодой спрингер-спаниель с развевающимися ушами и высунутым из пасти языком. Он промчался мимо Арно и стал прыгать вокруг меня. Я постарался не показать, как сильно дрожу, когда протянул руку потрепать его по голове.
– Ко мне! – крикнул Арно.
Спаниель колебался. Он привык к послушанию, но ему хотелось порадоваться проявленному к нему вниманию.
– Ко мне, чертова тварь!
Собака съежилась и на полусогнутых лапах, виляя хвостом, поползла к хозяину. Если бы она могла, то прицепила бы себе на хвост белый флаг. Арно поднял руку, чтобы ударить ее, но в этот момент его лицо исказила судорога. Он замер и, схватившись рукой за спину, выгнулся от боли и позвал:
– Матильда! Матильда!
Она выбежала из-за угла дома с ребенком в одной руке и с корзиной измазанных в земле овощей в другой. Когда она увидела нас, на ее лице отразилось смятение, но оно тут же разгладилось и снова стало бесстрастным.
– Что он здесь делает? – обратился к дочери Арно. – Я тебе велел сделать так, чтобы он не попадался мне на глаза.
Матильда пыталась успокоить ребенка, расплакавшегося от громкого голоса деда.
– Прости…
– Это не ее вина, – вмешался я.
Еще сильнее побагровевший от злости Арно повернулся ко мне.
– Я не с тобой говорю!
– Я только вышел глотнуть свежего воздуха, – устало продолжил я. – Сейчас вернусь обратно. Вы довольны?
Старик фыркнул, посмотрел на плачущего ребенка и протянул к нему руки.
– Дай его мне.
Его ладони по сравнению с малышом казались непомерно большими. Он принял ребенка у Матильды и, подняв на уровень глаз, стал слегка покачивать. Ружье он по-прежнему держал под мышкой.
– Ну что такое, Мишель? Порадуй дедушку, будь большим мальчиком.
Голос звучал хрипло, но ласково. Малыш икнул и улыбнулся беззубым ртом. Не отводя глаз от внука, Арно бросил мне через плечо:
– Прочь отсюда!
Остаток дня я проспал, вернее, провел в полусне – забывался в духоте чердака и парил между явью и грезами. Очнувшись, нашел рядом с матрасом поднос с едой и ведро воды. Матильда принесла, догадался я. И хотя я не просил книгу, она положила на поднос потрепанный томик в твердом переплете «Мадам Бовари». Может, в качестве извинения за стычку с ее отцом?
Вечер прошел в дымке тумана и пота. Я лежал в трусах на матрасе, одурманенный пряным, как в коробке из-под сигар, ароматом чердака. За неимением лучшего попробовал читать «Мадам Бовари», но архаичный французский оказалс мне не по зубам, и я не мог сосредоточиться. Слова расплывались, книга вываливалась из рук, пока я не отбросил ее. Думал, в такую жару не усну, но стоило мне закрыть глаза, и я провалился так глубоко, словно утонул.
А потом вскрикнул и проснулся – пригрезилась кровь на темной улице. Несколько секунд не мог вспомнить, где нахожусь. На чердаке стемнело, только сквозь открытое окно проникал призрачный свет. Руки горели и стали липкими, а сон показался настолько реальным, что я не удивился бы, обнаружив на ладонях кровь. Но это был всего лишь пот.
Чтобы разглядеть циферблат часов, не пришлось включать лампу, хватило лунного света. Ровно полночь. Дрожащей рукой я нащупал сигареты. Осталось всего три. Из экономии я стал курить по половинке и теперь зажег обуглившийся кончик раньше начатой сигареты и набрал в легкие дым. Груз отчаяния легче не стал. В замкнутом пространстве чердака тянуло сыростью. Полоса света пролегла по полу и цеплялась за край моей постели. Я поднялся с матраса и прыжками перебрался по серебристой дорожке к окну. Ночь превратила пейзаж в черно-белую картинку. За тенью леса на зеркальной поверхности озера сверкала луна. Воздух отдавал металлической сыростью. Я глубоко вдохнул, воображая, будто погружаюсь под воду и в ее глубине даже волосы на голове становятся невесомыми.
Заухала сова. Только теперь я сообразил, что стою, затаив дыхание, и выдохнул. Мне не хватало воздуха. Приступ клаустрофобии стал невыносим, и я, схватив костыль и лампу, бросился к люку. Вернувшись на чердак, я оставил его открытым, и его проем зиял, как провал в никуда. При тусклом свете лампы я спустился вниз по ступеням.
В тот момент я не размышлял, что делаю. Нижние помещения амбара скрывались в темноте, но поскольку на небе ярко светила луна, лампа мне больше не требовалась. Я выключил ее и оставил у входа. Ночной воздух, пропитанный ароматом деревьев и трав, успокаивал. Я больше не чувствовал себя усталым, меня подогревало лихорадочное желание добраться до озера.
Выйдя на тропинку, по которой днем ходил Жорж, я поковылял между рядов виноградника. Здесь монохромный мир состоял лишь из света и тени. На краю леса я остановился, чтобы перевести дыхание. Деревья плотной, темной стеной стояли на краю поля. Здесь воздух был прохладнее и приглушал звуки. Лунный свет беспрепятственно просачивался сквозь ветви. Я поежился, не понимая, чего добиваюсь. Знал, что следовало вернуться, но озеро манило сильнее.
Так далеко я еще не ходил на костыле и теперь, пробираясь сквозь лес, тяжело дышал. Каждый шаг давался с трудом, и я внимательно смотрел, куда наступаю, поэтому не заметил бледной фигуры, пока она не оказалась прямо передо мной.
– Господи!
Я отпрянул и тотчас увидел других – неподвижные силуэты в листве. Сердце глухо забилось, но фигуры не шевелились. Когда первое потрясение прошло, я понял почему. Среди леса стояли статуи – испещренные лунным светом каменные мужчины и женщины. Я с облегчением вздохнул, но все же потрогал ближайшую, желая убедиться, что ее похожие на живые руки и ноги все же не из плоти и крови. Пальцы ощутили шершавость лишайника и гладкость твердого камня.
Я сконфуженно улыбнулся, и вдруг тишину леса нарушил крик. Пронзительный, нечеловеческий, который длился и длился, пока не оборвался так же внезапно, как начался. Я вглядывался в темноту, неловко сжимая костыль. Лисица или сова, убеждал я себя, но чувствовал, как дыбом встают волосы. Покосился на статуи – они не шевелились, но теперь их слепое внимание пугало еще сильнее. Снова раздался крик, и мои нервы не выдержали.
Все помыслы об озере исчезли, когда я ковылял обратно по темной дорожке. Оглушало собственное хриплое дыхание, и кровь шумела в ушах, пока я старался справиться с единственным костылем. Впереди, невероятно далеко, сквозь деревья пробивался лунный свет. Боже, как же я сюда добрел? Наконец лес расступился, и чащу сменили стройные ряды виноградника. Я ловил воздух ртом и продолжал неуклюже прыгать, пока снова не очутился в спасительном убежище амбара. Задыхаясь, задержался на мгновение, чтобы схватить лампу, и обернулся на лес. На тропинке никого не было, но я не успокоился, пока не забрался на чердак и не закрыл за собой крышку люка.
Грудь тяжело вздымалась, ноги стали ватными. Я так взмок от пота, будто действительно искупался в озере. Как мне пришло в голову идти к воде? Теперь сама мысль, чтобы поплавать, показалась смешной. Разве с забинтованной ногой я бы сумел удержаться на поверхности? Какой-то бред! Мне хотелось одного – спать. Но я еще вернулся к люку и надвинул на крышку комод.
Лишь после этого, ощутив себя в безопасности, рухнул на матрас и уснул мертвецким сном.
Лондон
Когда я вернулся от стойки, Коллам все еще разглагольствовал:
– Да ладно тебе. Непохоже, чтобы мы смотрели с тобой один и тот же фильм. Сам-то ты как думаешь? Я смотрел «Последний наряд», а ты?
– Я утверждаю только одно: фильм закрепляет стереотипы характеров. Герои – закаленный служака и молокосос. Такой прием…
– Это архетипы, а не стереотипы! Неужели ты не уловил суть картины?
– Уловил. Только думаю… не знаю, как это выразить…
– Вот именно.
– Коллам, почему бы тебе не заткнуться и не позволить Джезу закончить мысль? – вмешалась Жасмин.
– Позволил бы, если бы он не городил такую чушь!
Я поставил напитки на стол: пиво для Коллама, Жасмин и меня, апельсиновый сок для Хлои и водку для Джеза. Когда я садился, Хлоя улыбнулась.
Жасмин повернулась ко мне:
– Шон, убеди Коллама, что человек имеет право критиковать фильм с Джеком Николсоном и не бояться, что его сожгут на костре за ересь.
– Шон согласен со мной! – отрезал Коллам.
Тощий, с бритой головой, с пирсингом, подчеркивавшим налет первозданной дикости, который ему так нравилось себе придавать.
– Николсон – лучший актер своего поколения, и никаких исключений.
– Николсон – актер, получавший случайные роли, но которому очень повезло. – Хлоя метнула на меня быстрый взгляд. Она нарочно заводила Коллама, а тот, как всегда, попался на удочку.
– Полная фигня. Я напомню тебе одно название, Хлоя: «Пролетая над гнездом кукушки»! – Он откинулся на спинку стула и сложил руки на груди, намекая, что говорить больше не о чем и спор выигран.
– Роль проще простого, – закатила глаза Жасмин. – С такой справился бы любой приличный актер. – В тот вечер ее волосы были собраны на затылке, она пришла в свободной темной одежде, потому что, как однажды по секрету призналась Хлое, стеснялась своей полноты.
– Скажешь тоже! А как насчет «Китайского квартала» и «Отступников»?
– А что? – Хлоя принялась загибать пальцы. – «Иствикские ведьмы», «Марс атакует!», «Бэтмен» – это все лучший актер своего поколения? Ты это утверждаешь?
– «Бэтмен» очень даже ничего, – насупился Джез. – Однако до «Черного рыцаря» недотягивает.
На него не обратили внимания. Джез пил весь вечер, и его забрало больше, чем обычно. Как и Коллам, он преподавал в лингвистической школе в Фулеме, где и я работал последние несколько месяцев. Жасмин была его девушкой и лучшей подругой Хлои по гуманитарному колледжу. Она тоже учительствовала в этой школе, пока не нашла более прибыльную работу в университете.
Мне нравились пятничные вечера. Занятия заканчивались рано, и мы компанией шли сначала выпить, а затем в один из независимых кинотеатров, которые находились в нескольких станциях метро от нашей работы. Коллам обожал кино, но постоянно изменял своим кумирам – актерам, сценаристам, режиссерам. Еще недавно взахлеб расхваливал Теренса Малика, но после того, как мы посмотрели «Познание плоти», его идеалом на несколько недель стал Джек Николсон.
Я сделал глоток пива и погладил под столом бедро Хлои. Она сжала мою руку, улыбнулась и откинулась на спинку стула.
– Мне пора на место.
Наклонилась, поцеловала меня – на мгновение ее коротко подстриженные волосы коснулись моей щеки, – распрямилась и направилась к стойке. «Домино» находилось рядом с Кингз-роуд, неподалеку от наших любимых кинотеатров, но приходили мы туда, потому что там работала Хлоя. Современный темный зал, подсвеченные голубым бутылки на полках, гранитная стойка – мы бы ни за что не осилили здешних цен, если бы Хлоя не поставляла нам дешевые напитки. Она сказала, что менеджер в курсе, и я решил, что все в порядке. Но иногда я все же задавался вопросом: знал ли тот менеджер, как далеко простирается его щедрость?
Я смотрел, как она зашла за стойку, рассмеялась чему-то, что ей сказала Таня, другая девушка из бара, и продолжила обслуживать клиентов.
– Хлоя в полном порядке? – спросила Жасмин.
Я повернулся и увидел, что она тоже смотрит на нее.
– Конечно, а почему бы ей не быть в порядке?
– Так, – улыбнулась Жасмин и, ничего не объясняя, пожала плечами.
Странные слова. Но меня тут же отвлек Коллам, принявшийся смешивать с грязью Куросаву.
– Ты же это не серьезно? – произнес я, ставя на стол кружку пива.
И через пять минут забыл о словах Жасмин.
Но вечером вспомнил. Мне пришлось ждать, пока уйдет последний посетитель и Хлоя вычистит бар и поставит стаканы на место. И только тогда можно было отправляться восвояси. На улице Таня ждала своего дружка, обещавшего подбросить ее домой. Мы пожелали ей спокойной ночи и пошли к себе. Метро уже не работало, такси мы редко позволяли, но до Эллз-Корт путь был недолгим. Похолодало. Светила полная луна. Первый иней на мостовой блестел, как алмазная крошка.
Я распахнул пальто и укрыл нас обоих. Хлоя обняла меня, превратившись в источник тепла на моей груди. Мы проходили мимо опущенных ставней на витринах закрытых магазинов и зарешеченных витрин вчерашней «Лондон ивнинг стандард», чьи новости успели устареть. Другой бы поостерегся ходить так поздно в этой части города, но я с детства привык. А Хлоя работала в баре, и казалось, что нам не в новинку любая опасность.
Пересекая улицу, мы тихо, чтобы никого не разбудить, смеялись. Вдоль тротуара тянулась вереница машин, и их темные металлические силуэты излучали холод. Краем глаза я заметил, как из тени впереди нас выступила фигура и направилась к нам.
Я продолжал идти и, словно защищая, обнимал Хлою. Высокий, крепкий мужчина был в толстом пальто, берет надвинут на самые глаза.
– Сколько времени? – спросил он.
Его руки были в карманах, однако я заметил, как на запястье блеснули часы. У меня часто забилось сердце. Надо было все-таки взять такси.