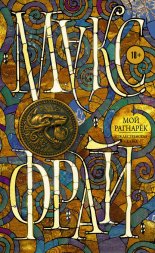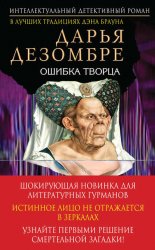Соотношение сил Дашкова Полина

– Холодрюга тут у вас, Илья Петрович, бр-р. – Тася передернула пухлыми плечами. – Может, форточку прикрыть?
– Не нужно, пусть будет воздух.
– Ой, глядите, простудитесь.
– Ничего, я закаленный. Спасибо.
Она вышла, а Илья подумал: «Вот, Алеша Соколов, жру твой хлеб, с маслом, с икрой. Таких конфет ты отродясь не пробовал. Не я у тебя все это отнимаю, но жру отнятое, причем даром. Двенадцать часов в сутки занимаюсь идиотизмом, не могу ничего изменить».
Может, стоило сохранить эти странички для истории? Но заводить домашний архив – безумие, самоубийство. Документов и так горы, на всех папках с расстрельными делами гриф «хранить вечно». А под грифом бредовые признания в шпионаже и вредительстве, выбитые сапогами из животов. Если останутся только эти архивы, будущие историки спятят.
«Какие историки? Война – вот ближайшее будущее».
Опять забили куранты. Половина седьмого. В любой момент Хозяин может затребовать сводку по Германии.
Она была готова еще вчера. Перечитав ее, он усмехнулся, поражаясь собственному упорству. Материалы подобраны так, чтобы хоть немного развеять плотные слои эйфории Хозяина.
Никаких разведсообщений из Германии не поступало. В распоряжении Ильи имелись перехваты тайной дипломатической переписки, иностранная пресса. Там о реальных планах Гитлера, разумеется, ни слова.
Для всего мира Россия и Германия выглядели близкими, надежными союзниками. Готовилось очередное хозяйственное соглашение. В секретном отчете торгового советника Шнурре, постоянного участника переговоров, приводились колоссальные цифры советских поставок. Нефть, цветные металлы, золото, платина, зерно, хлопок. Взамен Германия обязалась поставлять промышленные товары, технологии и оборудование.
«Советский Союз выразил готовность быть закупщиком металлов и сырья в третьих странах, – писал Шнурре, – сам Сталин неоднократно обещал в этом вопросе щедрую помощь».
Под «третьими странами» подразумевались те, кто отказывался продавать немцам товары, прежде всего США.
Личная инициатива Хозяина. СССР покупает как бы для себя все, что нужно Германии, доставляет на своих судах в свои порты, а потом по суше отправляет в рейх. Таким образом ломалась британская экономическая блокада, росли международная изоляция СССР, мощь германской армии и уверенность Гитлера, что Сталин его боится.
Соглашение планировали заключить в начале февраля. Илья еле удержался, чтобы не подчеркнуть в сводке красным карандашом замечание Шнурре:
«Советский Союз обещал куда больше, чем это могло быть оправдано с чисто экономической точки зрения. Поставки в Германию наносят ущерб собственному снабжению СССР».
На недавнем политбюро Хозяин объяснял: «Надо тянуть время, пусть они там хорошенько дубасят друг друга, а мы пока будем укреплять свою армию».
Но в реальности было все наоборот. Красная армия несла чудовищные потери в Финляндии, а «они там» дубасили друг друга как-то совсем вяло и неохотно. У них там шла странная война.
«Воевать с Британией Гитлер никогда не хотел. Родная раса, благородные англосаксы. – Илья пробегал глазами страницы готовой сводки. – Да и британского энтузиазма не видно. Сейчас на Западе ни то ни се. Англичане с французами точно как большевики в восемнадцатом: ни мира, ни войны, хорошо хоть армии свои не распускают. Сталин надеется, что война на Западе продлится несколько лет, Германия в ней завязнет и ослабнет, и при этом делает все, чтобы усилить военную мощь Германии за счет России».
Последнюю страницу Илья украсил цитатой из очередной триумфальной речи Гитлера: «В качестве главного фактора наших побед я со всей скромностью должен назвать собственную личность. Я незаменим. Ни одна личность ни из военных, ни из гражданских кругов не смогла бы меня заменить. Я убежден в силе своего разума и в своей решимости. Никто не сделал того, что сделал я».
* * *
К последнему предновогоднему занятию курсанты подготовили сюрприз. Парты были сдвинуты к задней стене. В образовавшемся пространстве для Карла Рихардовича разыграли несколько сцен из «Крошки Цахеса» Гофмана.
Длинный худющий Гена Дятлов, скрючившись, косолапо коряча ноги, изображал Циннобера. Люба Вареник играла фею и читала куски авторского текста. Владлен был влюбленным студентом Бальтазаром, роль красавицы Кандиды досталась Наташе Гуськовой, хрупкой белокурой тихоне с тонким голоском и всегда сонными серыми глазами. Толик Наседкин играл князя. За музыкальное сопровождение отвечал Витя Нестеренко, невысокий, полноватый, с неистребимым украинским говорком, по успеваемости недалеко обогнавший Толика. Детским ксилофоном и губной гармошкой Витя владел виртуозно.
Инсценировку, конечно, писала Люба. Она же была и режиссером. Каким-то чудом ей удалось вдолбить в голову Наседкина несколько княжеских реплик.
Доктор чуть не упал со стула от хохота, когда Наседкин, напяливая на скрюченного Дятлова блестящую елочную мишуру, пыхтя от усердия, старательно бубнил заученный текст:
– Я должен отличить вас, Циннобер, как подобает по вашим высоким заслугам! Примите из моих рук орден Золотого тигра!
Дятлов прижимал локти к бокам, мелко тряс головой и кулаками, корчил рожи, сердито верещал:
– Зачем вы так несносно тормошите меня? Пусть эта дурацкая штуковина болтается как угодно! Я теперь министр и останусь им навсегда!
В сцене обручения Наташа-Кандида стояла в марлевой фате, Циннобер-Гена сидел рядом с ней на корточках, весь обвитый мишурой. Когда Бальтазар-Владлен подскочил к нему и принялся сдергивать мишуру, Гена заквакал по-лягушачьи, подпрыгнул и стал кувыркаться через голову. Курсанты, изображавшие публику, громко переговаривались:
– Откуда взялся этот маленький кувыркун?
– Что нужно этому маленькому чудовищу?
Чудовище прыгало и визжало:
– Я министр Циннобер! Я золотой тигр с двадцатью пуговицами!
Бальтазар занял место жениха рядом с невестой Кандидой. Князь-Толик, взобравшись на стул, торжественно возложил ладони на их головы. Гена-Циннобер, напрыгавшись, забился в угол, жалобно поскуливал и прятал лицо в колени. Ксилофон и губная гармошка сыграли сначала траурный, потом свадебный марш. Люба, взмахнув указкой – волшебной палочкой, произнесла:
– Внезапно всем показалось, что никакого министра Циннобера никогда не было, а был всего лишь маленький, нескладный, неотесанный уродец, которого ненароком приняли за сведущего, мудрого министра Циннобера.
Карл Рихардович аплодировал стоя. Раскрасневшиеся артисты кланялись. Гена улыбался и разминал затекшие ноги. Потом все хором крикнули:
– С Новым годом!
Витя сыграл фрагмент вальса из «Щелкунчика». Доктор поздравил и поблагодарил каждого. Люба прошептала ему на ухо:
– Я немножко изменила финал. Не хотелось, чтобы Циннобер умер, испортил праздник.
– Ты молодец, Гофман точно не в обиде, – прошептал в ответ доктор.
На улице была благодать, ранние морозные сумерки, крепкий хруст снега под ногами, яркая, глубокая синева неба с малиновым отливом у горизонта.
Школа находилась в городке Балашихе, недалеко от Москвы. Когда-то это место славилось мельницей, поставлявшей муку к царскому двору, древними курганами и суконной фабрикой, которая теперь называлась «Мосшерстьсукно». С конца двадцатых здесь успели построить авиационные и военные заводы. Несколько сел по берегам речек Горенка и Пехорка объединили и назвали городом совсем недавно, в сентябре тридцать девятого. Рядом с заводскими корпусами и рабочими бараками сохранились старинные храмы и совсем близко – лес, поле, плакучие ивы над прудами.
У ворот он увидел красавца капитана и вдруг подумал: «А если спросить его про урановую бомбу? Просто прощупать, они хотя бы знают? Допустим, я в журнале прочитал, и стало интересно. Все-таки открытие мирового масштаба, оружие чудовищной силы… При ИНО есть научно-техническое подразделение, должны отслеживать такие вещи. Он, конечно, ничего определенного не скажет, но по глазам, по реакции пойму».
Капитан стоял и разговаривал с каким-то мужчиной. Одеты они были одинаково. Кожаные черные пальто реглан, подбитые коричневой цигейкой, теплые шапки-финки.
«Надо подождать, когда он останется один», – решил доктор, выстраивая в голове план разговора, и помахал капитану рукой. Тот помахал в ответ, а незнакомый мужчина обернулся и вдруг побежал навстречу.
– Митя? – изумленно прошептал Карл Рихардович, когда между ними осталось несколько метров. – Митя! – повторил он громче и уверенней.
– Так точно, товарищ Штерн, лейтенант Родионов в ваше распоряжение прибыл. – Он остановился, лихо козырнул.
– В какое распоряжение? Митька, что ты несешь? – Доктор засмеялся, обнял и расцеловал его.
Митя Родионов был лучшим из первого выпуска. До ШОН прослужил год в секретно-шифровальном отделе НКВД, взяли его туда с четвертого курса физико-математического факультета Московского университета. Он все схватывал на лету. Цепкая память, наблюдательность, быстрота реакции плюс обаяние и жажда приключений – идеальные качества для будущего разведчика-нелегала. В свои двадцать четыре года он мог бы справиться с самыми сложными заданиями, но только при твердой уверенности, что цель благая. Въедливый, логический ум ничего не принимал на веру. Мите надо было все понять, обдумать, додумать, решить уравнение со множеством неизвестных. Дисциплинарная рутина ШОН угнетала его. Он легко выполнял то, что считал разумным, и лишь чувство юмора помогало мириться с нагромождением идиотских правил и запретов.
За полгода учебы у него сложились приятельские отношения со всеми однокашниками, кроме двух очевидных мерзавцев, случились конфликт с комендантом после первого из регулярных шмонов в прикроватной тумбочке и короткий бурный роман с одной очень красивой курсанткой. Но никто из однокашников, включая героиню романа, не стал для него по-настоящему близким человеком. Со сверстниками ему было скучновато. Тянуло к старшим, которые знают больше. Он нуждался в умном собеседнике, и если находил такого, то доверял безгранично. В нем жило убеждение, что умный не может быть подлым. В азарте диалогов он терял всякую осторожность. К счастью, высокого звания «умный» удостоились лишь двое. Первым был старейший сотрудник секретно-шифровального отдела Кирилл Петрович Поспелов по прозвищу Кирпетпо. Он преподавал в ШОН. Митя начинал свою службу в НКВД под его руководством и был очень к нему привязан. Вторым стал доктор Штерн по прозвищу Карлуша.
Карл Рихардович знал, что после окончания ШОН Родионова отправили в Берлин, в советское торгпредство. Они не виделись больше трех месяцев. Митя повзрослел, круглые детские щеки втянулись. Долговязый нескладный мальчик, у которого вечно отпарывался подворотничок гимнастерки, болтался ремень, пальцы были в заусенцах и чернильных пятнах, превратился в осанистого холеного щеголя.
– Мне надо произношение поставить. За две недели успеем?
– Нет, конечно, – доктор перешел на немецкий, – в прошлый раз была спешка, теперь опять спешка.
– Обязаны успеть, справимся, – ответил по-немецки Митя, – каждый день будем заниматься, вот прямо сейчас и начнем.
– Митя, у тебя по-прежнему «р» французское, нужно жестче, и гласные гуляют. «А» тянешь по-московски.
– Да, я знаю, я отрабатываю, как вы учили. Давайте на лыжах покатаемся!
– С ума сошел? Какие лыжи? Домой пора, скоро стемнеет, и вообще Новый год. – Доктор вздохнул, заметив, что капитан скрылся за воротами.
– Часа полтора еще будет светло, мы совсем немного, вдоль опушки.
– Кладовщик ушел, дежурный нам ключи ни за что не даст.
– Ну пожалуйста! Я соскучился по лесу нашему, по снегу, по лыжам, до невозможности соскучился.
Митя говорил быстро, взахлеб, и тащил доктора назад, к школе. Щеки и уши пылали, зеленые глаза сверкали из-под заиндевевших ресниц. Он улыбался во весь рот, но сквозь преувеличенную веселость проглядывало жуткое нервное напряжение.
Кладовщик оказался на месте и лишь слегка поворчал, открывая маленькую комнату возле физкультурного зала, где хранилось спортивное снаряжение.
– Ах да, чуть не забыл! – воскликнул Митя, когда они уже переоделись и шнуровали лыжные ботинки.
Он вскочил, бросился к вешалке, по дороге наступил на шнурок и едва не грохнулся. Из внутреннего кармана своего новенького кожаного пальто он извлек небольшой сверток.
– Конечно, глупо, но ничего лучше я не нашел. Все сувениры со свастикой, знаете, там даже на коробках с лезвиями и на зубном порошке свастика, – говорил он, пока доктор разворачивал бумагу.
Это был маленький берлинский плюшевый медведь, темно-коричневый, толстолапый, с умной сердитой мордой.
– Ну, не кружку же пивную вам дарить, не открытки с видами, – продолжал бормотать Митя, – а он вроде симпатичный. Медведь – символ Берлина. У него ошейник был со свастикой, я снял нафиг.
– Что ты оправдываешься? Мог вообще ничего не привозить. – Доктор понюхал игрушку. – Спасибо, вот подарок так подарок, детством моим пахнет…
На лыжах Карл Рихардович катался неплохо. Он часто проводил занятия на природе. С апреля по октябрь устраивал для немецкой группы нечто вроде берлинских пикников в лесу, на берегу маленького чистого пруда. Зимой отправлялся со своими курсантами на лыжные прогулки.
Как только выехали к опушке, Митя остановился, снял варежки, набрал в руки снег и протер лицо.
– Ну вот, теперь можно жить дальше.
– Устал?
– Не то слово. Противно. Лебезим перед ними, откупаемся поставками, а в итоге они на нас нападут.
– Почему ты так думаешь?
– Не думаю. Чувствую. Ненавидят они нас. С улыбочкой, с любезным подходцем, дружба-фройдшафт, но все равно мы для них недочеловеки.
– Для Гитлера все недочеловеки.
– Не-ет, – задумчиво протянул Митя, – британцев он уважает. Строго по теории. Арийцы.
– Но пока он с ними воюет, при всем к ним уважении, ему сотрудничать с нами выгодно, – возразил Карл Рихардович и тут же подумал, как странно из его уст звучит это «они» и «мы».
– Выгодно, – кивнул Митя, – даже слишком. Наглеют с каждым днем, они-то со своими поставками запаздывают, а мы свои увеличиваем, все точненько в срок. Золота семь тонн, это же охренеть, собственными руками, сто ящиков золотых слитков доставил, битте, господа фашисты, кушайте на здоровье. Последним гадом себя чувствую. Действовал согласно приказу, а кажется, будто из родного дома золото это украл и врагу отдал.
Карл Рихардович резко остановился, воткнул палки в снег.
– Все, Митя, ты ничего не говорил, я ничего не слышал. Давай сменим тему.
Ответом был внезапный судорожный детский всхлип. Лейтенант Родионов шмыгал покрасневшим носом. В глазах стояли дрожащие лужицы слез.
Доктор протянул ему платок. Митя шумно высморкался, произнес по-немецки:
– Спасибо. Это от мороза… – он сморщился и заговорил по-русски: – Не могу я больше. Там было тошно, вернулся, а тут… Фуражка в отделе на вешалке висит вторую неделю, никто тронуть не решается.
– Какая фуражка?
– Кирпетпо. – Митя ударил палкой по еловой ветке так сильно, что сбитый снег взвился маленькой вьюгой. – Вызвали к руководству, и все, исчез. Ладно, ежовскую сволоту вычищают, отлично, туда и дорога. Но Кирпетпо при чем? Честнейший человек, специалист бесценный, шифры японские, английские, немецкие как орешки щелкал.
– Позволь, я видел его совсем недавно, – доктор наморщил лоб под шапочкой.
– Когда?
Точно Карл Рихардович вспомнить не мог, но, чтобы успокоить Митю, соврал:
– Дней пять назад, тут, в школе, и в расписании значится его предмет. Так что не выдумывай. Наверное, перевели куда-то, а фуражку он просто забыл на вешалке по рассеянности.
Митя помотал головой.
– Я заходил к нему домой… Не понимаю… Ладно, был заговор в самом главном органе, фашисты-троцкисты. А теперь новый заговор? Или все тот же, только под видом официального договора? Он опять не знает? Молотов подписал, его не спросил?
– Прекрати! – жестко одернул доктор.
Но Митя не услышал, продолжал возбужденно, перескакивая с немецкого на русский:
– Что же получается? Фашистам золото вагонами, зерно, уголь, стратегическое сырье, а своих, лучших, в расход?
– Разберутся и отпустят, – кашлянув, быстро произнес доктор по-немецки.
– В тридцать седьмом так же говорили.
– В тридцать седьмом молчали и тряслись.
– Домолчались. Вступили в мировую войну на стороне Гитлера.
– Что ты несешь? СССР ни с кем не воюет!
В голове вспыхнуло: «Финляндия!» – он поспешно добавил:
– Никаких боевых действий на стороне Гитлера. – Но сразу подумал о Польше и закончил раздраженно: – Все, хватит об этом!
– Не могу! – Митя провел рукой возле горла. – Оно душит меня, надо выговориться, иначе задохнусь, свихнусь. Я не машина, живой человек, с мозгами, с совестью. Подъезжал к Москве, минуты считал. Там все чужое, не знаешь, кто опасней, немцы или свои в торгпредстве. Слово не с кем молвить. А тут вместо Кирпетпо – фуражка… Только вы остались, больше никого. Мама пуганая-перепуганая, сердце у нее, чуть занервничает, сразу приступ. Я ей даже про Кирпетпо сказать не решился.
– Ну и правильно, – кивнул доктор, – вот увидишь, выпустят.
– Вряд ли. Про Хирурга знаете?
– Что именно? – спросил доктор и вспомнил мрачное лицо красавца капитана.
– То самое. – Митя зло оскалился. – Уволили из органов, из партии собираются исключать. В школе пока оставили.
«Хорош бы я был, подкатив к товарищу капитану с урановым разговором», – подумал доктор, загнул край варежки, взглянул на часы.
– Митя, пора. Надо еще переодеться. Теперь помолчи, послушай. С такими мыслями и чувствами ты работать не сможешь. Да, ты человек, не машина, и у тебя есть мозги, чтобы думать. Союз с Гитлером – вынужденная мера, единственный способ выиграть время. Из курицы, несущей золотые яйца, бульон варить невыгодно. Может, золото, которое ты туда привез, отсрочит нападение и спасет тысячи жизней?
– Нет, – Митя упрямо помотал головой, – не спасет, погубит, потому что будет потрачено на танки и самолеты, которые вдарят по нам.
– Вдарят, – кивнул доктор, – и довольно скоро. Поэтому хватит ныть, соберись. Исстрадался: золото вагонами, уголь, стратегическое сырье… Вон англичане и французы Гитлеру уже пол-Европы подарили, и ничего, совесть не мучает. Политики всего лишь люди. Глупые, лживые, жестокие. Разные. Но уж точно не лучшие из людей. Среди них умных мало, честных еще меньше, добрых вообще нет. Попробуй сменить угол зрения, взгляни на это здраво, без детских иллюзий, без презумпции идеальности. Человек у власти и страна, которой он руководит, – не одно и то же. Просто делай, что можешь, для своей страны, а не для… в общем, ты меня понял.
Стемнело. Они подъехали к воротам, из будки вылез охранник. В ярком фонарном свете доктор поймал изумленный взгляд Мити, брови под шапочкой напряженно сдвинулись.
– Презумпция идеальности, – повторил он, – а ведь правда… Почему мне это никогда в голову не приходило?
Глава пятая
Весь сентябрь 1939 года Ося мотался по Европе и в своих репортажах убедительно доказывал, что никакой войны нет. Его шеф Чиано, министр иностранных дел Италии и зять Муссолини, четко сформулировал задачу и выдал стержневой тезис: германская армия улаживает локальный конфликт.
Слово «война» не употреблялось. Немецкая сторона заменила его выражением «борьба за мир в Европе». Советская – «защитой братских народов», без уточнения от кого. Итальянская пресса факт нападения Гитлера на Польшу называла «выполнением миротворческой миссии».
Муссолини был обязан выступить на стороне Гитлера. Дуче смертельно боялся, что Англия и Франция ударят по нему, как по союзнику Германии, призывал к перемирию, предлагал собрать конференцию и всячески подчеркивал свой нейтралитет. Настроение его менялось каждую минуту. То он кричал, что надо порвать с Гитлером, то надувал щеки и заявлял, что ему судьбой предназначено идти с фюрером до конца.
В последние дни августа Чиано подсказал ему хитрый ход – передать немцам список того, что нужно итальянской армии для участия в боевых действиях. Тысячи тонн угля, нефти, стали, сотни самолетов и танков. Требования были очевидно невыполнимы и означали отказ от союзнических обязательств. Фюрер великодушно простил своего робкого друга и заверил в официальной ноте, что Германия справится собственными силами. Телеграмму фюрера дуче лично зачитал по радио, чтобы успокоить итальянцев, которые совершенно не хотели воевать и уже начали тихо ненавидеть немцев.
Конечно, Германия справилась. Фюрер легко обошелся без римских легионов, вооруженных ружьями образца 1891 года, способных сражаться лишь с босоногими эфиопами и албанцами. От Муссолини требовалась только моральная поддержка. Но и это оказалось для дуче слишком тяжким испытанием. Повторять нацистскую пропаганду, будто поляки напали первыми, он не мог, не хотел раздражать англичан и французов. Они и так были раздражены, настолько сильно, что 3 сентября объявили Германии войну.
В Лондоне копали траншеи. Из США в Британию поступали партии детских противогазов в виде Микки-Мауса. Во Франции шла мобилизация, новобранцы бегали по лужайкам и кололи штыками соломенные чучела. Британские парламентарии обращались к военным: «Почему мы не бомбим Германию?» Министр авиации отвечал: «Потому что германские стратегические объекты – частная собственность, мы обязаны уважать частную собственность».
Джованни Касолли в своих репортажах не врал. Войны действительно не было. Она существовала лишь на бумаге, в официальных нотах правительств Англии и Франции. То, что происходило в реальности, то, что он видел своими глазами в Польше, называлось как-то иначе. Он не мог подобрать точного определения. В голове крутились слова: подлость, трусость, тупость, ужас, безумие. Подлость англичан. Трусость французов. Тупость и тех и других. Ужас поляков и всеобщее безумие.
1 сентября, в четыре утра, без предупреждения, без объявления войны, первая бомба люфтваффе упала на городскую больницу польского городка Велюнь в двадцати километрах от немецкой границы. Велюнь, старинный, тихий, с костелами, монастырями и мирно спящими жителями, не имел никакого стратегического значения. Его разбомбили, чтобы посеять ужас.
Поляки не успели мобилизовать свою армию. В небе ревели истребители и бомбардировщики люфтваффе. По земле со скоростью тридцать миль в день катилось чудовище, гигантский сплав смертоносного железа и людей, убежденных в своем биологическом праве убивать. Польские кавалерийские бригады с пиками наперевес неслись под гусеницы немецких танковых дивизий. Дымились развалины городов, торчали печные трубы сгоревших деревень, повсюду лежали трупы солдат, женщин, детей, лошадей. Погорельцы копошились у пепелищ, искали уцелевшие пожитки, беженцы шли на восток. Но еще оставалась надежда. Польская армия продолжала сражаться. Впервые после бескровных триумфов в Рейнской зоне, в Австрии и Чехословакии, вермахт встретил сопротивление и нес потери. Ни один польский город не сдавался без боя.
Окруженная, зажатая в клещи Варшава держалась. Информационные агентства рейха твердили, что Варшава пала, а варшавское радио продолжало играть государственный гимн Польши. Надеяться было не на что, но надежда еще жила. Она угасла в шесть утра 17 сентября, когда с востока в Польшу вошла Красная армия. Через двенадцать часов несколько уцелевших членов польского правительства покинули страну через румынскую границу.
22 сентября Ося стоял в небольшой группе журналистов на центральной улице польского города Брест-Литовска и снимал на свою «Аймо» совместный парад девятнадцатого мотострелкового корпуса вермахта и двадцать девятой отдельной танковой бригады Красной армии.
Сводный военный оркестр играл нацистские и советские марши. В объектив попало рукопожатие генерала Гудериана и комбрига Кривошеина. Они принимали парад, стоя на импровизированном постаменте, сколоченном из досок, вроде низкого стола с толстыми ножками. Они улыбались друг другу и говорили по-французски.
– У этого русского гитлеровские усики, – ехидно заметила корреспондентка «Нью-Йорк таймс» Кейт Баррон.
– Этот русский – еврей, – интимным шепотом сообщил пожилой толстяк в зеленой шляпе.
– Откуда вы знаете? – удивился Ося.
– Я хороший физиономист, – ответил толстяк и кивнул на Кейт: – Молодая леди полукровка, среди американцев таких все больше. Рене Тибо, радио Брюсселя.
Ося представился и пожал протянутую пухлую кисть.
Оркестр играл громко, но Кейт расслышала слова бельгийца, смерила его надменным взглядом.
– При такой озабоченности еврейским вопросом почему вы стоите здесь, а не шагаете там? – она кивнула на немецкую колонну.
– Я бы не прочь, но, к сожалению, возраст и комплекция не позволяют.
– Скажите, вы только прикидываетесь мерзавцем или в самом деле сочувствуете нацистам? – язвительно спросила Кейт.
– Сочувствуют побежденным. – Тибо ухмыльнулся. – А победителям завидуют. Вот они, победители. Смотрите, какая выправка, какие гордые сильные лица.
– А по-моему, тупые самодовольные рожи, – возразила Кейт.
– Чем вас не устраивают немцы? Они всего лишь захватывают колонии, так же, как это делали испанцы, британцы, французы. Почему другим можно, а им нельзя? К полякам они относятся ничуть не хуже, чем ваши соотечественники к неграм. – Тибо весело подмигнул. – Расовая теория.
– Да, но поляки белые! – выпалила Кейт.
Тибо хлопнул в ладоши и тихо рассмеялся:
– Вот она, истинная демократия! Браво, детка!
– Я вам не детка, – огрызнулась Кейт.
Ося стоял между американкой и бельгийцем. В «Аймо» закончилась пленка, запасные катушки остались в гостинице, но все самое интересное было уже отснято. Он просто смотрел на марширующие колонны и слушал чужую болтовню.
Американка и бельгиец были знакомы. Кейт Баррон вообще знала всех на свете. Ося часто встречал ее в разных европейских городах на брифингах и пресс-конференциях. Бельгийца он впервые увидел утром в холле гостиницы. Пожилой толстяк резко выделялся в международной группе репортеров, молодых, поджарых, бодрых. По-английски он говорил с мягким французским акцентом.
– Победители, – Тибо покачал головой. – Завтра таким же красивым маршем они пройдут по Амстердаму, Копенгагену, Осло, по моему маленькому тихому Брюсселю, по Парижу…
– Париж немцы не возьмут. – Кейт фыркнула. – У Франции сильная армия, Британия, наконец, проснется.
– И мирным американцам не придется проливать кровь на чужом континенте, – пробормотал бельгиец.
Еще одна хорошая шпилька. Кейт Баррон бравировала своей левизной только в разговорах с коллегами. Ее статьи и репортажи строго соответствовали умеренно-изоляционистской линии правительства США.
– Завтрашние парады будут тоже совместными, как этот? – спросил Ося.
– Что за глупости? Никаких завтрашних парадов не будет, тем более совместных! Этот противоестественный союз – хитрый политический маневр, Сталину нужно время, чтобы укрепить свою армию.
– Которую он сам же и разгромил, – ласково промурлыкал Тибо и подмигнул Осе. – Джованни, эта очаровательная леди удивляется, почему я не марширую в нацистской колонне, а я недоумеваю, почему она до сих пор не эмигрировала из капиталистической Америки в сталинский рай.
Кейт его уже не слушала. Парад заканчивался. Увидев, как Гудериан и Кривошеин слезают со своего постамента, она кинулась к ним, громко крича по-французски:
– Господа, прошу вас, несколько слов для читателей «Нью-Йорк таймс»!
Через мгновение ее стриженая рыжая голова исчезла в толпе журналистов, обступившей генерала вермахта и комбрига Красной армии.
– Джованни, что же вы не бежите брать интервью? – спросил Тибо.
– Нет смысла. Все важные вопросы задаст мисс Баррон.
– И сама же на них ответит. – Тибо хмыкнул. – Предлагаю вернуться в гостиницу, пора перекусить.
Старинному Брест-Литовску повезло, его не разбомбили, он почти уцелел, улицы выглядели мирно и даже нарядно. Открылись магазины. Лица людей казались спокойными, многие улыбались – радовались передышке. Вряд ли им хотелось думать, долго ли она продлится, что будет завтра. Они устали бояться и ждать худшего.
Напротив мясной лавки застыли два красноармейца, смотрели, как загипнотизированные, сквозь стекло витрины на окорока и колбасы. Проходя мимо них, Ося услышал:
– От живут, буржуи, мать их, жрачки завались, и никаких очередей.
– Вы поняли, что он сказал? – спросил Тибо, блеснув сощуренным глазом на Осю.
– Хотел бы, но, к сожалению, не знаю русского.
Возле открытой витрины с фруктами стояли еще трое.
– Это у вас все только для буржуев, – объяснял продавщице тот, что постарше, – вот у нас в СССР апельсины-мандарины любому рабочему человеку доступны. У нас все фрукты на заводах делают, сколько хочешь.
Продавщица улыбалась и протягивала красноармейцам тарелку с аккуратно разложенными дольками апельсина.
На углу торговой улицы стоял советский танк. Танкисты по очереди вылезали из люка, прыгали на мостовую, ошалело озирались. Рядом остановились две девушки, одна вручила танкисту белую хризантему.
– Они не понимают, им кажется, что Красная армия пришла освободить их от немцев, – заметил Тибо.
– После предательства англичан и французов что же им остается, кроме этой последней иллюзии?
– Все-таки предательство не совсем подходящее слово, – мягко возразил Тибо, – никто не ожидал, что все закончится так быстро и что Сталин окончательно добьет их ударом в спину. Они бежали от немцев на восток, теперь им бежать некуда.
На газетном лотке лежали свежие номера «Правды» и «Фолькишер беобехтер». Тибо остановился, прочитал вслух по-немецки жирный текст на первой полосе «Фолькишер» под портретом Гитлера:
– «Правительства Германии и России совместными усилиями урегулируют проблемы, возникшие в результате распада Польского государства, и закладывают прочную основу для длительного мира в Восточной Европе».
Короткая прогулка по городу явно утомила толстяка, он говорил сквозь одышку, из-под мягких полей зеленой шляпы текли струйки пота. Тибо на ходу вытирал платком пухлое красное лицо и старался не отставать от своего молодого спутника. Ося привык ходить очень быстро, но спохватился, замедлил шаг и сказал:
– Сегодня утром варшавское радио опять играло гимн.
– Да, это похоже на чудо, но уже ничего не значит. Сегодня Польша перестала существовать.
– Капитуляция еще не подписана.
– Просто уже некому подписывать… Ужасная, ужасная судьба. Почти полтора века Польша принадлежала России, Австрии, Пруссии, и всего-то двадцать лет удалось ей пожить как независимому государству. Господи, благодарю Тебя, что я не поляк.
Ося искоса взглянул на Тибо. Точно такая же фраза вспыхнула у него в голове сегодня утром, когда он поймал в приемнике в гостиничном номере варшавское радио и услышал государственный гимн Польши. Звуки лились словно с того света. Больно было слушать, и он подумал: «Господи, благодарю Тебя, что я не поляк!»
– Ну, кто следующий? – спросил Тибо, когда сели за столик в гостиничном ресторане. – Россия или Англия?
– Россия – союзник Германии.
– Вы не считаете этот союз временным?
– Все союзы временные, но они разрываются после войны, а не в начале. С таким же успехом можно гадать, нападет ли Гитлер на Италию.
– Ну, это совсем другое дело, союз с Муссолини крепко спаян идеологией.
– Идеология нужна, чтобы начать войну, а для ее продолжения нужны металл, топливо, хлеб и надежный тыл. Все это дает Гитлеру Сталин. Зачем нападать на такого выгодного союзника, когда есть реальные противники?
– Но они не воюют, – заметил Тибо и помахал рукой, разгоняя дым Осиной сигареты.
– Потому что он напал не на них. Когда нападет на них, им придется сопротивляться.
– Поляки тоже сопротивлялись…
К столу подошел официант, Тибо уставился в меню, пробормотал, потирая переносицу:
– Что будем пить?
– Кофе, – сказал Ося, – от спиртного я сразу усну, не спал двое суток.
– Ну, как хотите. А я предпочитаю чай. Спиртного мне вообще нельзя, и кофе тоже. Гипертония, знаете ли, сердце слабое… Итак, Англия?
– Вероятно, – Ося пожал плечами, – впрочем, к Па-де-Кале можно подойти только через Францию.
– А как же Мажино?
– Она не достроена, и там есть кусочек…
– Кусочек называется Бельгия, – Тибо кисло усмехнулся, – французы не хотели нас обидеть, отгородились своей Мажино от Германии, а границу с нами оставили открытой. Вот вам и ответ на вопрос: «Кто следующий?» Благодарить Бога, что я не бельгиец, не приходится, ибо я бельгиец.
В зал влетела запыхавшаяся, разгоряченная Кейт, огляделась и направилась к их столику.
– Конечно, это временный союз! – выпалила она, не успев сесть. – Русские так смущаются, этот танковый командир… черт, не могу произнести фамилию… Кривчеин или Кривачин. Он отлично владеет французским, но в ответ на вопросы мямлил, словно подросток. Ему явно неловко в этой нацистской компании. А, вот и официант. Сейчас умру от голода.
– Он мямлил потому, что каждое лишнее слово, сказанное иностранцу, может стоить ему головы, – снисходительно объяснил Тибо, после того как она сделала заказ и официант удалился.
– Опять вы несете чушь! – Кейт шлепнула пальцами по скатерти. – Вам не нравится Сталин? Ну, скажите, чем его союз с Гитлером отличается от той гнусности, которую устроили в Мюнхене Чемберлен и Деладье в прошлом году?
– Детка, английские и французские солдаты не маршировали вместе с войсками Гитлера по Праге, – ласково объяснил Тибо. – Чемберлен и Деладье откупились чужой страной. Но они не делили эту страну с Гитлером. Они не стали союзниками Гитлера, наоборот, объявили ему войну. Попустительство преступнику и соучастие в преступлении – разные вещи.
– Объявили войну, обещали помочь Польше, но пальцем не шевельнули. Вместо бомб разбрасывают с самолетов дурацкие листовки, в которых объясняют немцам, что война – это плохо! И будьте любезны, не называйте меня деткой!