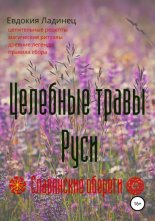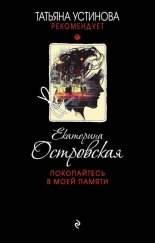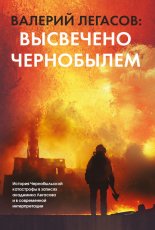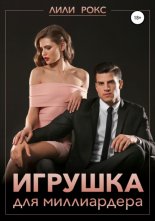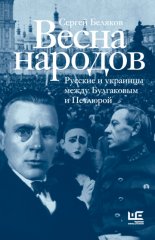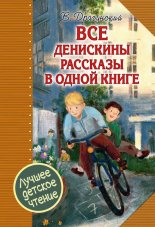Тайна трех государей Миропольский Дмитрий
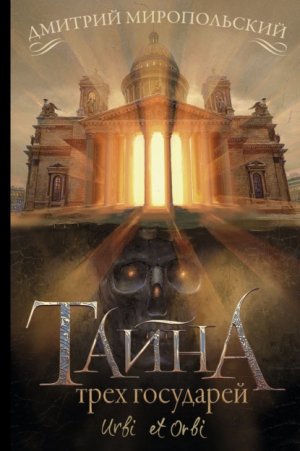
Чем менее история правдива, тем больше она доставляет удовольствия.
сэр Фрэнсис Бэкон
У меня не лежит интерес ни к чему, если только оно не содержит двух убийств на страницу.
Говард Филлипс Лавкрафт
© Миропольский Д.В., 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
Пошлый детектив
В день числа «пи» майор Одинцов не собирался никого убивать.
Говоря строго, майором он давным-давно не был, про необычную дату узнал случайно и тем более не имел такой привычки – на ровном месте лишать людей жизни. А вот поди ж ты: среди бела дня уложил сразу двоих прямо в центре Петербурга, и что теперь делать – большой вопр…
Промозглым чёрным утром четырнадцатого марта Одинцов, как всегда, приехал на работу около половины восьмого. Вышел из машины и с неодобрением отметил выглядывающие тут и там из-под снега ледяные бугры, похожие на кляксы застывшего конторского клея.
– Уборочка на троечку, – вслух сказал Одинцов; по старой холостяцкой привычке он иногда разговаривал сам с собой. – На троечку уборочка.
В старом парке рыжие фонари размывали предрассветную мглу. Чёрные деревья царапали небо паучьими лапами веток. Пронзительные порывы ветра вышибали слезу. Одинцов пнул подвернувшуюся ледышку, запахнул куртку и двинулся к стылой громаде Михайловского замка. На служебном входе коротко пожал руку охраннику, обронил обычное: «Как дела?» – и услышал такое же традиционное: «Без происшествий».
Одинцов работал заместителем начальника службы безопасности музея, расположенного в замке, и сейчас оказался за главного – начальник грипповал дома.
Впрочем, временное повышение не нарушило привычного распорядка. В кабинете Одинцов поменял уютный джемпер и джинсы на рубашку с галстуком и тёмно-серый костюм, а высокие ботинки со шнуровкой – на сияющие туфли. До восьми он успел ещё свериться с рабочим журналом, чтобы освежить в памяти предстоящие дела…
…и день начался. Инструктаж и развод охраны, доклад ночной смены, возня с документами, телефонные звонки, совещание… Всё как всегда, привычная рутина.
Первую сигарету Одинцов позволял себе только после обеда. Конечно, он мог дымить и в кабинете – кто бы сказал хоть слово? – но порядок есть порядок. Хочешь спрашивать с других – спроси для начала с себя. Так его учили. Поэтому курил Одинцов на общих основаниях, где положено.
Газета лежала в курилке на диване – видать, оставил кто-то из охранников. Одинцов мельком пролистал её, пока тлела сигарета. Шквал рекламы, старые анекдоты, безграмотные кроссворды, перевранные слухи, скучные гороскопы – одноразовое месиво для размягчённых мозгов…
…но одна статейка всё же привлекла внимание Одинцова благодаря иллюстрации – витрувианскому человеку Леонардо да Винчи: посреди текста на большом рисунке раскинул руки в стороны патлатый мускулистый мужчина, вписанный в круг и в квадрат одновременно. Одинцов пробежал глазами первый абзац.
14 марта – самый необычный праздник в мире: это Международный День числа «пи»! В западных странах пишут сначала номер месяца, а затем дня, поэтому дата выглядит как 3.14 – то есть как первые цифры удивительного числа.
Дальше автор сообщил Одинцову, что магическая константа была известна ещё древним волхвам, которые использовали её в расчётах Вавилонской башни. Волхвы ошиблись не так уж сильно, и всё же колоссальное сооружение рухнуло. «Для простоты расчётов число «пи-военное» принимается за три ровно!» – вспомнил Одинцов слова преподавателя из давнего курсантского прошлого. Зато мудрый царь Соломон, продолжала газета, умудрился исчислить «пи» намного более тщательно – и построил Иерусалимский Храм, равных которому не было в веках.
В статейке упоминались Эйнштейн, которому повезло родиться в День числа «пи», и Архимед, сумевший определить миллионные доли константы. Финал звучал патетично.
В наши дни проверены более пятисот миллиардов знаков числа «пи». Их комбинации не повторяются – следовательно, число представляет собой непериодическую дробь. Таким образом, «пи» – не просто хаотическая последовательность цифр, но сам Хаос, записанный цифрами! Этот Хаос можно изобразить графически, а кроме того, есть предположение, что он – разумен.
Одинцов аккуратно погасил окурок, отправил его в урну вслед за газетой и вернулся в кабинет. Его ждало куда более увлекательное чтиво: документация к новой системе видеонаблюдения, которую монтировали в замке.
По экрану компьютера плавала заставка – цифровые часы. В статейке говорилось: число «пи» – это 3.14159, поэтому праздник в его честь наступает третьего месяца четырнадцатого дня без одной минуты в два часа пополудни. Разумный Хаос, который записан цифрами…
Чушь, одно слово.
Часы на заставке показывали именно час и пятьдесят девять минут, когда раздался стук в дверь. «Без опоздания», – удовлетворённо отметил Одинцов, ценивший пунктуальность, и встал из-за стола. Встреча была назначена на два.
В кабинет вошли двое мужчин – один помоложе и повыше, атлетического вида, другой постарше и покоренастее, с глазами спаниеля. У обоих к волосам на макушке заколкой крепилась маленькая чёрная кипа.
– Shalom! Nice to meet you, gentlemen. I am… – начал, было, Одинцов, демонстрируя вполне приличный английский, но коренастый с вежливой улыбкой прервал его:
– Здравствуйте, мы говорим по-русски.
В Михайловском замке готовились к представительной международной конференции. Уровень участников предполагал вооружённую охрану. Израильские коллеги приехали к Одинцову, чтобы урегулировать формальности.
Говорил и действовал старший, напарник молча подавал ему бумаги. Обычная процедура. Только когда Одинцов собрался поставить подпись на документах, молодой попросил воспользоваться их ручкой со специальными чернилами.
– Вы же понимаете, – извиняющимся тоном сказал он.
Одинцов понимал.
– Враги не дремлют, и мы стараемся не отставать, – добавил старший израильтянин. – Они всё время что-нибудь придумывают, и мы тоже. Безопасность – это святое.
Молодой добыл из атташе-кейса кожаный пенал и передал старшему. Тот открыл крышку и положил пенал на стол. Одинцов вынул оттуда винтажную массивную ручку с золотым пером и с удовольствием повертел в пальцах.
– Солидная вещь, – оценил он, расписался несколько раз там, где ему указали, и вернул ручку в пенал.
Проводив гостей, Одинцов снова бросил взгляд на часы – время пришло! – и набрал номер мобильного. «Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети», – сообщила ему безразличная механическая барышня. Ещё несколько звонков дали тот же результат.
– Варакса, – укоризненно сказал Одинцов, глядя на трубку, – ты решил теперь вообще не работать?
Варакса был старинным другом Одинцова, увлечённым рыбаком и вдобавок – преуспевающим владельцем сети станций автосервиса с лаконичным названием, состоявшим всего из двух цифр – 47. Пару дней назад Варакса умотал за корюшкой на Ладогу. А в головной мастерской сети «47» чинили машину Одинцова, поймавшую колесом открытый люк на заснеженной улице.
То ли укор подействовал, то ли хитрый Варакса всё же получал уведомления о вызовах, но вскоре со станции Одинцову позвонили с радостной вестью: машина готова, можно забирать.
Ползти вечером через пробки совсем не хотелось, и Одинцов решил поехать в мастерскую прямо сейчас. Начальник он, в конце концов, или не начальник?! Основные дела сделаны, служба работает… Одинцов отдал кое-какие распоряжения, вернул костюм на вешалку, снова натянул джинсы, сунул ноги в высокие ботинки на толстой рубчатой подошве – и поспешил убыть.
С неопрятного белёсого неба сыпал обычный для Петербурга мартовский коктейль: то ли снег с дождём, то ли дождь со снегом. Одинцову пришлось вытащить из багажника щётку и почистить машину: на время ремонта он позаимствовал внедорожник «вольво» у сердобольного Вараксы. Тот утюжил сейчас обледенелые ладожские берега на могучем «лендровере», над которым хорошенько поколдовали в мастерской «47».
Одинцов заканчивал махать щёткой, когда увидел Мунина. Нескладный сутулый парень медленно брёл от замка в его сторону. Он прижимал к животу матерчатую сумку, висевшую через плечо на длинном ремне, внимательно глядел под ноги – и всё же оскальзывался.
– Привет, наука! – крикнул Одинцов.
Мунин озябшими пальцами приподнял край капюшона. Мокрый снег тут же залепил стёкла больших очков.
– Я здесь! – Одинцов помахал рукой, и Мунин его увидел. – Могу подбросить.
– Здравствуйте, – сказал Мунин, подходя к машине. – Мне бы до метро, если вас не затруднит.
– До метро само собой. А вообще куда надо?
Им оказалось по пути.
Молодой историк работал в научной части музея. Знакомство Мунина с Одинцовым было недавним и шапочным: они разок-другой пообедали за одним столиком в служебной столовой, перекинулись несколькими фразами и теперь здоровались при встрече. Но для замкнутого Мунина даже это выглядело достижением.
Одинцов ему нравился. Во-первых, потому, что не только задавал вопросы по делу, но и слушать умел. Во-вторых, потому, что не чувствовалось в его поведении вахтёрской снисходительности, обычной для охранников. В-третьих – чего греха таить? – тщедушный очкарик Мунин безнадёжно мечтал быть таким же уверенным в себе, статным и плечистым; научиться носить костюм и не отводить взгляд в разговоре… Колоритный образ Одинцова довершали седой клок в аккуратной причёске и наполовину седая левая бровь.
В машине Мунин с удовольствием устроился на подогретой коже переднего сиденья. Одинцов вырулил на Фонтанку, и они поехали вдоль замка по набережной.
– Как дела на интеллектуальном фронте? – спросил Одинцов. – Затяжные бои с оппонентами? Окопная война?
– Хватит, насиделись мы в окопах, – в тон откликнулся Мунин и ладонью похлопал по сумке, лежащей на коленях. – Наметился прорыв.
Учёный, надо же… Одинцов прикинул: парнишка недавно закончил университет, в армии наверняка не служил – то есть ему от силы лет двадцать пять. В пятьдесят с копеечкой у Одинцова вполне бы мог быть сын такого возраста. Только вряд ли близорукий – и уж точно спортсмен, а не рохля.
– Проры-ыв? – Одинцов приподнял полуседую бровь и кивнул на сумку. – Нарушение охраняемого периметра? Стащили какой-нибудь раритет?
– Что вы, что вы, – снова подыграл Мунин, – красть грешно! Тут всё своё, родное.
Он откинул клапан сумки и вынул толстую тяжёлую папку в красной обложке. Видно было, что ему не терпится похвастать.
– Это как у Пушкина: «Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний», – продекламировал историк и, глядя на папку с любовью, взвесил её в руках. – Я пока не могу рассказывать, не имею права. Хотя вы человек от науки далёкий, вам можно. Вы ведь никому?.. В общем, получается, что как минимум три русских царя занимались одним и тем же.
– По-моему, все цари занимались примерно одним и тем же, – предположил Одинцов, – разве нет?
Мунин досадливо поморщился.
– Я не то хотел сказать. Мне удалось обнаружить и документально подтвердить, что Иван Четвёртый, Пётр Первый и Павел действовали по единой схеме. Как будто решали одну и ту же задачу. Каждый в своё время и каждый в своих обстоятельствах, но всё-таки… Более того, не только задача была общая, но и способы решения. Ощущение такое, что они действовали по инструкции, где сказано: делай так, так и так. Понимаете?
– Нет, – легко признался Одинцов.
– Это неудивительно. Даже я сначала не понимал, – заявил Мунин.
Одинцов посмотрел на него с иронией из-за этого даже, но историк взгляда не заметил и продолжил:
– Вообще никто ничего не понимал и внимания не обращал! Вы правильно говорите, что все цари занимались примерно одним и тем же. И эти трое тоже, но только до определённого момента. А потом вдруг начинали совершать похожие поступки. Парадоксальные и необъяснимые.
– Может, они для вас парадоксальные, – предположил Одинцов, – а для современников – ничего особенного.
– То-то и оно, что современники сомневались, в своём ли уме государь! – Мунин раздухарился и сел боком, повернувшись к Одинцову. – Иван, и Пётр, и Павел даже самых близких пугали. Сначала вроде вели себя привычно, а потом – щёлк! – и словно включалась какая-то другая программа, непонятная и потому особенно пугающая. Вот из-за чего этих троих боялись и ненавидели, как никого другого.
– Погодите. Иван Четвёртый – это ведь Иван Грозный?
Мунин кивнул.
– Ну, тогда вопросов нет, почему боялись и ненавидели. Он же редкий кровосос. Родного сына убил? Убил. И людей казнил без разбора направо и налево…
– Не был Иван кровососом! – возмутился Мунин. – И сына не убивал, и казнил только тех, с кем иначе нельзя было. Вы повторяете сплетни, которым четыреста лет с хвостиком! Их ещё при жизни Ивана Васильевича сочинять начали. И в учебниках до сих пор врут, и никто правды не знает!
– А вы, получается, знаете? – Одинцов снова лукаво глянул на Мунина.
– Знаю.
Свернув за разговором у заснеженного Летнего сада, они переехали мост через Фонтанку, поблёскивающий золотом перил; миновали терракотовую с белыми прожилками глыбу Пантелеймоновской церкви – памятника первой морской победе Петра Первого, – и покатили к Литейному проспекту.
Мунин уже успокоился.
– Видите ли, – сказал он, – есть как бы две правды. Это нормально в любой науке, а в истории особенно. Есть правда для обывателей. Для вас, извините, и для них.
Историк махнул рукой в сторону прохожих за окном машины, и Одинцов уточнил:
– Для массы? Для народа?
– Для народа. А я имею в виду правду для специалистов, которые знают предмет более глубоко и разносторонне. То, что вам известно про Ивана Грозного – это примитивная схема, которая грубо слеплена, проста для запоминания и удобна в использовании. Но мы, историки…
– Вы только сейчас говорили, что кроме вас никто не знает правды. Теперь оказывается, что её знают все историки. Противоречие, однако!
– Нет никакого противоречия. Любой мой коллега, если он действительно профессионал и притом не ангажированный, с документами в руках за пять минут объяснит вам, почему Иван Грозный – не кровосос. В отличие от обывателей, которые получают сразу готовую схему, нам полагается собрать факты, потом проверить их на достоверность и только тогда уже складывать один к другому. Проблема в том, что учёный обычно стремится подтвердить или опровергнуть какую-то гипотезу – свою собственную или своих предшественников. Поэтому интерпретирует события с заданным результатом, и картина получается необъективной.
Одинцов с интересом взглянул на Мунина:
– Чем же вы, в таком случае, отличаетесь от остальных?
– Тем, что я поставил принципиально другую задачу, – с гордостью сообщил историк и поправил на носу съехавшие очки. – Я не пытался ничего доказать или опровергнуть. Мне было не важно, Иван Грозный – это исчадие ада или святой. Точно так же Пётр Первый мог быть агентом Европы или патриотом России, а Павел – безумным солдафоном или титаном духа, который опередил своё время. Я знал о них то же, что и другие. Просто обратил внимание, что действия Ивана Васильевича, Петра Алексеевича и Павла Петровича очень отличаются от действий остальных государей, зато очень схожи между собой.
Мунин погладил папку.
– Поступки каждого человека, – сказал он, – это его личное дело. Мало ли что кому взбредёт в голову? Но когда странные и притом одинаковые поступки совершают руководители страны, живущие в разные времена, да ещё совершают не вынужденно, а преднамеренно – тут уж извините. Это не может быть случайностью. Очевидно, есть какая-то закономерность, есть система!
– И эту систему вы… – начал Одинцов, а Мунин подхватил:
– …и эту систему я попытался описать. Просто сложить и сопоставить исторические факты, ничего не доказывая и не опровергая.
Машина пересекла Литейный проспект, обогнула по дуге акварельный кулич Спасо-Преображенского собора вдоль ограды, набранной из трофейных пушечных стволов, и скоро вывернула на Кирочную улицу.
– Спасибо. Где-нибудь здесь остановите, пожалуйста, – попросил Мунин.
Вдоль поребрика всё было занято, но чуть впереди мигала левым поворотником припаркованная машина. Одинцов притормозил за ней; включил аварийку, перекрыв полосу и давая водителю выехать, а потом ловко нырнул на освободившееся место.
– Это что значит? – спросил он, глянув на обложку папки, поверх которой красовалась большая жёлтая этикетка с надписью: Urbi et Orbi.
Мунин смутился и принялся запихивать папку в сумку.
– Урби эт рби? Да так…
– Ну, а всё же? – не отставал Одинцов.
– Это значит «Городу и миру» на латыни. Овидий… поэт был такой древнеримский… Овидий писал, что другим народам на земле даны границы, а у римлян протяжённость города и мира совпадают. В общем, обращение такое – ко всем и каждому. Урби эт орби.
Мунин справился с папкой; попрощался, вылез из машины, накинул капюшон и побрёл в сторону пешеходного перехода.
Одинцов посмотрел историку вслед. Из рассказа Мунина он толком не понял – что за открытие тот сделал и в чём состоит прорыв. Давно умершие цари, повторяющие нелогичные поступки друг друга… Кому какое теперь до них дело?
С другой стороны – хорошо, что парнишке это интересно. Глаза вон как горят! Непросто набить битком такую толстенную папку – видать, и вправду серьёзный труд. Зато теперь обращается ко всему прогрессивному человечеству, ко всей вселенной. Urbi et Orbi, на мелочи не разменивается. И правильно – в его-то возрасте… Эх, молодость!
Одинцов набрал на мобильном номер Вараксы и сунул руку в карман за сигаретами. Дозвониться опять не удалось, и курева при себе не оказалось: наверное, оставил пачку в пиджаке, когда наскоро переодевался перед уходом с работы.
– Непорядок, – пожурил себя Одинцов, заглушил двигатель и вылез из машины. Места знакомые, центр Петербурга; и как раз неподалёку, помнится, был хороший табачный магазин.
Одинцов перешёл через улицу. Впереди возле арки он увидел Мунина, который говорил по мобильному, и уже приготовился пошутить – мол, мы стали чаще встречаться, и это радует. Но тут рядом с историком появились два крепких молодца в серых куртках, взяли его под локотки и буквально внесли в подворотню.
– Интересно девки пляшут, – Одинцов нахмурился, – по четыре штуки в ряд…
Он свернул следом. В тесном дворике-колодце один из мужчин тянул сумку с плеча Мунина. Историк цеплялся за ремень и выкрикивал срывающимся голосом:
– Что вам надо? Что вам надо?
Одинцов неторопливо шёл к ним.
– Ребята, какие-то проблемы? – спросил он.
– Никаких проблем, – ответил второй крепыш. – Проходите, проходите, всё в порядке.
– По-моему, как раз не всё в порядке, – возразил Одинцов. – Сумочка-то, я смотрю, чужая. А чужое брать нехорошо. Зря вы это затеяли. Ей-богу, зря. Давайте, может быть, как-то по-хорошему…
– Шёл бы ты, мужик, – снова сказал второй, отпустил Мунина и шагнул навстречу.
Эти двое не были уличной шпаной. «Но и не полиция», – подумал Одинцов: удостоверений не предъявили, хотя действовали очень слаженно. То, как двигался разговорчивый крепыш, тоже выдавало профессионала…
…и всё же Одинцов сумел усыпить его бдительность – простецкой болтовнёй, расслабленной походкой и, конечно, руками в карманах. Руки в карманах обычно успокаивают лучше всего. Просто надо уметь их мгновенно вынуть.
Одинцов умел.
Удар открытой ладонью в уличном бою эффективнее, чем кулаком: зона поражения больше, не промахнёшься. Молниеносная оплеуха, особенно тяжкая на противоходе, стала для крепыша полной неожиданностью. Имея дело с обычными хулиганами, Одинцов удовлетворился бы шоком от оплеухи. Но здесь рисковать не стал и несколькими мощными ударами вырубил нападавшего.
Нокаут оказался настолько быстрым и сокрушительным, что мужчина, который отнимал сумку, тоже совершил ошибку. Остолбеневший Мунин мог послужить прикрытием, но крепыш оттолкнул его, вроде бы изготовился к бою – и вдруг сунул руку за пазуху серой куртки.
Одинцов же не останавливался и оказался прямо перед мужчиной, когда тот выхватил пистолет: ни времени, ни дистанции не хватило для того, чтобы направить оружие на Одинцова и спустить курок…
….а в следующее мгновение крепыш вскрикнул, заглушая хруст своего запястья. Выкрутив пистолет в руке противника, Одинцов развернул короткий ствол ему под рёбра и стиснул кулак, чужими пальцами нажимая на спуск – раз, другой, третий…
Выстрелов не было слышно. Пистолет только глухо лязгал, выбрасывая гильзы. Крепыш выпучил глаза, длинно засипел и стал оседать на снег.
Одинцов выпутал оружие из скрюченных пальцев умирающего и обернулся. Первый боец со свёрнутой челюстью, лёжа на спине, шевельнул рукой и попытался дотянуться до поясной кобуры, которая выглянула из-под задравшейся куртки.
– Эк же ты быстро очухался, – с удивлением и некоторой досадой произнёс Одинцов.
Выхода не было. Он подошёл к лежащему и выстрелил ему в лоб. Пистолет снова лязгнул.
– Я оглох, – услышал Одинцов за спиной голос Мунина. – Я оглох. Я сошёл с ума.
Историк стоял на прежнем месте, заткнув пальцами уши и мотая головой из стороны в сторону. Злополучная сумка лежала у его ног.
– Ничего, ничего, – Одинцов приговаривал себе под нос. – Не оглох и не сошёл. Погоди чуток, я быстро…
Под блуждающим взглядом Мунина он натянул перчатки и подчистую выгреб всё из карманов убитых: бумажники, запасные обоймы к пистолетам, сигареты, жвачку… Мобильные телефоны отшвырнул в сугроб, стреляные гильзы и оружие рассовал по карманам своей куртки; остальное, не разглядывая, сложил в сумку Мунина. Сноровка, с которой действовал Одинцов, выдавала немалый опыт.
Быстро закончив дело, он забросил сумку на плечо, хлопнул Мунина по спине, приводя в чувство; поймал под длинным носом историка соскользнувшие очки, нацепил их обратно, крепко взял парня за рукав повыше локтя и скомандовал:
– А теперь – бегом!
Мародёр и розенкрейцер
В народе говорят: бег не красен, да здоров.
Их спасением стали петербургские проходные дворы. Одинцов подгонял Мунина и неведомым чутьём определял дорогу. О том, чтобы выйти обратно через арку, речи быть не могло. Бежали в противоположную сторону. Из первого дворика, где на снегу остывали тела нападавших, ход вёл в следующий. Здесь через скособоченную низенькую дверь они протиснулись на чёрную лестницу соседнего дома, поднялись на пол-этажа, из окна лестничной площадки шагнули на заснеженную кирпичную ограду помойки – и спустились в ещё один двор, перетекавший в точно такой же, через который выскочили на соседний тихий бульвар.
Там Одинцов ненадолго притормозил, пожалев Мунина.
– Отдышись пока. И мобильник давай.
– Звонить… в полицию… будете? – сквозь кашель спросил историк.
Одинцов угукнул, взял у Мунина телефон, вытащил аккумулятор и сунул к себе в карман. Само собой, возвращаться к припаркованной машине тоже было нельзя – наоборот, Одинцов уводил Мунина всё дальше. На проспекте Чернышевского он остановил старенькие «жигули», втолкнул Мунина на заднее сиденье, сам сел рядом с водителем азиатского вида и велел ехать на Московский вокзал.
– Ма-асковский ва-акзал, – нараспев повторил водитель и сделал чуть потише музыку, гремевшую в салоне. – Сколько денег, уважаемый?
– Гони, разберёмся, – сказал Одинцов.
– Поехали, иначе он вас убьёт, – подал голос Мунин и нервно хихикнул.
– Шутка, – Одинцов подмигнул таксисту. – Поехали, поехали! Время дорого.
Время действительно было дорого. Мунин уже начинал отходить от шока. Раньше, чем начнётся истерика, его нужно доставить в какое-нибудь спокойное уединённое место, где Одинцов сможет задать нужные вопросы и обмозговать ситуацию.
До Московского вокзала – от силы десять минут. Пусть шофёр думает, что они опаздывают на поезд, решил Одинцов. Даже если случится чудо и преследователям удастся вычислить этого любителя громкой музыки, – о пассажирах он расскажет немного: очень торопились, вышли на Лиговке, а дальше – ищи-свищи
…потому что ни на каком поезде, конечно, Одинцов и Мунин не поехали. В привокзальной толчее Лиговского проспекта Одинцов поймал ещё одну замызганную машину и назвал сидевшему за рулём кавказцу адрес в двух кварталах от своего дома. Более подходящего места придумать так и не удалось.
Всё это заняло минут сорок-сорок пять. Вроде бы только что Одинцов хлопнул дверцей машины, выйдя за сигаретами на Кирочной, – и вот он уже распахнул дверь квартиры, кивком приглашая Мунина: заходи!
С этим жильём давным-давно помог оборотистый Варакса: тряхнул связями, провернул многоходовый обмен, ссудил деньгами, перепланировку и ремонт заставил сделать… В результате Одинцов оказался владельцем просторной трёхкомнатной хоромины в доме послевоенной постройки, где бытовал с тех пор по-армейски аккуратно и по-холостяцки незамысловато.
– Сумку верните, – потребовал Мунин, озираясь в прихожей.
До начала истерики Одинцов успел запереть замок, сбросить ботинки и повесить куртку на вешалку. Он переложил из сумки в полиэтиленовый пакет всё, что забрал у нападавших. Просмотреть документы можно позже, важнее сперва разобраться с Муниным.
– Вы мародёр и подлец, – отчеканил историк, забирая сумку. – Только мародёр и подлец может грабить мёртвых. Они же были ещё тёплые. Вы понимаете? Тёплые! Они, может быть, ещё живые были! А вы их ворочали, как мешки, и по карманам у них шарили!
– Конечно, они бы наши трупы обыскивали намного деликатнее, – согласился Одинцов. – Раздевайся, проходи, разговор есть.
Голос Мунина сорвался.
– Я с убийцами не разговариваю! Выпустите меня сейчас же! Выпустите, иначе я не знаю, что сделаю… Убийца! Мясник!
Дальше Мунин понёс какую-то сбивчивую околесицу. Одинцов не стал ждать, пока он выкричится и хоть немного придёт в себя, а кончиками пальцев коротко ткнул историка в диафрагму. Тот задохнулся и обмяк.
Одинцов вытряхнул Мунина из куртки и в ванной сунул головой под струю холодной воды. Потом наскоро вытер парню волосы махровым полотенцем, под руку довёл до гостиной и толкнул на диван. Мунин близоруко щурился и периодически издавал звук раковины, всасывающей остатки воды. Дыхание возвращалось.
На кухне, которую от гостиной отделяла только барная стойка, Одинцов откупорил бутылку виски. Вернулся к Мунину и сунул ему в руку стакан:
– Пей!
– Я… не… пью, – просипел Мунин.
Одинцов сходил к холодильнику за пакетом яблочного сока и долил стакан доверху.
– Пей! Это не просьба, это приказ.
Мунин опасливо сделал первый глоток, а потом залпом выпил смесь до дна. Выпучив глаза, задышал часто, как маленькая собачка, и уселся на диване поудобнее.
Одинцов снова налил ему виски с соком. Мунин тут же прильнул к стакану. Свой виски Одинцов разбавлять не стал и уселся в кресле напротив дивана.
– Будем здоровы! – сказал он, отхлебнул немного и закурил. – А теперь всё же давай поговорим.
Уже захмелевший Мунин нацепил очки и посмотрел на Одинцова:
– Что это было?
– Не-ет, парень, – покачал головой Одинцов, – это как раз мой вопрос: что это было? Что это было, твою мать?
– Я не знаю, – всхлипнул Мунин.
– А кто знает? Кто эти люди? Чего они хотели?
По щекам историка потекли слёзы.
– Я не знаю, не знаю! Я просто стоял, а они взяли меня и потащили. Они не говорили ничего. Один держал, другой сумку отнимал.
Одинцов принёс из прихожей сумку Мунина и вывалил на журнальный столик её содержимое – увесистую папку с этикеткой Urbi et Orbi в окружении шариковых ручек, блокнота, кабеля для зарядки телефона, прочей мелочи и бумажного мусора.
– Им не нужен был мобильник, часы или деньги, они хотели забрать сумку, – рассудил Одинцов. – Сумка тоже дрянь. Значит, им нужно было это.
Он взял папку в руки и принялся листать прозрачные пластиковые кармашки, набитые распечатанными текстами, отсканированными страницами старинных рукописей и цветными картинками.
– Вопрос – зачем им это нужно?
– Я не знаю, – повторил Мунин, снова сняв очки и кулаком утирая глаза.
– Хорошо, – сказал Одинцов и вытащил отнятый пистолет, который, придя домой, сунул сзади за ремень. – А это что такое, знаешь?
Историк пожал плечами.
– Пистолет.
– Не простой пистолет, а Пэ-эС-эС. Пистолет самозарядный специальный. Там, во дворе, ты выстрелы слышал?
Мунин вспомнил: когда Одинцов стрелял, грохота не было; он даже подумал, что оглох.
– Нет.
– А глушитель видишь?
О глушителях Мунин имел смутное представление. В кино бандиты перед тем, как застрелить кого-нибудь исподтишка, рукой в перчатке вкручивают в ствол толстый чёрный цилиндр…
– Не вижу, – неуверенно сказал он.
– Правильно. Не видишь, потому что глушителя здесь нет. Глушителем работает сама гильза. Особая конструкция. Наши делают эти пистолеты уже лет тридцать, но ни у кого в мире ничего подобного не появилось до сих пор. Даже в Израиле повторить не смогли. Оружие редкое и мало кому известное, потому что используют его только спецподразделения. Вот и объясни мне: откуда взялись эти бойцы с Пэ-эС-эСами и почему хотели отнять папку? Чего в ней такого интересного?
– Ничего такого, – Мунин помотал головой. – То есть как ничего… Там всё интересное! Это материалы моего исследования. Я же вам говорил. Сравнительный анализ действий Ивана Грозного, Петра Первого и Павла. Их нелогичные поступки заставляют предположить, что существовала некая предопределённость…
– Документы какие-нибудь секретные здесь есть? – перебил Одинцов.
– Нет. Всё из открытых источников. Кое-что было трудно разыскать – иллюстрации, рукописи редкие… Но для специалистов – нет, ничего секретного. Просто выводы, которые я сделал, сильно выходят за рамки обычных представлений.
– Ты это добро всегда с собой таскаешь?
– Нет, – повторил Мунин. – Часть у меня дома была, часть на работе, часть на флэшке… Я только вчера остатки распечатал и утром сегодня окончательно всё собрал.
– Кто знал, что готовая папка будет при тебе?
– Кто… Нет, она не могла!
– Кто – она? – быстро спросил Одинцов.
Мунин упёрся в него мутнеющим от алкоголя взглядом и покачал головой.
– Не скажу. Она тут ни при чём. И вообще, речь идёт о чести дамы… Не скажу, нет. А почему вы всё время говорите мне «ты»?
– Та-ак, – протянул Одинцов, – товарищ не понимает, товарищу надо объяснить кое-что.
Он поднялся и начал прохаживаться перед Муниным, размышляя вслух:
– На тебя наехали крутые ребята. Исторические документы – явно не их профиль. Значит, ребят послал кто-то, кому нужна была папка. Если бы кроме папки был нужен ты, эти бойцы не во двор бы тебя потащили, а в машину. Ты говоришь, нащупал что-то, но окончательно сложил документы только сегодня. Значит, детали никому не известны. Если в бумагах обнаруживаются неясности, тебя всегда можно прижать и допросить. А пока задача – только отобрать сумку, и всё. Ну, придёшь ты в полицию на хулиганов жаловаться. Максимум, заявление примут – и забудут. Подумаешь, распечатки какие-то пропали! Кому охота ерундой заниматься?
Мунин следил за вышагивающим Одинцовым, силясь поспевать за рассуждениями, и прихлёбывал из стакана.
– Но тут появился я, – продолжал Одинцов. – Полез тебя защищать, на свою голову. Если бы тот придурок оружие не достал – мы бы с тобой просто ушли. А так – или он меня, или я его, без вариантов. Уложив одного, оставлять в живых второго тоже нельзя. Кстати, если бы меня всё-таки подстрелили – ты бы стал свидетелем. А хороший свидетель – мёртвый свидетель. Так что можешь сказать мне спасибо.
Мунин не сказал.
– Итак, что мы имеем? – Одинцов остановился напротив Мунина и почесал наполовину седую бровь. – Первое: в твоей папке есть что-то очень важное, чего мы не знаем. Второе: про это очень важное знает кто-то очень важный. Такой важный, что может послать за папкой вооружённых бойцов. Третье: вместо заявления о мелком хулиганстве у полиции появились два трупа с огнестрельными ранениями из спецоружия. Четвёртое: пару часов назад я был законопослушным гражданином, а теперь, как ты хорошо заметил, я убийца и мародёр. Пятое: из всех, кто нас будет искать, меня больше других беспокоит тот, кто послал бойцов. Шестое: о том, где и когда ты появишься с папкой, знала какая-то женщина. И, наконец, седьмое: как ты думаешь, насколько ещё хватит моего терпения? Не скажет он, видите ли, не имеет права… Давай, выкладывай!
– А если я откажусь, что тогда? – нахально ухмыльнулся Мунин и залпом допил остатки виски. – Что вы мне сделаете?
– Для начала прострелю ногу, – Одинцов показал пистолет. – Пуля калибра семь шестьдесят две в упор – это очень больно. Расскажешь даже то, чего не знал.
– Вы не посмеете! – историк заёрзал на диване. – Я буду кричать!