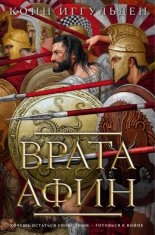Община Святого Георгия Соломатина Татьяна

– Спасибо министрам и лично государю!
Удивительно, но эти простые люди умудрялись шутить, и в словах их было куда меньше желчи и надрыва, нежели в речах серьёзных государственных мужей, которых не обдавало внутренностями товарищей, смешанных с чужеземной землицей. Велик простой человек, несгибаем, спасаем шутовством, когда спасаться больше, признаться, нечем.
В палату тихо вошёл Белозерский. Сейчас в нём не было шиковатой лихости, явленной на утреннем профессорском обходе. Лица пациентов, насторожившиеся, когда дверь открылась, просияли. Александра Николаевича любили. Он был, что называется, добрый доктор. Нет, в клинике не было злых докторов, но Белозерского любили порой совершенно незаслуженно. Он был из тех людей, при появлении которых будто ярче светит солнышко. И серый петербургский полдень становится уютней. Редко когда природная доброта озарена таким ласковым обаянием.
Сашка Белозерский будто был рождён нести свет. Хотя слово Lucifer у этих простых мужиков вызвало бы отрицательную коннотацию, ибо с позднего Средневековья в христианстве отождествлялось с сатаной, дьяволом, падшим ангелом, восставшим против бога. И в гимназиях они не учились, чтобы знать, что lux – это свет, а fero – несу. Впрочем, у славян Денница – утренняя заря… Но никому сейчас в этой палате не было никакого дела до этимологии, схоластики и пустопорожних толкований. Александр Николаевич Белозерский, единственный наследник колоссального состояния, был для простых покалеченных мужиков свой – и этого было достаточно.
– Здравствуйте ещё раз! – мягко произнёс он.
Раздался ответный нестройный хор, состоящий из пожеланий здравия, шутливого «И вам не хворать!».
Он направился к постели прооперированного по поводу нагноения шрапнели. Тот было приподнялся на локте.
– Лежи, лежи! – заботливо упредил Белозерский.
Откинув одеяло, Александр Николаевич внимательно осмотрел состояние раны. Сейчас он был вдумчив и сосредоточен и по-особому внимателен. Становилось ясным то, что не понималось и не принималось в гостиных: отчего это «император кондитеров» позволил единственному наследнику учиться в военно-медицинской академии, если по факту рождения ему предстояло обучаться совсем другому делу. Если и существуют врачи от бога, Саша Белозерский, очевидно, принадлежал к их касте. Любому ремеслу обучить человека возможно, ежели человек не глуп, прилежен и с определённого возраста не ест козявки. Но совмещение призвания с ремеслом – высшая благодать. Ею Александр Николаевич и был пожалован.
Размотав бинты, осмотрев рану и убедившись, что заживление идёт положенным путём, ординатор Белозерский улыбнулся и, достав из кармана шрапнель, протянул пациенту на раскрытой ладони.
– Сувенир!
Тот взял с опаской, прежде перекрестившись. Осмотрев кусок металла с искренним детским любопытством, он произнёс с серьёзным мужицким уважением:
– Ишь! Япона мама! Год, значит, во мне тихонько сидела. А тут, смотри, добить решила! Врёшь, не возьмёшь!
– Вовремя обезвредили. Так что поступай с врагом, как знаешь. Хочешь – утопи, а хочешь – в красный угол поставь. Рана твоя дренируется…
– Вы по-русски, Александр Николаевич!
– Гной наружу вышел. Сухо. Перевязывать больше не будем. Без повязки, на воздухе, быстрей заживёт.
– Уж и не болит совсем! Два дня тому думал – всё! Взорвётся моя нога, так распёрло и стреляло. Я это… – мужик замялся, застеснялся, воздуху набрал, неловко потянувшись к прикроватной тумбочке, положил на неё шрапнель, да так и застыл. – Жена приехала, господин доктор! Дурында! Покос, а она шастает, переживает. Я сам-то сейчас фабричный, у Мельцера. Денег больше. Она на хозяйстве в деревне, баба моя, значит…
– Достать чего? Помогу.
Мужик кивнул. Белозерский нагнулся и вынул из тумбочки что-то округлое, завёрнутое в чистое полотно. Великолепный запах не оставлял места сомнениям: в руках он держал свежий хлеб, какой умеют печь только в деревнях.
Пациент выпалил, окончательно смутившись:
– Не побрезгуйте, Ваше благородие! Сама пекла!
Он поклонился Сашке, насколько это было возможно из положения лёжа. Белозерский расчувствовался простецкой душевной благодарности, стигме его признания. Развернув полотно, он предъявил всем любопытствующим большой красивый пшеничный каравай, смачно вдохнул запах, чуть не зарывшись носом в хлеб. Скорее, чтобы не расплакаться. Все жадно потянули воздух. Осмелев, завидя такую естественную реакцию, пациент решительно заявил:
– Ещё это! Полугар там! Отборнейшая рожь! Сама гнала!
Следом за караваем Белозерский извлёк бутыль самогону в четверть ведра.
– Ох ты! – чистосердечно восхитился он.
Увидав эдакий товар, израненные, искалеченные мужики присвистнули. Повисла напряжённая тишина, будто мир стал на паузу.
– Я сейчас!
Александр Николаевич выскочил из палаты. Пациенты сверлили бутыль взглядами. Даритель несколько растерялся.
– Сдаст профессору! – сглотнув, произнёс один из шахматистов, тот, что без левой руки.
– Не таков наш Саня! – заверил его товарищ без правой.
– Без царя в голове наш лекарь! – ткнул в направлении двери костылём один из болельщиков.
Конечно же, никого сдавать профессору Белозерский не собирался. Бутыль следовало изъять. Но и ничего не откинуть мужикам, уставшим от строгого больничного режима, было непозволительно. Следовало найти соломоново решение и как можно скорее. Вылетев из палаты, он обозрел коридор: пустынно! Только в дальнем конце из дверей кабинета Алексея Фёдоровича вышел высокий стройный молодой человек и пошёл в направлении, неизвестном обыкновенным посетителям, – на выход с непарадного крыльца. Белозерский испытал приступ ревностного любопытства, но тут из-за угла вышла Ася, торопившаяся по сестринским делам с кружкой Эсмарха. Соломоново решение явилось само собой, как являлось Сашке Белозерскому всё.
– Ася! – окликнул он, присовокупив нежнейший из своего арсенала взглядов. – Асенька! – он схватил её за тонкие плечики.
Ася моментально растаяла.
– Да?!
– Минутку часовым на посту, Асенька!
Белозерский увлёк девушку к дверям палаты и выхватил у неё кружку Эсмарха.
– Стойте здесь и немедленно сигнализируйте при приближении… кого бы то ни было!
После чего зашёл в палату, плотно прикрыв дверь.
Напряжённые лица сосредоточенно взирали на бутыль самогону. Александр Николаевич поставил кружку Эсмарха на тумбочку.
– Быстро вздрогнем, где же кружки?!
Вовремя доктор разрядил атмосферу. Все дружно потянулись за ёмкостями, каждый в меру личной маневренности. С одобрительным гомоном, под восклицание виновника появления хлебного вина:
– Вот это дело!
Белозерский ловко откупорил презент, скоро и несколько воровато разлил всем в подставленные тары.
– За веру, царя и отечество! – провозгласил он негромко, но торжественно.
Все сдвинули кружки, выпили, и только утолив первую жажду, немного успокоились.
– Вот, доктор, мы там из окопов шли за веру, царя и отечество! Нам в «Вестнике Маньчжурской армии» это каждый божий день прописывали. Как так? Ведь веры нашей никто не трогал, царя не обижал, а отечество – и вовсе китайское! Можете вы нам разъяснить? По-простому!
Мужики дружно грохнули. Объяснять сейчас Александр Николаевич не был готов, хотя намедни ввечеру, в компании развесёлых девиц приличного бардачного заведения, он всё понимал куда лучше государя, что уж говорить о министрах. Но здесь, вот им, пострадавшим на Русско-японской войне, лишившимся рук и ног, братьев, отцов, сыновей; оставившим семьи, чтобы воевать за… Да, проституткам в уши лить – это не мужикам звонить. Потому Александр Николаевич быстренько разлил по второй и тихо, но весомо произнёс:
– За себя и своих!
– Другое дело!
Опрокинувши, мужики уставились на каравай. Оторвав зубами первый кусок, Белозерский передал его по кругу.
– Угощайтесь!
Все с огромным удовольствием преломили хлеб с добрым доктором. Тем временем Белозерский чуть отлил из бутыли в кружку Эсмарха.
– Спасибо Фридриху фон Эсмарху за великолепную тару!
Оценив насупленные и просительные взгляды, коих он, впрочем, ожидал, подлил ещё немного и строго сказал, оглядев публику сурово как мог:
– Всё! На завтра оставьте!
Закрыв кружку Эсмарха, поставил в тумбочку и двинулся с бутылью на выход.
Ася стояла у палаты ни жива ни мертва, потому что часовым на пост Александр Николаевич просто так не поставит. Не иначе, опять чудит. Она заламывала пальчики в тревоге. Со стороны служебного входа появилась фигура… Слава богу, это всего лишь Концевич! То есть в любой другой ситуации – не слава богу, Асе неловко было наедине с холодным, надменным ординатором. Но сейчас лучше Концевич, чем профессор, или того хуже – Матрёна Ивановна.
Концевич поравнялся с Асей.
– Что вы здесь?
– Выбили земство, Дмитрий Петрович? – выпалила Ася, хотя это был неловкий вопрос, внезапно заданный тоном закадычного друга. Будучи абсолютно бесхитростной, сестра милосердия оказалась способной на игру.
– К сожалению, нет вакансий. Анна Львовна! Я могу надеяться… как-нибудь…
Ася пошла пятнами. Она догадывалась, что Концевич испытывает к ней определённый интерес. Как догадывается об этом любая девушка. Она не желала обижать его отказом и потому не хотела слышать от него чего-то хоть в стотысячном приближении похожего на проявление чувств. И ещё она звериным чутьём угадывала, что Концевич не простит отказа, уж такой он человек. Она молчала. Молчал и Концевич. В растекающееся жижей молчание из-за дверей мужской палаты ворвался гуттаперчевый Белозерский.
– О, Митька! Выбил земство?
Белозерскому студенческое словцо «выбил» шло, в отличие от Аси.
– Нет вакансий! – повторил Концевич с совсем другой интонацией.
– Ну, брат Митька, что бог не положит, всё к лу… Асенька! Спасительница! Благодарю! Это – в смотровую!
Он вручил Асе бутыль и совершенно по-братски поцеловал в щёчку. И Ася поверх пятен залилась алым. Концевич холодно поклонился и пошёл в сторону ординаторской. Сестра милосердия, опомнившись, воскликнула:
– А кружка, Александр Николаевич?!
– Кружка использована по неотложным жизненным показаниям! Для предотвращения русского мужицкого бунта, бессмысленного и беспощадного! Благодарю за службу.
И, чмокнув её ещё раз, в другую щёку, он снова нырнул в палату. Оставшись одна, Ася сделала дверям кокетливый книксен, присовокупив:
– Рада стараться, Александр Николаевич!
Напевая и чуть пританцовывая, она понеслась по коридору в обнимку с бутылью, окрылённая, совершенно не понимая, чем именно.
Пациенты разошлись по койкам. Исключая двух неугомонных шахматистов, у которых был неразрешимый вопрос: кто же всё-таки выиграл бы в тот день, когда партию двух бравых артиллеристов прервала внезапная атака японских коллег по оружию. Каждый, разумеется, утверждал, что выиграл бы непременно он, кабы пришедшийся аккурат между ними снаряд не лишил их партии. И рук заодно. Не будучи знакомыми до войны, они сдружились накрепко и перетащили семьи в одну деревеньку. Жили этой неразрешимой шахматной партией, в то время как бабы их поднимали хозяйство и покрикивали на детей, если те по малолетству донимали отцов.
В шахматы мужиков обучил играть капитан, погибший в той атаке. Эту дорогую доску с филигранными фигурами подарил один высокий военный чин, узнав их историю во время инспекции санитарного поезда. Они и знать не знали, что высокий чин в мундире тоже всего лишь врач. Тот самый, «почище», коим профессор Хохлов пенял Вере Игнатьевне, якобы она его «обскакала на поворотах». Быстрее надо было готовить доклад. Да и никогда бы он себе не позволил резкости, всё бы обставил так, чтобы не ранить верхушку, а значит, и резонанса было бы меньше.
Его имя ничего бы не сказало простым мужикам. Это был Евгений Сергеевич Боткин. Можно было рассмотреть полустёртую печатку внутри шахматной доски: «Высочайшее утверждённое товарищество чайной торговли Петра Боткина сыновей», но вряд ли это несло для мужиков персонализированную информацию. Добрый барин отдал им ненужную ему вещь, где-то раздобытую по случаю. Семейными реликвиями незнакомых калек не одаривают. В байках мужики приврали, не стесняясь, что шахматы подарил им сам генерал Куропаткин1… Ах, если бы они знали, что правда куда бесценней их бесхитростной выдумки.
Белозерский присел на кровать несчастного с фантомными болями, откинул одеяло и сосредоточенно наблюдал конвульсии, проходящие по телу. Сейчас он будто не испытывал сострадания, полностью погрузившись в созерцание, в мышление. Дождавшись паузы между волнами, он провёл пальцем по сохранившейся верхней трети бедра – и пациент застонал, скрежеща зубами, даже находясь в опийном дурмане. И отчётливо произнёс со страшным надрывом:
– И в той долине два ключа: один течёт волной живою, по камням весело журча, тот льётся мёртвою водою…
– Это Пушкин! – обрадовался Белозерский, хотя радоваться было совершенно нечему. Тут же устыдившись, он огляделся. На него никто не обращал внимания, кроме выздоравливающего, вертевшего в руках коварную японскую шрапнель.
– Он постоянно это бормочет. Вы не волнуйтесь так, доктор! Ещё и не такое бормочут. Жалко его, сил нет. Я-то что! Хромой слегка. А он, бедолага! – и пациент сочувственно покачал головой. – Ног нет – а болят. Вот ведь!
– Природу фантомной боли величайшие умы понять не могут! – веско заявил Белозерский. Ему сейчас необходим был собеседник. Как и большую часть его жизни. Сашка Белозерский не выносил тишины ещё более, чем не выносил одиночества. В детстве Сашеньке казалось, что в одиночестве и тишине его нет, он растворяется, исчезает. С тех пор мало что изменилось в его отношениях с тишиной и одиночеством.
– Что ж тут понимать?! – охотно принял подачу простой добрый мужик. – Глаза могилку видят, крест на ней. Голове растолковать могу, что сыночек наш маленький у боженьки, хорошо ему в раю! Но сердце, сердце-то – ножом!
1 Куропаткин Алексей Николаевич, генерал-адъютант, командующий Маньчжурской армией.
Он сглотнул комок, сморгнул влагу и крепко сжал в кулаке осколок, больно впившийся в кожу. Слёзы отступили.
Белозерский подскочил.
– Как сказал?!
От неожиданности слегка испугавшись – вдруг не то ляпнул при докторе, – пациент постарался пояснить:
– У престола Господня праведники…
– Нет-нет! То есть – да. У престола, конечно же! Но я не то!.. А ты – ты как раз то!
Белозерский в ажитации начал расхаживать между койками, бормоча:
– Глаза видят… Голове растолковать могу… Глаза видят! Дорогой ты мой!
Подскочив к собеседнику, он поцеловал его в макушку, чем привёл в окончательное недоумение. Затем вернулся к койке страдальца с фантомными болями, вперил взгляд в пустоты под одеялом.
– Глаза не видят – растолковать не могу! Надо, чтобы глаза увидели!
Он экстатически воздел руки, видимо, желая подчеркнуть этим жестом, какой он невообразимый осёл и как же то, что понимает мужик, прежде не приходило ему в голову! После чего он понёсся к дверям. Через мгновение резко затормозил и, круто развернувшись, направился к пациенту, доставая на ходу портмоне. Извлёк крупную купюру и засунул под подушку.
– Не побрезгуй! Сам со счёта снимал!
– Господь с вами, Ваше высокоблагородие! Никак вы рехнулись! За что?!
– За идею, дорогой ты мой! Максимально простая идея – ценнейшее для величайших умов!
Воодушевлённый молодой ординатор полетел на выход из палаты, воображая себя тем самым величайшим умом, который наконец-то реализует ту самую простую идею. Идею настолько элементарную, что тысячу лет крутилась у мыслителей перед носом, но ни у кого не достало нюху её ухватить. И вот пришёл он, Александр Николаевич Белозерский! Он совершит революцию: навсегда избавит человечество от фантомной боли!
Сашка нёсся по коридору в сторону профессорского кабинета, на бегу бормоча, словно молитву, будто заклинание:
– Голове растолковать могу. Могу растолковать – могу обмануть. Могу обмануть – могу растолковать. Необходимо, чтобы глаза увидели! Узрели!
На заднем дворе клиники старшая сестра милосердия Матрёна Ивановна с подозрением вглядывалась в небеса. Извозчик, сидя на перевёрнутом ящике, сворачивал самокрутку.
– Чего выглядываешь? Вёдро.
– Именно что вёдро. Пусто там!
Иван Ильич тайком перекрестился.
– Злая ты, Мотя. С чего?
– С того! Долго доброй была. Вся и вышла.
Усмехнувшись, извозчик покачал головой.
– Ну, уж и вся. Вот, скажем, Асю ты любишь.
– Люблю.
– Чего ж тогда шпыняешь постоянно?!
– Того и шпыняю! Девка на свете одна-одинёшенька! И любую ласку принимает за сказку.
– Да что ж плохого-то в ласке? И в сказке?
Матрёна, зыркнув на него, вошла в клинику, хлопнув дверью так, что не мастери петли самолично Иван Ильич, их бы сорвало.
Она решительно вошла в сестринскую. Ася пила чай.
– Матрёна Ивановна, присядьте, я вам…
– В Сашку Белозерского влюбилась?!
Ася залилась краской, ничего не ответив наставнице.
– Не доведёт до добра!
– Зачем вы так! Александр Николаевич не такой…
В сестринскую без стука влетел Белозерский с ворохом какого-то тряпья. От неожиданности Ася подскочила, уронив чашку.
Та расколотилась вдребезги, чай разлился по полу. Побагровев, Ася начала собирать осколки.
– Некогда, некогда! Потом! Пойдём скорее, со штанами мне поможешь!
Белозерский выволок Асю из сестринской, прихватив за локоток.
Матрёна, недовольная тем, что её продуманное нравоучение было прервано самим предметом нравоучения, присела собирать осколки.
– С пола прибрать – это не по нам! Мы помчались доктору со штанами помогать! Ой, негоже! – ворчала она, качая головой.
Разумеется, Ася прибрала бы и за собой, и не только за собой. И Матрёна Ивановна это знала. Как знала и то, что сестра милосердия не вправе оспорить распоряжение доктора. Даже если он изволил приказать помогать ему со штанами. Судя по тому набору, что был навьючен на нём, штаны были профессорские. Фрачные брюки с шёлковыми лампасами.
Матрёну осенило. Она подскочила, уронив осколки. На кой чёрт этому заполошному сдались выходные брюки Хохлова?! С завидной прытью она выскочила из сестринской.
Постучав в кабинет профессора и не получив ответа, Матрёна Ивановна ворвалась в помещение:
– Алексей Фёдорович!
Хохлова не было. Одёжный шкаф был нараспашку, фрак брошен на кушетке, брюк к оному не наблюдалось. Заботливо пристроив фрак на вешалку и водворив на положенное место, Матрёна закрыла шкаф и выбежала из кабинета.
Население мужской палаты с недоумением наблюдало за докторскими хлопотами. Даже шахматная партия была отставлена. Лекарь «без царя в голове» с помощью доброго ангела милосердия Аси соорудил безногому, всё ещё пребывающему в забытьи, подобие ног из господских брюк, набив их ветошью. Поправив пояс, Белозерский критически оглядел дело рук своих и остался доволен. Анна Львовна суетилась, чего пациенты за ней обыкновенно не замечали, и пребывала настороже. Из чего следовало, что эта парочка в белоснежных халатах занималась либо чем-то запрещённым, либо неразрешённым. А тонкая грань между неразрешённым и запрещённым хорошо известна русскому человеку, он её чует, и потому солдаты в едином порыве склонились к версии о неразрешённом, и никто из них не проявлял особого волнения. Разве любопытство: удастся ли Сашке вот это, не пойми что или как? Что любимый доктор частенько блажит, знали все, кто пребывал в клинике более суток, будучи при этом хоть сколько-нибудь в сознании.
– Алексей Фёдорович не одобрит! – решилась наконец шепнуть Ася побелевшими от волнения губами.
– Я – врач. Вы – сестра милосердия. Выполняете мои указания. С вас взятки гладки при любом повороте! – добродушно и несколько легкомысленно произнёс Белозерский.
До него наконец дошло, что именно в композиции решительно не так!
– Ага! – воскликнул он.
Моментально скинув балморалы, приставил их к набитым ветошью брючинам, зафиксировал, насколько позволяли подручные средства. Расхаживая в носках, полюбовался делом рук своих. Выглядело пристойно. Будто мужчина прилёг отдохнуть на койку ненадолго, спину распрямить. Его и сморило. Жаркий день, оттого и пот на лбу.
Александр Николаевич достал медицинский несессер, собрал шприц, извлёк крохотный флакончик с мутной жидкостью и ловко затянул её в стеклянную полость.
– Вытяжка из крови надпочечных вен собаки! Анна Львовна, вы читали работы Альберта фон Кёлликера о волшебных свойствах этих крошек, чудо-органов?
Ася отрицательно покачала головой, глядя на Белозерского с суеверным ужасом. Пациентам все его слова и вовсе показались белибердой, и многие втихаря перекрестились, не говоря уже о тех, кто явно и широко осенил себя крестным знамением.
– Бог не выдаст, свинья не съест!
С театральной торжественностью ординатор оглядел публику, подмигнул Асе и ввёл пребывающему в грёзах пациенту содержимое шприца внутрикожно в латеральную поверхность верхней трети предплечья. Отложив пустой шприц на тумбочку, он приподнял голову подопечного так, чтобы очнувшись тот первым делом узрел фальшивые ноги. Все затаили дыхание, не в силах оторвать взгляды от происходящего. Несчастный распахнул глаза.
Он взмок ещё более, дыхание участилось – сказывались эффекты вытяжек. Он будто бы вернулся в сознание, но оно отказывалось принимать открывшуюся реальность: ноги были на месте. В чужих брюках и барских ботинках, но это были его ноги. Он их чувствовал. Ощущал. К тому же властный, сильный, но мягкий и убедительный голос вещал:
– Видал?! Раз – и ноги! Смотри! А хочешь – ногу на ногу закинь!
И Белозерский закинул пациенту ногу на ногу.
Несчастный почувствовал, как он сам – сам! – закинул ногу на ногу.
– Внимательно! Гляди!
Александр Николаевич улёгся рядом с мужиком. Так же закинул ногу на ногу, а руки вальяжно устроил за головой. Мужик чуть подвинулся от доктора, ничего не соображая, кроме одного, зато самого важного на свете: он чувствует ноги, и они не пылают огнём! В голове смолкло шипение шимозы и проклятый набор слов, ритмически сопровождающий волны адских мучений, выветрился, исчез, иссяк, испарился!
Лицо его просветлело. Никто слова не мог вымолвить. Все стояли уже не просто затаив дыхание, а будто и вовсе дышать перестали. У них на глазах совершалось чудо, а простой русский человек очень чувствителен к чуду, уважает чудо, трепещет и благоговеет перед чудом.
Только молодой доктор продолжал говорить без умолку:
– Мы с тобой старые товарищи, лежим на берегу, пальцами шевелим! Дамочек приглядываем.
Не прекращая тараторить, Белозерский пошевелил пальцами в носках:
– Ты неженка, песок не жалуешь, так ботинки не снял! А пальцами – мы оба шевелим! Давай, шевели!
Голос доктора, такой добрый, такой уверенный, благодушный, но в то же время – командный, проникал мужику в душу и ложился гладко поверх собственных ощущений. Инвалид расплылся в широкой улыбке:
– Шевелю! Шевелю пальцами!
Первой счастливо рассмеялась Ася. Её нежный колокольчиковый смех поддержали, подхватили басы и баритоны, духовые и ударные. Ася захлопала в ладоши, и население палаты поддержало её, аплодисменты грозили перейти в овацию, кто-то крикнул:
– Качать доктора! Ай да Сашка! Ай да сукин сын!
Все, кто мог ходить хотя бы на оставшихся ногах и качать хоть в одну руку, в едином порыве потянулись к ординатору Белозерскому. Он был молод, строен, пружинист, и качать его было вовсе не сложно, особенно на эмоциональном подъёме, который только усиливался радостными восклицаниями освобождения от адовой муки:
– Шевелю пальцами! Не болит!
На заднем дворе клиники госпитальный извозчик лежал под каретой. Фельдшер Кравченко сидел у рамы на корточках. Здесь же был и профессор Хохлов, силясь разглядеть то, что показывал ему Иван Ильич. Будто разгляди он – проблема немедленно устранится.
– Я, Алексей Фёдорович, специально призвал посмотреть самолично! Вот, извольте видеть, раму следует менять!
– Я тебе и так верю, Иван Ильич! Но где ж я тебе ту раму возьму?!
– Где взять, профессор, я знаю. Вы денег дайте, и я возьму в лучшем виде, незадорого, неновую, но справную.
– Ритор! – саркастически изрёк профессор, догадавшись наконец распрямиться. И тут взгляд его упал на Кравченко, отметившего реплику едва заметной улыбкой.
– Вы, Владимир Сергеевич, руководите бригадой и всеми этими делами. Не для того, чтобы они меня почём зря…
Из-под кареты донеслось скрипучее, недовольное, оскорблённое в самых лучших чувствах:
– «Они»! Вот тебе, Иван Ильич, и за верность! Вот тебе, Иван Ильич, и за службу! Вот тебе, Иван Ильич, ты уже и «они»! И «почём зря» тоже вот тебе, кушай на здоровьечко!
Алексей Фёдорович обратил молящий взор к фельдшеру, старавшемуся не рассмеяться. Но не успел Иван Ильич со вкусом разобидеться, только подбираясь к порогу ража, как из клиники выбежала Матрёна Ивановна.
– Алексей Фёдорович! Опять ваш Белозерский!
– Что «опять ваш Белозерский»? – слишком театрально, ничуть не уступая в актёрском мастерстве Ивану Ильичу, профессор нацелил всё своё внимание на старшую сестру милосердия, донельзя обрадовавшись её явлению, дававшему ему возможность избежать объяснений с уязвлённым извозчиком.
– Известно, что! Чудит!
Хохлов размашисто зашагал в клинику, Матрёна засеменила за ним, кивая и поддакивая. Профессор закипал:
– Неслыханное!.. Неслыханная!.. Ты ему – вдоль! – он тебе – поперёк!
Когда поступью командора Хохлов зашёл в палату, грозный и возмущённый, а за ним мелким бесом залетела Матрёна Ивановна, Белозерского качали. Он пребывал на вершине блаженства. Он чувствовал себя победителем. Да что там – чувствовал! Он и был победителем! И наглядным подтверждением его победы было то, что пациент, которого круглые сутки мучали чудовищные боли, лежал на кровати румяный, восторженный, без облачка недомогания на лице, и громко торжествующе ликовал:
– Шевелю пальцами!
От неожиданности Белозерского выпустили из рук, но он ловко приземлился, да и калеки не слишком высоко его подбрасывали. Немного полежав в картинной позе, нарочито выждав, покрасовавшись триумфом, Белозерский подскочил с пола и столкнулся с пылающим взором Хохлова, скромно потупив глазки.
– Профессор, простите! Я взял ваши брюки!
Выдержав паузу, ординатор торжествующе огласил:
– Но изобрёл способ купировать приступы фантомной боли!
Сашка не мог понять, отчего Алексей Фёдорович не разделяет радость его победы. Неужто из научной ревности? Не может быть! Профессор Хохлов для этого слишком… профессор! Учитель воистину академичен. И не может не разделять успех ученика. Но вот он перед ним лишь яростно раздувает ноздри, голос строг, тон холоден:
– Прошу вас пройти ко мне в кабинет!
Приложив руки к груди, Белозерский поклонился притихшей аудитории и последовал за Хохловым как был, в носках. Несмотря на таковую реакцию обожаемого учителя, он был счастлив. Ничто не могло омрачить его радости. Вот оно, великое свершение Александра Николаевича Белозерского! Его ликторский пучок, его оливковая ветвь! Нет, безвкусный герб Витте копировать не стоит, это пошло, к тому же геральдика должна соответствовать заслугам. Надо подробнее изучить вопрос чуть позже, когда его работа будет признана, найдёт широкое внедрение и возведёт фамилию Белозерских в потомственное дворянство! Разве в серебряной главе щита пусть будет три червлёных абрикосовых цветка, как дань делу предков, обогатившему семью. Александру Николаевичу осталось лишь раздобыть доблесть.
Оглянувшись, он подмигнул замершей Асе. Пациент тем временем не замечал ничего. Ему наконец не было больно.
– Я чувствую ноги! Они есть! И они – не болят!
Хохлов обернулся, с состраданием оглядел мужиков, траченных войной. Они, кажется, гораздо раньше образованного Белозерского сообразили последствия. Жизненный опыт, тяжёлые испытания – всё то, что выпадает щедро простым людям, гораздо раньше обучает вот чему: обман – никогда не спасение, фальшь – никогда не избавление. Или правда. Или смерть.
– Анна Львовна! – пустым надломленным голосом, будто звуки давались ему с трудом, распорядился профессор Хохлов: – Не дайте пациенту прикоснуться к вашим… декорациям!
Ася испуганно кивнула, присев в книксене.
В профессорском кабинете Белозерский устроился в уголку, в роли скромного победителя, вынужденного выслушивать нотацию от вышестоящего. Хохлов по своему обыкновению расхаживал, яростно жестикулируя, обращаясь к ученику на повышенных тонах:
– Вы думаете, ординатор Белозерский, до вас сообразительные люди не рождались?!
– Рождались, профессор! – покорно поддакнул Александр Николаевич.
– Вы считаете, прежде никогда не размышляли, как победить фантомную боль?!
– Размышляли, профессор!
– Вы полагаете, никто не был таким же дураком, как вы?!
– Был, профессор, – как можно тише и подобострастней произнёс Белозерский.
Хохлов осёкся и свирепо глянул на ученика.
– Остроумец! Всё-то тебе кажется, что жизнь – это искромётный бурлеск! А между тем наш Иван Ильич уж куда остроумней тебя будет. Парадные портки ещё взял! Мне вечером в театр, – и профессор снова махнул рукой, подумав, что ампутирует мерзавку, если она не перестанет своевольничать.
Белозерский, вообразив, что вожжи ослабли, а гнев иссяк, обратился к профессору горячо, с огромным воодушевлением:
– Алексей Фёдорович, сработало же! Я нигде о таком не читал…
– Потому и не читали, молодой вы идиот! – взвился профессор. – Потому-то и не читали, что не работает!
– Но как же? – опешил Саша. – Вы же собственными глазами видели: боль ушла!
– Мой мальчик, это фокус! Трюк! Вы бы малышу подсунули ловко свёрнутый фантик, в котором нет конфетки?