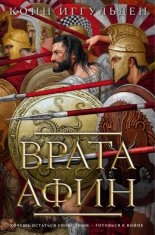Община Святого Георгия Соломатина Татьяна

– Госпитальная карета изволила подъехать, сказали: по вызову ординатора Белозерского.
– Александр Николаевич, я попрошу вас не афишировать моё участие в инциденте! – Вера употребила слово «попрошу», но оно прозвучало приказом. Александр кивнул прежде, чем она окончила фразу.
Носилки из особняка выносили Александр Николаевич и Василий Андреевич. На козлах госпитальной кареты сидел Иван Ильич. Он непременно бы соскочил подсобить, но сейчас в этом не было нужды. Да и присутствие за главного Концевича его останавливало. Дмитрий Петрович вполне способен был указать извозчику его место. А Иван Ильич и без напоминаний своё место отменно знал.
Вокруг моментально образовались зеваки. Удивительная исконно русская традиция: появление концентрированной кучи из сочувствующих, любопытствующих и просто мимо проходящих. Раздавались возгласы:
– Буржуя убили!
– Роковая страсть! Купоросным маслом плеснули!
– А полиция где?!
– Где-где! Известно где! Дождёшься их оттудова!
Тем не менее слишком близко подойти опасались, и Александр Николаевич с Василием Андреевичем беспрепятственно устроили носилки в салоне кареты. Головной конец ловко принял Кравченко. Со всей возможной важностью Белозерский сообщил Концевичу:
– Baby Doe!
Ни один из молодых ординаторов не обратил внимания на то, как изменилось лицо Владимира Сергеевича, бросившего взгляд на дитя. Но он немедленно взял себя в руки.
– Неизвестный ребёнок? Мне передали: Белозерский на огнестрельное вызвал.
– Так пуля – дура, возраст не разбирает! – нарочито легкомысленно брякнул Белозерский.
– Диагноз? – тревожно и строго уточнил Кравченко, чем вызвал неудовольствие Концевича. Фельдшер поперёд врача вылез. И был прав. Врач первым делом поинтересуется именно этим.
– Диагноз? Ранение лёгочной аорты. Ушито.
– Камфору ввели?
– Да, конечно.
– Едем скорее, Дмитрий Петрович! – поторопил Кравченко.
Концевич уже забрался в салон и потому недовольно дёрнулся на очередное несоблюдение субординации фельдшером. Мало ли кто и кем был, в этой жизни имеет значение только то, что ты есть сейчас!
– Ушил?! Один?! У тебя в укладке саквояжа долото и ретрактор? – с язвительным сомнением поинтересовался Концевич.
– А… что такого? Пневмогемоторакс дренирован! Везти с особым вниманием и…
Кравченко закрыл двери, Иван Ильич мягко тронул, ибо уважал хворых, в особенности деток, страдающих из-за взрослых.
– Не мы, Клюква, рессора! Не мы и булыжник! Но мы с тобой, Клюква, мастерство! – ласково проговорил он лошадке. Та в ответ понимающе фыркнула и пошла аккуратно.
– Носилки тоже в саквояже были?! – удивился Концевич, только в карете сообразив, что госпитальные носилки так и остались притороченными.
Белозерский мухой вернулся в дом. Непонятно отчего, но ему не хотелось надолго оставлять отца с княгиней. Разумеется, не из ревности, глупость какая! Папенька никого не полюбит, кроме покойной маменьки. А лишь потому, что папа способен полностью завладеть вниманием княгини. В общем, Александр Николаевич вёл себя как малолетка.
– Расходимся, расходимся! Всё узнаем из утренних газет! – прикрикнул Василий Андреевич на поредевшую, но не схлынувшую кучу зевак. – Ну! Нечего! Не кукиш с маслом обручились!
Мелкий чиновник, явно сострадающий увезённой в госпитальной карете девочке и, видимо, уже знающий контекст: нет той русской деревни, где слухи бы ни распространялись стремительно, будь это хоть Петербург, мнящий себя холодным европейцем, – произнёс:
– С путиловской стачки не уймутся. Уже на им: свободу слова! Свободу собраний? Пожалуйста! Habeas corpus! А младенец, получается, прикосновенен?! Тьфу!
Стоящий рядом люмпен-пролетарий, не осмыслив сказанного, горячо откликнулся лишь на милое его душе и складу ума сплёвывание:
– Правильно! Так! Бить миллионщиков и семя их давить!
Чиновник, мгновенно смутившись, поторопился уйти. Но люмпену хотелось самовыражения. И он плюнул в Василия Андреевича, присовокупив:
– Упырь расфуфыренный! Хабеас корпус ещё какой-то!
Но увидав в руках у Василия Андреевича внушительный стек, коим он, судя по манере удержания, владел уверенно, быстро припустил по мостовой.
Николай Александрович проводил Веру Игнатьевну к дверям ванной комнаты. Разумеется, княгиня изъявила желание взять ванну, коль скоро приняла приглашение на ужин. Неловко садиться за стол в окровавленном тряпье, учитывая, что она в доме первый раз. Откровенно говоря, ей доставляло удовольствие подтрунивать над старшим Белозерским, которого легонько замкнуло на её княжеском достоинстве или на чём ещё, или просто сказывалась её манера насмешничать над манерностью.
– Вот, княгиня, собственно говоря, наши скромные термы…
– Благодарю, Николай Александрович, полагаю, далее я сама, если, говоря «термы», вы не имели в виду и прочую римскую парадигму.
Матёрый был уже не так шустр на окрашивание в маков цвет, как его сынишка.
– О, нет, конечно же! – рассмеялся он. – Не с вами! Не…
– Отчего же не со мной?! Я нехороша?
– Вы прекрасны, княгиня!
– Чем же я отличаюсь от прочих женщин?
– Вам, наверное, надо бы во что переодеться! – переменил тему опытный купчина Белозерский. – Да только у нас в доме нет ничего приличествующего вам. Женского.
Вдруг будто бы из ниоткуда появился Василий Андреевич со стопкой мужского платья.
– Прошу вас, княгиня. Вы с Александром Николаевичем одного склада фигуры.
Расхохотавшись, Вера приняла стопку у заботливого батлера и скрылась за дверьми ванной комнаты.
– И тут не смог меня не сконфузить! Никак без этого! – бросил преданному слуге Николай Александрович.
Тот и бровью не повёл.
– Прикажете накрывать?
– Как? – язвительно всплеснул руками барин. – Неужто у тебя ещё не готово?! Или тебе сдались мои распоряжения?!
– Вам сцену накрывать? – по-прежнему никак не реагируя на иронию хозяина, уточнил Василий Андреевич.
– Уж изволь!
Ванная комната поражала роскошью и одновременно лаконичностью убранства. Термы, к слову, тоже имелись. Из ванной комнаты можно было проследовать в подвал, где располагался мраморный бассейн. В другое время княгиня с удовольствием оценила бы всё это. Поскольку, несмотря на то что она умела довольствоваться самым малым, как настоящая аристократка Вера Игнатьевна ценила комфорт и всё то, что можно приобрести, коли не стеснён в средствах.
Особняк Белозерских был создан Андреем Петровичем Вайтенсом. Николай Александрович уважал профессионалов и полностью им доверял. И никогда с ними не торговался, считая это ниже своего достоинства. Несмотря на то, что был купцом. А вот многие дворяне, владельцы олигархических состояний, рубились с архитектором за каждую копейку до кровавых соплей. До кровавых соплей самого архитектора, разумеется. Вспомнить хотя бы Николая Петровича Краснова, которого Юсуповы доводили до чудовищного заикания. А они были богаче императорской семьи, которой Краснов возводил Ливадию, и сам государь называл его удивительным молодцом, в отличие от мамаши Феликса Юсупова, доводящей светоча русской крымской архитектуры до нервных срывов.
В какое-нибудь другое время княгиня Данзайр с удовольствием бы оценила и конструкционные решения, и убранство, и поговорила об архитектуре, ибо была человеком всесторонне образованным. Но сейчас на неё вдруг навалилась та чудовищная усталость, которую испытывает человек на пределе возможностей, внезапно получивший краткую передышку. Так бывало на войне. Но сейчас же она вернулась в мирное время, в блестящий Санкт-Петербург! Так какого же дьявола она оперировала лёгочную аорту, травмированную огнестрельным ранением?! Пуля взорвала не грудь солдата на сопках Маньчжурии. Осколок металла, выпущенный из ствола, пробил хрупкую плоть малышки, сидевшей на руках у почтенного отца в дорогом экипаже, и всё это случилось в столице Российской империи!
Пустив воду, Вера сидела на краю мраморной лохани совершенно опустошённая и пялилась в стену, не имея ни одной мысли и не испытывая ни единого чувства. Когда ванна наполнилась, она скинула окровавленные вещи на пол и, опустившись под воду с головой, дала себе волю и заплакала. Она даже не почувствовала этого. И своей воли не почувствовала. Не было у неё сейчас воли. Зато была вода. Одна из самых почитаемых субстанций в синтоизме. И ярость ками[5] бессильна как перед толщей вод, так и перед каплей слёз.
К ужину Вера Игнатьевна вышла очищенной и обновлённой, как и положено настоящей аристократке.
Глава VII
Сыскари моментально установили личность убитого. Он был довольно известным, видным лицом. Более ничего им выяснить не удалось, они и не особо старались. Нынче покушения и прочая смута стали делом обыденным. Интересным же в конкретном происшествии было вот что: кто и зачем утащил раненую девчонку. Со сбивчивых показаний городового выходило: двое молодых людей, никак не похожих на возмутителей спокойствия. Один, судя по саквояжу и вслух заявленному, – и вовсе доктор. Возможно, в больницу поволокли, там искать и надо, а не то ещё и не надо, сама всплывёт. Правда, в тщательности сыщикам нельзя было отказать, они на измор опросили городового. Собрали всё, что можно было, включая плюшевую собачку, испачканную в стылой крови мертвеца.
В кабинете полицмейстера раздался звонок, имя алкающего связи с ним заставило вовсе не пугливого и не опасливого к чинам и званиям Андрея Прокофьевича встать и вытянуться во фрунт.
– Разумеется, Ваше Сиятельство!
Таковое титулование говорило о том, что звонил не меньше нежели князь или граф, впрочем, и это не имело никакого значения. Нынче Россией правили не титулы, но влияния. О влиятельности особы говорила манера полицмейстера, внезапно до отвращения подобострастная. Хотя и не таков он был человек.
– Дело под моим личным контролем! Девочку разыщем живую или…
Он осёкся, проглотив прилагательное, готовое вылететь. Впрочем, собеседник прекратил разговор и не услышал ничего после «разыщем». Полицмейстеру приказывали, а не интересовались обстоятельствами, соображениями и заверениями.
Андрей Прокофьевич бережно опустил трубку и тяжело присел на стул. Некоторое время смотрел на карточку жены и детей, стоящую на столе. У самого трое, и младшая – ровесница пропавшей с места преступления. Это рвало ему сердце. Помрачнев, он треснул кулаком по столешнице. Фотография подпрыгнула и упала, это вызвало в суровом полицмейстере мистический ужас. Он вскочил, поднял её, расцеловал изображения детей, замутив дыханием стекло, прижал к груди и подошёл к окну. Вглядываясь в ночь, он испытывал бурю чувств. Иные из них можно было бы охарактеризовать как взаимоисключающие. Полицмейстер имел характер воистину русский.
Как известно, в нашей доблестной нации в кварто-квинтовых, большесептово-тритоновых и прочих полиаккордовых сочетаниях гармонично сплетаются самые чудовищные свойства натур. Иначе как можно объяснить то, что Владимир Сергеевич Кравченко, отлично знающий, что за девочка перед ним, не бросился немедля уведомить её родных и близких, сходящих с ума? Впрочем, он в первую очередь сделал всё необходимое, дабы работа человека, чей профессиональный почерк он узнал, не пропала. Странный фельдшер обеспечил весь спектр неотложных лечебных мероприятий. После чего вышел во двор покурить и решился наконец сделать то, что должен: любым способом известить профессора Хохлова. Он затянулся и прислонился к стене. Иван Ильич, сидевший на перевёрнутом ящике и мастеривший самокрутку, оглянулся на фельдшера с беспокойством. Он знал всех и вся, в момент подмечая любые изменения в окружавшем его тварном мире. Владимира Сергеевича явно что-то заботило.
– Палят, взрывают! Плохого им дядя инператорский, Сергей Александрыч, сделал?! Нет же, хорошего! Акциз уменьшил. Отставился, значит, ушёл человек от дел. Бабах! – в куски разметали!
Госпитальный извозчик говорил, потому что отлично знал: если у человека тревога – тишина не помощник. А у господина Кравченко была ох какая тревога! И даром что добродушный Иван Ильич не мог понять её природы, потому что тут было что-то сильнее, нежели боль о маленькой пациентке, но точно знал: молчать – плохо. Надо разговорить человека.
Во двор вошли студенты. Астахов, восторженный молодой человек, мечтающий о благе для всех, надрывно вещал:
– Нужда и нищета! Вот что приводит в нашу клинику! Не можешь деньгами – изволь расплачиваться телом!
Более рассудительный Нилов возразил товарищу:
– Но иначе нельзя учиться.
– Социалисты всё решат! – чуть не экстатически воскликнул Астахов.
– Как? – поинтересовался Нилов.
Насмешливо отозвался мрачный Порудоминский, стремившийся заслужить репутацию циника:
– Придёт Максим Горький к нашему Астахову и скажет: «Режь мне, Лёха, аппендикс, не тушуйся! Это ничего, что ты прежде скальпель в руках не держал. Не на нищем же тебе руку набивать, давай сразу на мне!» Гапон перед Алексеем геморроидальные шишки раскинет!
Студенты вошли в клинику.
– Скубент в ночное пошёл! – колюче заметил Иван Ильич. И так глубоко затянулся, что закашлялся до слёз. Это привело его в несколько воинственное состояние ворчания. – Не в то горло, чёрт их дери! Социалисты, глядь, решат! Лошадь – вот социалист! Вместе пашем, но правлю – я! Начни кобыла править – куда понесёт? Ежели, скажем, «в охоте» – то жеребца искать. А так просто от дури обожрёт посевы кругом – и в стойло! Коли в недоуздке – пузо надует. В удилах чудила – гортань до кровяни раздерёт.
На дворе появился профессор Хохлов. Лицо Кравченко изменила болезненная гримаса. Извозчик, приподнявшись с ящика, поклонился.
– Вы ж в теятре быть должны, Алексей Фёдорыч!
Хохлов, едва кивнув, зашёл в клинику. Кравченко, выбросив окурок, последовал за ним.
– Вот! – обратился Иван Ильич к ночному небу. – День и ночь на ногах! Профессор наш и кобыла моя – социалисты. А не эти, что языками метут. Ежели б они ими, скажем, мостовые мели, так хоть чище бы стало.
Кравченко уже готов был сказать профессору чудовищно страшное, но и чудесно освобождающее, как из палаты навстречу им выскочил Концевич и, не глядя на отчаянно сигнализирующего взглядом Кравченко, точнее: решив его не заметить, – выпалил:
– Доброй ночи, Алексей Фёдорович! Baby Doe, женского пола, предположительно семи лет. Огнестрельное. По вызову из особняка Белозерских. Уложили в сестринскую. Девочка, очевидно, из дворян…
Не дослушав, профессор кинулся бежать по коридору в сторону сестринской. За ним устремился Кравченко, не изволив одарить Концевича укоризной. Формально: не за что. Что важнее: без толку.
В сестринской на кушетке лежало дитя. Повязка на груди пропиталась кровью. Дыхание было почти неслышным, но оно было! Рядом сидела Матрёна Ивановна и, держа крошку за ручку, истово молилась, несмотря на то что считала, что на небе никого нет. Может, и не надо им быть на небе. Кому «им», Матрёна не ответила бы. Непосредственно боженьке Матрёна давно не адресовала чаяний. У неё имелись на то серьёзные основания. Но она всё ещё оперировала просьбами к своей святой. Та, может, по-бабски подсобит, как однажды подсобила. Надёжней. Что на земле, то и на небе. Через знакомых, родню, кума и свата – оно надёжней, значит и через ангела-хранителя – тоже.
– Блаженная старица Матрона, попроси Господа Бога нашего Иисуса Христа о здравии чада. Избавь дитя от немощи. Отринь хворь телесную…
В сестринскую ворвался профессор Хохлов и упал перед кушеткой на колени.
– Соня! Сонечка! Софья Андреевна!
Он осыпал маленькую ладошку поцелуями, не замечая, что лобзает и руку Матрёны, ибо схватил их вместе, как застал.
– Жива! Нашлась! Слушать!
Концевич снял с шеи фонендоскоп и подал Хохлову. Кравченко стоял мрачнее тучи. Несколько минут назад он выслушал и проекцию сердечного толчка, и клапаны – аортальный и митральный, и лёгкие девочки. Но Алексею Фёдоровичу надо было себя занять, от бездействия человек лишается рассудка.
– Что ж вы не позвонили мне?!
– Владимир Сергеевич телефонировал! Так вы в театр поехали, а перед ним в ресторацию собирались, ваша горничная доложила! – резво выступила Матрёна Ивановна.
Продолжительное время будучи старшей сестрой милосердия в этой клинике, она знала, что гнев патрона надо гасить в зародыше. Ибо любой гнев бессмыслен и беспощаден и падает чаще всего на невиновных, а ещё чаще – на тех, кто помогает и спасает. Профессор медицины Хохлов и сам был отменно знаком с этим несправедливым законом бытия, но в конкретной ситуации было слишком много личного. Девочка приходилась ему родной племянницей, дочерью младшей сестры.
Взгляд Алексея Фёдоровича упал на Концевича.
– По вызову из дома Белозерского? Что за чертовщина?!
Хохлов подскочил с нехарактерной для него лично – что уж говорить о звании – прытью.
– Её мать сходит с ума! Я сейчас! Вы – неотрывно! Неотлучно! Он выскочил в коридор.
Матрёна Ивановна с достоинством кивнула. Концевич преспокойно пошёл на выход. Этот молодой человек прежде всего взял за правило постулат о непринятии близко к сердцу чужих страданий. Кравченко остался при девочке. Его мучила мысль, и мысль эта была во спасение Сонечки, но в отрицание всех современных норм и правил. Он не мог решиться. Не потому, что боялся последствий для себя. Владимир Сергеевич был человеком бесстрашным. Его разрывали сомнения на предмет исхода спасительного метода для маленькой пациентки, ибо метод сей мог оказаться как чудесно исцеляющим, так и смертельным.
Хохлов первым делом позвонил в дом сестры. Жена его находилась там же.
– Да-да, нашлась! Живая!
Профессор болезненно скривился. В трубке слышна была женская суета, перед которой он обессилевал. «Живая!» – это не ложь. Но он леденел перед необходимостью разъяснять подробности. Он немного отодвинул трубку от уха. Следовало прервать поток слов.
– Не могу привезти домой! Надо понаблюдать! – сурово сказал он. Но тут же его лицо изменилось, и профессор стал похож на перепуганного мальчика. – Нет-нет-нет! – заголосил он в трубку. – Ни в коем случае, о чём ты думаешь?! Лидочку в её состоянии сюда нельзя! Не смей! Настойки опия ей в чай! Почему до сих пор не сообразила? – раскричался он, и это вернуло его в норму. – Всё! Сидеть при Лиде неотлучно! Я сообщу!
Он с силой бросил трубку и, вновь подняв её, принялся яростно вращать ручкой.
– Немедленно соедините с домом купца Белозерского! – заорал он на неповинную барышню так, будто она явилась на показательный экзамен по анатомии, не имея ни малейшего понятия о том, что такое остеология.
Глава VIII
Ввеликолепной дубовой столовой особняка Белозерских ужин подходил к концу. Василий Андреевич зорко следил за тем, чтобы всё было в соответствии с буквой этикета. И хотя Вера Игнатьевна иногда нарушала эту букву, на неё он не сердился. Ибо и старый лакей вслед за старшим хозяином был очарован княгиней и про себя именовал её не иначе, как «белокурой бестией». Вслух бы он никогда не позволил себе такого. Да и труд Ницше «К генеалогии морали. Полемическое сочинение», вышедший в 1887 году и, конечно же, прочитанный Василием Андреевичем, он находил пошлым абсолютом беспредметного словоблудия. Но die Blonde Bestie запало в душу, ибо отсылало к первобытным немецким варварам с мощными витальными инстинктами, скитающимися в поисках добычи и победы. Ницше считал их первыми аристократами. Василий Андреевич не мог с ним не согласиться, так как сам был поклонником норманизма и вслед за Карамзиным, опиравшимся на серьёзные исторические источники, полагал, что народ-племя русь происходит из Скандинавии.
Василий Андреевич изучил множество работ по варяжскому вопросу, но если он был не согласен с Ломоносовым или Тредиаковским, то даже возрази они ему самолично, при всём уважении он бы не разделил их точку зрения. Так что, называя про себя Веру белокурой бестией, Василий Андреевич всего лишь утверждал очевидное: она белокура, она русская, она аристократка. Львица! Хотя слишком придирчивые книжные черви могли бы возразить, что лев по латыни всё-таки flava bestia, а вовсе не blond и что зануда Ницше крайне нетщателен в фонтане чрезмерной словоохотливости, ведь он прежде всего филолог, а в философы себя самоназначил! На что Василий Андреевич возразил бы, что несмотря на то, что ему лично не нравится Ницше, оный вовсе не случайно и не по небрежению изменил слова. Зануда-немец именно что намеренно и довольно изящно слил воедино льва с представителями высшей расы. К счастью, с Василием Андреевичем никто не вступал ни в философические, ни в филологические, ни в исторические баталии.
– Вы понимаете, что ваш мальчик нарушает Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, играясь в доктора на дому? – обратилась Вера Игнатьевна к хозяину дома, игнорируя присутствие Александра Николаевича.
Василий Андреевич внутренне сгруппировался. Это был больной вопрос. Прежде всего для него самого, потому что Сашку он любил как сына. Белокурая бестия рискует, даже ей этого не спустят.
– Я не мальчик! И я – не играюсь! – обиженно воскликнул Сашенька.
На него никто не обращал ни малейшего внимания. Николай Александрович и Вера Игнатьевна буравили друг друга жёсткими взглядами. Вера не отводила взор, не выпуская из рук столовый нож, который уже следовало положить на тарелку. Ещё и провёртывая его в ладони эдак залихватски! Будь это не княгиня Данзайр, у Василия Андреевича начался бы приступ мигрени. Но ей можно всё, он это покорно принял.
– Понимаю! – холодно ответил Николай Александрович.
Положив нож, Вера встала, самостоятельно отодвинув стул, подошла к Николаю Александровичу и запросто поцеловала его в щёку. Тот расцвёл, как деревенский хулиган, впервые сорвавший поцелуй у первой красавицы.
– Вы – замечательный отец!
Вера Игнатьевна вернулась на место.
– Я – взрослый мужчина! Я – врач! Я – хирург! – надрывался Саша.
Василию Андреевичу было бы немного жаль своего питомца, кабы ни было так смешно. Чего, разумеется, ни в коем случае нельзя было показывать.
– То есть нам сегодня оказала честь та самая Данзайр! Женщина-легенда! Председатель общества врачей передовых дворянских отрядов! Сяочиньтидзы, Гудзяодзы, Фушинские копи, медаль «За усердие» на Аннинской ленте, на Георгиевской – «За храбрость»! – Николая Александровича вдруг понесло в натуральном купеческом угаре.
– Десерт будет? – прервала поток Вера Игнатьевна.
Хозяин подскочил со стула, уронив салфетку, и тут уж Василий Андреевич не мог его винить. Это был коронный выход купца.
– Вера Игнатьевна! Вы в доме Белозерских! Лучшие десерты империи! Василий Андреевич!
Он за локоток потащил дворецкого на выход, потому как Василий Андреевич старался всё-таки сохранять степенность хода. А у хозяина так свербело, что он пытался сорваться на бег. Надо сохранять достоинство! Тем более всё уже готово к спектаклю, разве что костюм надеть.
– Мы мигом! – обернулся старший Белозерский от дверей и подмигнул Вере, как мальчишка.
Вера и Александр остались вдвоём.
– В голове не помещается! Данзайр! Сама судьба свела нас!
Она в ответ одарила его насмешливым взглядом. Поперхнувшись, Александр Николаевич решил изобразить внимательного молодого лекаря, обращающегося за наставлениями к человеку более опытному.
– Я только в начале пути. Мне не дали возможности получить таковой опыт…
Кажется, он снова сбивался не на ту ногу. Вера смотрела на него заинтересованно. Как сытая кошка на лабораторную мышь.
– Я не о том. Вы тоже так молоды…
– Не так! – вставила Вера ласкательно.
– Столько всего надо уметь! Столько чувствовать! Вера Игнатьевна! Я…
Он хотел выразить что-то горячее, важное, единственно возможное. Но вместо этого из его уст вылетела пошлейшая тирада, которая и студенту в аудитории непростительна:
– Скажите, какие книги нужно прочесть, чтобы стать хорошим врачом? Я глотаю всё подряд, но в океане без опытного штурмана…
– Вы читали сочинение господина Вересаева? – колко перебила Вера.
– Да-да, конечно, мы выписываем «Мир Божий», как только стали выходить, так и прочитал. Но этот так называемый доктор опорочил своими непозволительными записками…
– Этот великолепный человек прошёл Русско-японскую войну! – наотмашь рубанула княгиня. – Не дискредитируйте себя, слепо доверяясь чужим поверхностным мнениям. Ничего и никого он не порочил, а написал правду! Но я спрашивала не поэтому. Читай вы внимательнее труд Викентия Викентьевича, вы бы знали, что я вам порекомендую.
– Что? – опешил Саша.
– «Дон-Кихота». Это очень хорошая книга. Для любого врача.
Нарастающий темпом и накалом диалог был прерван вернувшимися хозяином дома и его верным оруженосцем.
Николай Александрович был торжественно великолепен: в белоснежном двубортном поварском кителе, чистоты снежных вершин фартуке, шейном платке и высоком колпаке. Теперь не только на Василии Андреевиче, но и на нём были белые перчатки. Хозяин сам вкатил передвижной столик-поднос с установленной на нём газовой горелкой, верный слуга был снабжён идентичным – всякой необходимой утварью и продуктами.
– Любимое папино представление! – шепнул Вере Игнатьевне Александр Николаевич.
Вроде и тон его был шутлив, и пытался он казаться взрослым, но Саша смотрел на отца с обожанием, с детским восторгом, замирая, будто в ожидании чуда. Видно, не только старшему Белозерскому сие представление было любо.
Хозяин установил на огонь сковороду.
– Василий Андреевич!
Тут же на деревянном подносе материализовались слезящееся сливочное масло и нож. Мастерски отмахнув невесомый фрагмент субстанции, Николай Александрович едва уловимым мановением руки отправил его на раскалённую поверхность. Поднос немедля уплыл, и на его месте тотчас показался другой, с разделёнными на половинки абрикосами.
– Маньчжурский дикий абрикос! Твёрдой острой зрелости! – возвестил шеф-повар и ловко послал его в растопленное масло.
– Коричневый тростниковый гранулированный сахар и никакой иной!
Василий явил сахар. Обсыпав им шипящие промасленные абрикосы, Николай Александрович легко поворошил их деревянной лопаткой, поданной Василием так вовремя и так справно, как подаёт хирургу инструментарий давно сработавшаяся с ним, старая, проверенная операционная сестра милосердия. Вера Игнатьевна, увлёкшаяся действом, с детским восторгом, каковой изредка случается со взрослыми, много повидавшими людьми, только на Рождество или на Пасху, искренне ахнула:
– Какая слаженная бригада!
Александр Николаевич так возгордился, будто не папа, а он сам сейчас творил волшебство кулинарии. Но, опомнившись, он эдак ласково махнул рукой и молвил, стараясь, чтобы не звучало слишком влюблённо:
– Папаша совершенно одержимы!
Продегустировав аромат и сделав оперно-утрированную маску: «Чего же не хватает?», – Николай Александрович воскликнул:
– Имбирь!
В то же мгновение с поданного подноса смёл тончайшие пластинки заморского корня туда же, в сковороду. И легчайшими движениями перетряхнул.
– Добавляет неуловимой лимонной горечи, без которой жизнь – тщета и суесловие!
Аромат доходчиво подтверждал его слова.
– Если эдемский сад существует, пусть в нём пахнет именно так! – шепнула Вера Саше, потому что в такие мгновения невозможно не поделиться восхищением с ближним своим.
– Папа сегодня в необычайном ударе! Я бы сказал: в двух шагах от угара.
– Фламбируем! – как раз воскликнул отец.
Василий подал откупоренную бутылку коньяка, следом полуоткрытый коробок спичек. Оросив десерт лучшей марочной продукцией Appellation d’Origine Contrle, хозяин чиркнул спичкой, и поверхность сказочного озера запылала. Княгиня не смогла удержаться от аплодисментов и возгласа:
– Высший шик…
– … кавалергарда – отсутствие всякого шика! – подхватил старший Белозерский и, нарочито потупившись, моментально загасил пламя, едва коснувшись его крышкой.
На столике Василия, на подносе, уже стояла хрустальная креманка мальцовского завода с белоснежным мороженым великолепной консистенции. Николай Александрович щедро облил его абрикосовым соусом, не пролив ни капли, и присовокупил несколько абрикосовых половинок. Василий Андреевич торжественно преподнёс десерт Вере.
– Немедленно! Пока лёд и пламень не сошлись! – разразился громовым раскатом Николай Александрович и ревниво напрягся, с фанатичной настороженностью ожидая вынесения вердикта.
Княгиня попробовала и изобразила высшую степень блаженства, ничуть не лукавя.
– Это выше всяких похвал! Это лучше всего, что я пробовала! «Везувий на Монблане», поданный мне в Италии, просто ничто перед вашим шедевром!
Старший Белозерский получил, что хотел. Он представлял сейчас собою смесь куда более насыщенную и противоречивую, нежеливаниль и корица, ром и сливки, жгучий перец и мята душистая. Он был размерен в огне страсти, гордился и умилялся, наблюдая, как блаженная нега проявляется на Верином лице.
– А мне? – подал голос сынишка, о котором все, признаться, вовсе позабыли.
– И мне добавки! – потребовала Вера.
Василий подал.
– Фирменный пломбир Белозерского сыновей с карамелизированными абрикосами! – объявил Александр Николаевич, сняв изрядную пробу.
– Этот десерт – имя собственное. «Абрикосов»! Белозерского здесь нет! – торжественно объявил Николай Александрович, получавший, казалось, не меньшее удовольствие от наблюдения, чем Вера и Саша – от поглощения.
Вероятно, это и есть высшая услада творца – наслаждение востребованностью творения рук своих. Николай Александрович не был исключительно администратором дела пращуров, экономистом, финансистом и управляющим. Он любил свою кондитерскую империю, потому что вслед за предшественниками созидал её собственными руками не только метафорически, но и самым древним и проверенным способом – буквально.
В дверях столовой появилась встревоженная горничная. Василий Андреевич шагнул к ней, и та зашептала ему на ухо.
– Мне нельзя сказать?! – возмутился хозяин.
Горничная никак не отреагировала, преданно уставившись на дворецкого. Кивком тот отпустил её, и она с облегчением упорхнула.
– Видали, княгиня? – призвал Николай Александрович в свидетельницы Веру, окончательно завоевавшую его симпатию и доверие истовой увлечённостью десертом. – Завёл порядки, держиморда! Я для них прозрачный! Василий!
– Александр Николаевич! Из госпиталя! Срочно! – таким зычным голосом объявил Василий Андреевич, что все невольно вздрогнули.
– Господи, чего ж ты так орёшь! – выдохнул Николай Александрович.
– Профессор Хохлов изволили гневаться в не слишком присущих ему крепких выражениях. Велели прибыть безотлагательно.
В глазах отца мелькнули лукавые огоньки. Он был явно не против спровадить сына из дома.
– Ты ещё здесь?! – уставился он на младшего. – Начальство требует. Пошёл! Василий Андреевич! – мягко, уже не выговаривая «держиморде» за учреждённую в доме неукоснительную «вертикаль власти», обратился хозяин к слуге: – Кофе нам с княгиней подай в курительную.
Александр Николаевич поднялся и глядел на папашу в растерянности.
– Дуй в свою лавку на всех парах! – припечатал родитель.
Саша направился на выход, и старшему стоило немалых усилий не придать ему ускорения старым дедовским способом. Василий Андреевич предупредительно распахнул двери и вышел следом, прикрыв за собой.
Оставшись наедине с княгиней, Николай Александрович вдруг пришёл в давно забытое юношеское смущение. Что было уж совсем нелепо, в особенности после его триумфа. Он совсем забыл, как вести себя с женщинами не только красивыми, но и умными, не только умными, но и с характером. В общем, не с теми, что за деньги. И не с теми кутящими барыньками, стоящими на самой границе между светом и полусветом.
Николай Александрович, признаться, жуировал в Петербурге по разным увеселительным садам, изредка, хотя и щедро, вознаграждая себя за безысходность вдовства, но это были дела всё исключительно плотские. Девушек и почтенных молодых вдов он бежал, и бежал часто, потому как завидный был жених, и многие годы на него велась охота, и жестокая. Но интереса к насаждаемым на ярмарке невест он не испытывал и не то что сочетаться браком, а даже и ближе знакомство водить не имел желания. Не вызывали ни чувств, ни даже волнения. Сходиться, не любя, считал глупым и преступным. Да и здесь ни о какой любви речи, бог свидетель, быть не могло ни сейчас, ни впредь! Но как с женщиной, с великолепной женщиной, вызывающей восхищение, вести себя на равных, совсем позабыл. Порастряс себя, голубчик, порядком! Как же это, чёрт?!
Заметив, что Вера Игнатьевна окончила трапезу и смотрит на него прямо и открыто, бросая спасательный круг этикета, он подошёл и взялся за спинку стула.
– Прошу вас!
Она поднялась, глянув на него с понимающей улыбкой.
– Я тоже подзабыла, как ведут себя дамы и господа, Николай Александрович. На войне всё больше товарищи, в лазарете – раненые. Давайте ошибаться вместе!
– А давайте!
Он вдруг опомнился, что в поварском колпаке. Быстро сдёрнул его и взъерошил густые волосы. Этот естественный жест как-то запросто всё вернул на круги своя. И они отправились в курительную.
Глава IX
На заднем дворе клиники на ящике восседал госпитальный извозчик. Чего греха таить, он принял хлебного вина, потому что душа у Ивана Ильича болела. Не имея ни малейшего понятия о фантомной боли, он знал некоторые механизмы её облегчения. Словосочетание «эмпирически познаваемое» он, пожалуй, счёл бы скверным, а вот что забубнить иное страдание можно – это знал давно и крепко. Сейчас разговаривать было не с кем, но ему было не привыкать вести долгие беседы с Клюквой, а коли скотина заслуженно отдыхает, так и с самим собой. А уж если русский человек выпьет, то о чём погутарить с альтер-эго – завсегда найдёт. Иван Ильич вспоминал былое, дабы отвлечься от дум.
– Был я ванькой! – загнул он мизинец, пожевав губами. – Был и лихачом! – широко раскинул руки, забыв, что решил провести строгий учёт на пальцах. – Теперь вроде как живейный. При государственной должности! – извозчик высоко поднял указательный перст. – Городовому мзду – не обязан! – скрутил он кукиш.
Скорым шагом подошёл ординатор Белозерский. Был он в немалом волнении, кое старался скрыть.
– Всё рассуждаешь, Иван Ильич?
– Как же человеку без этого?! – с готовностью откликнулся извозчик. – Сколько нонче лаковая пролётка с ветерком дерёт?