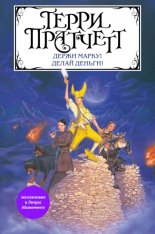Неутолимая любознательность. Как я стал ученым Докинз Ричард

Именно от Артура я узнал незабываемую историю о Галилее, красноречиво показывающую, что нового внесла в науку эпоха Возрождения. Однажды Галилей показывал одному образованному человеку в телескоп некое астрономическое явление, и его благородный гость сказал примерно следующее: “Сударь, то, что вы мне показали в свой телескоп, настолько убедительно, что, если бы Аристотель определенно не утверждал обратное, я бы вам поверил”. Сегодня нас поражает (или должно поражать), когда кто-то отвергает данные реальных наблюдений или экспериментов в пользу того, что голословно утверждалось признанным авторитетом. Но в том-то и соль. Именно это и изменилось в науке.
Консультации для нас, зоологов, в отличие от студентов, специализировавшихся на истории, английском или юриспруденции, почти никогда не проходили в стенах собственного колледжа, как, впрочем, и в стенах других колледжей. Почти на все консультации мы ходили на отделение зоологии, служившее своеобразным придатком к университетскому музею и разбросанное по верхним и нижним помещениям музейного здания. Вот эта сеть коридоров и комнат, как я уже говорил, и была для меня центром моей студенческой жизни, совсем не похожей на жизнь тех студентов, которые специализировались по гуманитарным предметам (для них центром жизни был колледж). Работающие в колледжах наставники старой школы считают консультации, проходящие вне стен колледжа, какими-то второсортными. Мой опыт говорит о совершенно обратном. Каждый семестр мне назначали нового наставника, и это действовало на меня ободряюще по очевидным причинам, которые едва ли нужно излагать.
В Баллиоле у меня были и друзья, большинство из которых специализировались именно на гуманитарных предметах. На одном этаже со мной жили Николас Тайак (который позже оказался моим соседом по комнате, а впоследствии стал профессором истории в Университетском колледже Лондона) и Алан Райан (который стал выдающимся политологом и директором Нового колледжа). Так получилось, что среди моих друзей было несколько постоянных участников театральных постановок нашего колледжа, в связи с чем я повидал немало любительских спектаклей. Одним из самых сильных театральных впечатлений за всю мою жизнь был поставленный Драматическим обществом Баллиол-колледжа спектакль по пьесе Роберта Ардри “Тень героев” о Венгерском восстании 1956 года. Не столь серьезными были постановки “Актеров Баллиола” – гастролирующей труппы, каждый год ставившей пародийный спектакль по одной из пьес Аристофана. Если не ошибаюсь, в двадцатых годах, когда эта труппа была организована, она ставила Аристофана как есть, и даже на древнегреческом. Но традиция изменилась, и, когда учился я, произведения Аристофана было принято переиначивать, превращая их в современную политическую сатиру. Главными звездами “Актеров Баллиола” в мое время были Питер Сноу, который впоследствии стал известным телеведущим, и Джон Элбери – остроумный и талантливый представитель знаменитой театральной династии, позднее ставший главой оксфордского Университетского колледжа. Джон Элбери великолепно изображал генерала Монтгомери (“Как сказав Господь Бог – и я с ним согвасен…”), а Питер Сноу столь же ярко – генерала де Голля (“La gloire… la victoire… l’histoire… et… la plume… de ma tante”[84]). Джереми Гулду почти не понадобилось играть, чтобы изобразить, как Гарольд Макмиллан поет: “На день рожденья свой я многих приглашу… / Орденоносных лиц…” То было время заката Британской империи, и “Актеры Баллиола” почтили ее память очаровательной песенкой, которую написал, вероятно, Джон Элбери. Я помню только пять строчек:
- Заходит Феб с Венерой парой
- От Адена до Занзибара,
- И распадается Империя,
- Сама судьба стучится в двери ей,
- И человек твердит: “Не верю я…”
Те же самые театралы ввели меня в Викторианское общество, с собраниями которого у меня связаны одни из самых счастливых воспоминаний о Баллиол-колледже. Мы собирались один или два раза в семестр и под аккомпанемент фортепиано пели, потягивая портвейн, песенки из репертуара мюзик-холлов. Ведущий по одному вызывал солистов, каждый из которых исполнял свои излюбленные песни, а мы все хором подпевали. В основном это были развеселые песенки (“Откуда шляпа-то у вас?”, “Хватит с вас уже, миссис Мур”, “Парень с Ланкашира”, “Я Генрих и притом Восьмой”, “Мой старик сказал: «Не отставай»”), время от времени перемежавшиеся сентиментальными и слезоточивыми, перед исполнением которых всем раздавали бумажные носовые платочки (“Как птичка в клетке она золотой”, “Серебро в моих кудрях”), а завершался вечер ура-патриотическими произведениями (“Солдаты королевы”, “Мы не хотели драться, но если уж пришлось… И русским не видать Константинополь”). Если и есть что-то, что мне очень хотелось бы пережить вновь из моей жизни в Баллиоле, так это одно из таких собраний Викторианского общества.
Много лет спустя мне доводилось испытывать подобные ощущения на традиционных пятничных вечерах песен в пабе “Киллингвортский змок” в Вуттоне – деревушке под самым Оксфордом. Меня привела туда моя вторая жена Ив, мать моей любимой дочери Джульет. Там исполняли британский фолк, а не репертуар мюзик-холлов, и пили пиво, а не портвейн, но в самой атмосфере было что-то от атмосферы собраний Викторианского общества: теплое праздничное настроение, подогреваемое не столько выпивкой, сколько музыкой и хорошей компанией. Солистами и аккомпаниаторами (игравшими на гитаре, гармошке и дудочке) становились попеременно то одна, то другая из четырех или пяти групп постоянных исполнителей. Все они были по-своему хороши, и у всех был свой особый репертуар, известный постоянным хористам, в том числе нам с Ив. Исполнение некоторых песен предполагало весьма стильное пение каноном или дискантом. Кроме того, как и в Викторианском обществе, хор был всегда дисциплинирован и умел петь в быстром темпе, совсем не так, как обычно бывает, когда подвыпившие посетители похоронными голосами затягивают “Песню на закате…” Самым заметным хористам Ив дала прозвища, которыми мы называли их между собой: Две Пинты (крупный молодой бородач, певший басом таким же могучим, как и его руки, в которых он приносил музыкантам сазу по нескольку кружек пива), Папаша (добродушный дед, обладавший приятным тенором и иногда по окончании выступлений основных солистов вызывавшийся спеть соло песню “Кто убил Зарянку”), Мейнард Смит (весельчак в очках, прозванный так за сходство с великим ученым Джоном Мейнардом Смитом), Невероятный Халк (один из немногих, кто пел фальшиво) и другие.
Но вернемся в Баллиол. В те годы мы с друзьями из колледжа нередко ходили в кино, обычно в кинотеатр “Скла” на Уолтон-стрит, на интеллектуальные фильмы Ингмара Бергмана, Жана Кокто, Анджея Вайды и других континентальных режиссеров. Особенно сильное впечатление на меня произвели мрачные черно-белые образы из фильмов Бергмана “Земляничная поляна” и “Седьмая печать” и лирические любовные сцены из “Летней интерлюдии” – до трагического поворота сюжета. Такого рода фильмы, а также поэзия, с которой меня познакомил отец (стихи Руперта Брука, Альфреда Эдварда Хаусмана и особенно раннего Уильяма Батлера Йейтса), привели меня на путь романтических фантазий и витания в облаках, вплоть до отрыва от реальности. Как и многие наивные девятнадцатилетние юноши, я влюбился, но не столько в какую-то конкретную девушку, сколько в саму идею влюбленности. Несмотря на то что любимая девушка у меня была, причем шведка, что перекликалось с моими навеянными Бергманом фантазиями, прежде всего я любил саму идею любви и свою роль трагического Ромео. Я до смешного долго тосковал по своей возлюбленной после того, как она вернулась в Швецию и наверняка давно забыла свою короткую летнюю интерлюдию со мной.
Но девственности я лишился намного позже, уже в довольно солидном возрасте – в 22 года. Это было в Лондоне, в съемной комнате одной очаровательной виолончелистки, которая сняла юбку, чтобы сыграть для меня (на виолончели невозможно играть в узкой юбке), а затем сняла и все остальное. Теперь модно принижать свой первый подобный опыт, но я не стану этого делать. Все было замечательно, и что мне особенно запомнилось – это чувство какого-то атавистического удовлетворения: “Да, конечно, именно так это и должно было ощущаться. Так это и должно было быть от начала времен”. Биологу нетрудно объяснить, почему эволюция нервной системы сделала ощущения, связанные с половым актом, одними из безусловно приятнейших, которые только возможны в жизни. Но объяснить не значит сделать их хоть сколько-нибудь менее замечательными, точно так же, как Ньютон, расплетя радугу на цвета спектра, нисколько не умалил ее великолепия. И не важно, сколько радуг нам доведется увидеть за свою жизнь: великолепие радуги каждый раз поражает нас вновь, и наше сердце каждый раз начинает сильнее биться в груди. Но больше я ничего на эту интимную тему не скажу и не выдам ничьих секретов. Эта автобиография не из тех, где можно найти пикантные подробности.
Вордсворт почему-то никогда не был среди моих любимых поэтов, но мне бы хотелось процитировать здесь несколько отрывков из тех стихов других авторов, которые я по-настоящему любил в молодости. Эти строки сыграли важную роль в том, что я стал тем, кем стал, и я знал их наизусть (а некоторые помню до сих пор).
- Взбежав на светлый холм, мы пали ниц,
- Смеясь, целуя милую траву.
- Ты молвила: “Ты жив, и я живу.
- Не станет нас, но будет пенье птиц.
- Хоть старость впереди…” – “Любовь моя,
- Пусть мы умрем, и пусть не будет нас,
- Свечам гореть в других, – ответил я. –
- И вот он, рай, он обретен сейчас!”
- “Мы соль земли! Для нас цветут сады.
- Мы верим только в жизнь! – сказали мы. –
- Сойдем, не дрогнув, в царство вечной тьмы
- В венках из роз!” Как были мы горды,
- Смеясь сознанью смелой правоты! –
- И вдруг, заплакав, отвернулась ты.
Р. Брук
- Не говори мне, как зовется
- Мотив, что вновь играет фея,
- Когда сентябрь уж отступает,
- Когда боярышник белеет,
- Ведь я и сам прекрасно знаю,
- Ведь мы давно знакомы с нею.
А. Э. Хаусман
- Мне снилось: стоял я в долине, где вьется ручей,
- И пары влюбленных всё шли предо мной в стороне.
- Любовь, что утратил я, вышла из леса ко мне,
- И свет был притушен ее приоткрытых очей.
- В слезах я взмолился: “О женщины! пусть никогда
- Не смотрит в глаза вам влюбленный, не ведает их,
- Не то красоты не найти ему в лицах других,
- Пока всех на свете ручьев не иссякнет вода”.
У. Б. Йейтс
- Сердце к сердцу стояли над пенною бездной.
- Он шептал: “Розы вянут с приходом зимы,
- Но цветы этих волн никогда не исчезнут,
- И пусть любящий слабо – умрет, но не мы!”
- И все тот же пел ветер, и волны белели,
- И не все лепестки еще осень смела,
- Но в устах, что шептали, в очах, что горели,
- Любовь умерла.
А. Ч. Суинберн
У моего отца был толстый скоросшиватель с коллекцией любимых стихов, переписанных им от руки. Эта папина личная антология, которая по-прежнему хранится у моей матери, оказала немалое влияние на мои собственные поэтические вкусы. Я был очень тронут, когда узнал, что начало этой коллекции было положено письмами, которые он посылал маме из Кембриджа, где учился в магистратуре, когда им обоим было немногим больше 20 лет. К письмам прилагались стихотворения, и мама их все сохранила.
Но вернемся к моей собственной учебе в колледже. Думая о будущем, я, кажется, никогда всерьез не рассматривал возможность заняться фермерством вместе с отцом. Мне чем дальше, тем больше хотелось остаться в Оксфорде и заниматься наукой в магистратуре. Я смутно представлял себе, что буду делать после этого и даже какими именно исследованиями мне хотелось бы заниматься. Питер Брунет предложил мне работу по биохимии. Я с благодарностью согласился и приступил, хотя и без особого энтузиазма, к изучению соответствующей литературы. Но вскоре я стал ходить на консультации к Нико Тинбергену, и это навсегда изменило мою жизнь. Я нашел для себя науку, в которой мне было над чем подумать, науку, имеющую философское значение. Судя по всему, мне удалось произвести впечатление на Нико: в конце семестра в своем отзыве для колледжа он назвал меня лучшим студентом, которого ему доводилось консультировать (хотя это не особенно громкая похвала, учитывая, что он консультировал как наставник лишь немногих студентов). Так или иначе, его отзыв помог мне набраться смелости и спросить, не возьмет ли он меня к себе в магистратуру, и, к моей несказанной радости, он согласился. Мое будущее было обеспечено – по крайней мере на следующие три года. Да и на всю оставшуюся жизнь, как я теперь понимаю.
Обучение ремеслу
Время студенческой научной работы связано с идиллическими воспоминаниями едва ли не у всех ученых. Но среда, в которой ведется такая работа, может быть в разной степени идиллической, и в этом отношении группа Тинбергена начала шестидесятых была, по-моему, особенно замечательна. Ханс Круук хорошо передал ее атмосферу в своей биографии Нико, написанной с любовью, но без идеализации[85]. Мы с Хансом пришли в группу уже после ее “хардкорного” периода, который описывают Десмонд Моррис, Обри Мэннинг и другие, но мне кажется, что и наше время имело с тем периодом немало общего, хотя мы и не так часто общались с самим Нико, потому что его кабинет располагался в главном здании отделения зоологии (в здании Университетского музея на Паркс-роуд), а вся остальная группа работала за полмили от него – в пристройке к дому номер 13 по Бевингтон-роуд, высокому узкому строению на севере Оксфорда.
На Бевингтон-роуд главным был Майк Каллен, который стал, пожалуй, важнейшим учителем в моей жизни. Я думаю, что большинство молодых ученых, работавших одновременно со мной в группе исследований поведения животных, могли бы сказать о себе то же самое. Чтобы попытаться объяснить, в каком долгу мы все перед этимзамечательным человеком, лучше всего процитировать здесь окончание речи, которую я произнес на панихиде по нему в оксфордском Уодхэм-колледже в 2001 году.
Сам он опубликовал не так уж много статей, но работал необычайно усердно и как преподаватель, и как ученый. Он был, вероятно, самым востребованным наставником на всем отделении зоологии. Все остальное время (которого ему всегда не хватало, хотя его рабочий день был чуть ли не бесконечен) он посвящал научной работе. Но это редко была его собственная работа. Все, кто его знал, могут рассказать об этом практически одинаково. Об этом же можно прочитать во всех его некрологах, где все описано очень похоже, что неудивительно.
Если у кого-то из нас возникали проблемы с собственными исследованиями, мы точно знали, к кому обращаться за помощью, и знали, что мы ее получим. Я помню все, как будто это было вчера. Разговор за обедом в тесной кухоньке на Бевингтон-роуд. Жилистый, задорный человек в красном свитере, немного согнувшийся, как закрученная пружина, заряженная энергией мысли, и иногда сосредоточенно покачивающийся взад-вперед. Проницательный взгляд человека, который понимает, чт ты хочешь сказать, еще до того, как ты успеешь вымолвить хоть слово. Задняя сторона конверта, которая помогала разобраться в проблеме, время от времени – скептический, насмешливый наклон бровей под взъерошенными волосами. Потом ему нужно было бежать (он всегда спешил), например на консультацию, и он хватал свою жестянку с печеньем за проволочные ручки и исчезал. Но на следующее утро у Майка уже был готов ответ на твой вопрос, записанный на паре страниц его характерными маленькими буквами, часто с формулами, диаграммами, ссылкой на ключевой литературный источник, а также иногда стихами его собственного сочинения или отрывком на латыни или древнегреческом. Всегда со словами ободрения.
Мы были ему благодарны, но благодарны недостаточно. Если бы мы об этом задумывались, нам должно было приходить в голову: “Да ведь ему, наверное, весь вечер пришлось потратить на ту математическую модель из моей работы! И ведь он помогает не только мне. Все, кто работает на Бевингтон-роуд, могут в равной степени рассчитывать на его помощь, отнюдь не только его собственные студенты”. Официально моим научным руководителем был Нико, а не Майк. Но Майк взял меня под свою опеку, неофициальную и неоплачиваемую, когда для Нико в моей работе стало слишком много математики. Когда я приступил к написанию диссертации, именно Майк Каллен читал ее, критиковал и помогал мне оттачивать каждую строчку. Причем одновременно он делал то же самое и для других студентов, которыми руководил официально.
Нам, вообще-то, следовало бы поинтересоваться, откуда ему взять время для нормальной семейной жизни, для собственных исследований. Неудивительно, что он так редко публиковался. Неудивительно, что он так и не написал свою книгу о коммуникации животных, появления которой так долго ждали. По-хорошему, он должен был ставить свою фамилию среди авторов едва ли не каждой из тех сотен статей, что вышли из дома номер 13 по Бевингтон-роуд в тот золотой период. Но почти во всех этих статьях его имя упоминалось только в разделе “Благодарности”…
Успех, от которого зависит карьера и признание ученого, принято оценивать по его публикациям. По этому показателю успехи Майка были скромны. Но если бы он соглашался значиться соавтором работ своих студентов, как в порядке вещей делают современные научные руководители с работами, в которые они вносят намного меньший вклад, Майк считался бы очень успешным ученым по общепринятым стандартам и получил бы соответствующее признание. Но он был потрясающе успешным ученым в намного более глубоком и верном смысле. По-моему, ясно, какого рода ученые по-настоящему заслуживают нашего восхищения.
К несчастью для Оксфорда, он уехал в Австралию. Через много лет я приехал в Мельбурн в качестве приглашенного лектора и присутствовал на устроенном по этому случаю званом ужине. Я стоял с бокалом в руке и имел, наверное, довольно чопорный вид. Вдруг в комнату вбежал человек, которого трудно было не узнать, в спешке, как и всегда. Все присутствующие были в костюмах, но не этот мой старый знакомый. Я как будто вернулся в прошлое. Он ничуть не изменился, и хотя ему было уже, должно быть, далеко за шестьдесят, казалось, что ему нет и сорока, так все в нем светилось задорным энтузиазмом, даже его красный свитер. На следующий день он повез меня на побережье, чтобы показать своих любимых пингвинов, с остановкой по пути, чтобы посмотреть на гигантских австралийских дождевых червей, достигающих в длину нескольких метров. Мы разговаривали до глубокой ночи, причем, насколько я помню, не о старых временах и старых друзьях и, уж конечно, не об амбициях, добывании грантов и публикациях в журнале “Нейчур”, а о новых исследованиях и новых идеях. Этот день, день нашей последней встречи, незабываем.
Наверное, мы знаем и других ученых, таких же интеллектуальных, как Майк Каллен, хотя их не так уж много. Мы знаем и других ученых, так же, как он, всегда готовых прийти на помощь, они тоже наперечет. Но я ответственно заявляю, что мы не знаем никого, кто мог дать так много и при этом давал так щедро.
Я почти плакал, когда говорил это в церкви Уодхэм-колледжа, и почти плакал сейчас, когда перечитал это 12 лет спустя.
Не знаю, был ли дух товарищества, царивший в доме номер 13 по Бевингтон-роуд, явлением исключительным, или нечто подобное свойственно всем группам, в которых студенты магистратуры занимаются научной работой. Подозреваю, что когда такая группа базируется в отдельной пристройке, а не в большом университетском здании, это способствует общей сплоченности. Я думаю, что впоследствии, когда наша группа (вместе с другими подобными отщепенцами, такими как Институт полевой орнитологии имени Эдварда Грея, которым руководил Дэвид Лэк, и Бюро популяций животных Чарльза Элтона) переехала в свое нынешнее жуткое бетонное здание на Саут-Паркс-роуд, что-то было утрачено. Хотя, быть может, мне так кажется потому, что я стал тогда старше и у меня появилось больше дел. Как бы там ни было, я дорожу памятью о Бевингтон-роуд и своих тогдашних товарищах, собиравшихся вместе на вечерних пятничных семинарах, или в столовой, или за бильярдным столом в пабе “Роза и корона”, – таких, как Роберт Маш, чье заразительное чувство юмора я вспоминал впоследствии в своем предисловии к его книге “Как содержать динозавров”[86]; куривший сигарету за сигаретой и пивший пинту за пинтой Дик Браун, про которого ходили неправдоподобные слухи о его религиозности; Хуан Делиус, чьи блестящие способности в сочетании с дикой эксцентричностью делали общение с ним неизменно увлекательным занятием; его сверхъестественно приятная жена Ута, у которой я брал уроки немецкого; высокий светловолосый голландец Ханс Круук, впоследствии написавший биографию Нико; шотландец Иэн Паттерсон; специалист по олушам Брайан Нельсон, которого я в течение первых шести месяцев знал только по загадочной записке на двери его кабинета: “Нельсон на скале Басс”; бородатый Клифф Хенти; будущий преемник Нико Дэвид Мак-Фарленд, который, хотя и работал на отделении психологии, был в некотором роде почетным членом нашей группы, потому что его жизнерадостная жена Джилл была научной ассистенткой Хуана и каждый день обедала вместе с мужем на Бевингтон-роуд; Вивьен Бензи, которая ввела в круг почетных членов группы, обедавших вместе с нами, веселых новозеландок Лин Маккехи и Энн Джеймисон; Лу Гурр, еще один улыбчивый новозеландец; Робин Лайли; общительный натуралист Майкл Робинсон; Майкл Хэнселл, который позже стал моим соседом по квартире; Моника Импековен, в соавторстве с которой я впоследствии написал статью; Мэриан Стэмп, на которой я женился; Хезер Маклэннахан, Роберт Мартин, Кен Уилз; Майкл Нортон-Гриффитс и Харви Кроуз, в дальнейшем занимавшиеся консалтингом в Кении; Джон Кребс, в соавторстве с которым были опубликованы три статьи; Иэн Дуглас-Гамильтон, вынужденный уехать из Африки, где он посвятил свою диссертацию слонам; Джейми Смит, с которым я написал статью об оптимальной стратегии добывания пищи усиниц; Тим Холлидей, специалист по тритонам; Шон Нилл, ездивший на тщательно отремонтированной старой “лагонде” и рисовавший чудесные карикатуры; превосходный фотограф Лэри Шаффер, – и других, которых я здесь не упомянул, за что должен попросить прощения.
Главным событием каждой недели для группы Тинбергена был пятничный вечерний семинар. Эти семинары длились два часа, и часто окончание одного приходилось переносить на начало следующего, но время летело незаметно, потому что вместо обычного навевающего сон регламента, предписывающего в течение часа слушать одного докладчика, а в конце задавать вопросы, на наших семинарах было принято вести споры на протяжении всех двух часов. Нико задавал тон, прерывая докладчика едва ли не на первом же предложении: “Ja, ja, но что имеется в виду под тем-то и тем-то?” Это не особенно раздражало выступающих, потому что Нико всегда стремился внести ясность и его замечания обычно бывали уместны. Майк Каллен в своих ремарках демонстрировал больше проницательности и эрудиции, поэтому его вопросов докладчики и боялись больше. Другими важными и по-своему блестящими участниками этих семинаров были Хуан Делиус и Дэвид Мак-Фарленд, но и все мы едва ли не с самого первого дня не стеснялись вмешиваться в обсуждение. Нико поощрял нас к этому. Он настаивал на том, чтобы вопрос, на который мы стремились ответить в своей работе, был сформулирован предельно четко. Я помню, в каком был шоке, когда, приехав в поселок Мэдингли под Кембриджем, где работала группа наших коллег, услышал, как один из студентов описывает свою исследовательскую работу следующими словами: “Вот что я делаю…” Мне пришлось сдержать себя, чтобы не прервать его, подражая голосу Нико: “Ja, ja, но на какой же вопрос вы хотите ответить?” Много лет спустя я рассказывал об этом в Мэдингли, когда сам выступал там на семинаре в качестве докладчика. Несмотря на шуточное возмущение грозного интеллектуала Роберта Хайнда, харизматичного руководителя группы из Мэдингли и будущего главы кембриджского Сент-Джонс-колледжа, я отказался назвать имя того студента, не назову его и теперь.
Вопрос, поставленный передо мной Нико, был разновидностью вопроса, который часто обозначают избитой формулой “природа или воспитание?” (nature or nurture?), заимствованной из шекспировской “Бури”:
Черт, по рожденью черт. Его природы
Не воспитать[87].
Философы задавались этим вопросом не одно столетие. В какой степени наши знания заложены в нас от рождения, а в какой разум новорожденного представляет собой чистый лист, готовый к заполнению, как полагал Джон Локк?
Нико, как и Конрад Лоренц (два признанных основателя науки этологии), изначально принадлежал к той школе, которая придавала больше значения “природе” и меньше “воспитанию”. В своей самой знаменитой книге “Изучение инстинкта”[88], от многих положений которой он впоследствии открещивался, Нико использовал термин “инстинкт” в значении “врожденная форма поведения”, определяемая как “форма поведения, не меняющаяся под влиянием процессов научения”. Этологией называют биологическую науку о поведении животных. Этим предметом занимаются и представители некоторых направлений психологии, но они традиционно концентрируются на иных его аспектах. Психологи обычно ставили опыты с такими животными, как крысы, кролики или макаки, используя их в качестве модельных объектов для изучения человека, а этологов животные интересовали как таковые, а не как средство для исследования чего-либо другого. Поэтому этологи всегда занимались намного более широким кругом видов и концентрировались на поведении животных в их естественной среде обитания. Кроме того, как я уже сказал, этологи изначально придавали больше значения “врожденному” поведению, в то время как психологи больше интересовались обучением.
В пятидесятых годах исследованиями этологов начала интересоваться группа американских психологов. Одной из самых видных фигур среди них был Дэниэл Лерман – крупный человек и большой знаток как естествознания, так и психологии. Кроме того, он неплохо говорил по-немецки, благодаря чему стал играть роль своего рода моста между психологическим и этологическим подходами к поведению животных.
В 1953 году Лерман написал влиятельную статью с критикой традиционного этологического подхода. Он серьезно раскритиковал само понятие врожденного поведения – не потому, что считал любые формы поведения результатом научения (хотя некоторые психологи, на которых он ссылался, думали именно так), а потому, что врожденному поведению, как он полагал, в принципе нельзя дать строгое определение, так как нельзя придумать эксперимент, который позволил бы однозначно доказать врожденность той или иной формы поведения. Теоретически это явно мог бы сделать так называемый эксперимент по изучению депривации, суть которого состоит в следующем. Представим себе, что неким людям ничего не рассказывали о том, как заниматься сексом, и у них не было возможности наблюдать за половым поведением других видов и вообще хоть что-нибудь про это узнать. Смогут ли такие люди вступать в сексуальные отношения, когда им наконец представится такая возможность? Вопрос интересный, и что-то об этом, вероятно, могут поведать апокрифические рассказы, например о наивных молодых супругах викторианской эпохи, которых с детства ограждали от любых непристойностей. Но проводить такие эксперименты на людях нельзя, а на других животных можно.
Если с самого рождения содержать животное в условиях депривации, лишив его доступа к соответствующему опыту, а в итоге окажется, что оно тем не менее умеет вести себя “как следует”, соответствующую форму поведения определенно нужно будет признать заложенной от природы, врожденной, инстинктивной. Разве не так? Но Лерман возражал на это, что животное нельзя с самого рождения лишить всего (света, пищи, воздуха и т. д.), а значит, мы в принципе не можем установить, какая степень депривации нужна, чтобы доказать врожденность той или иной формы поведения.
Лерман и Лоренц в своем споре не удержались от перехода на личности. Лерман, у которого были еврейские корни, поймал Лоренца на том, что в его публикациях военных лет высказывались мысли, подозрительно близкие к идеологии нацизма. Лоренц, впервые встретившийся с Лерманом уже после выхода его критической статьи, сказал (приблизительно) следующее: “Исходя из того, что вы пишете, я думал, что вы, должно быть, маленький, жалкий, ничтожный человечек. Но теперь я вижу, что вы БОЛЬШОЙ человек [89], следовательно, мы можем стать друзьями”. Это предложение дружбы, впрочем, не остановило Лоренца, когда он попытался (как рассказывает Десмонд Моррис, сидевший с ним в одной машине) запугать Лермана, чуть не задавив его огромным американским автомобилем, на котором ездил в Париже.
Но вернемся к вопросу о роли природы и воспитания. Вот лишь один пример. Самцам камышовки-барсучка свойственна замысловатая песня, которую они умеют исполнять, даже если были выращены в изоляции и ни разу ее не слышали. Школа Лоренца и Тинбергена называла такое поведение врожденным. Но Лерман всегда подчеркивал сложность процессов развития и задавался вопросом, не участвовала ли в том или ином поведении какая-то не столь очевидная форма научения. Лерману было недостаточно узнать, что животное с рождения вырастили в условиях депривации. Для него вопрос заключался в том, чего именно животное лишили, то есть что это была за депривация.
Со времен публикации статьи Лермана этологи выяснили, что многие певчие птицы, в том числе камышовки-барсучки, действительно научаются правильно исполнять песню своего вида, прислушиваясь к собственным попыткам петь, повторяя то, что выходит хорошо, и отбрасывая то, что выходит плохо. Так что на самом деле это все-таки похоже на воспитание. Но на это Лоренц и Тинберген могли бы возразить: а откуда молодые самцы знают, что у них выходит хорошо, а что плохо? Уж эти-то “знания” (эталон правильного звучания песни своего вида) явно должны быть врожденными! Научение здесь сводится к тому, чтобы преобразовать песню, записанную в сенсорной системе головного мозга (врожденный эталон), в моторику (умение исполнять правильную песню).
Кстати, другие виды птиц, к примеру американская белоголовая зонотрихия, тоже учатся петь “методом проб и ошибок”, но все же не могут правильно освоить песню своего вида, если никогда ее не слышали. Молодая птица как будто записывает эту песню “на магнитофон”, а затем, когда учится петь, использует полученную запись в качестве эталона. Причем существуют и промежуточные варианты между такой “выученной” и “врожденной записью”.
Вот на это философское минное поле Нико Тинберген и выпустил меня в 1962 году. Мне кажется, он хотел откреститься от своей предполагаемой связи с Лоренцом и надеялся, что я помогу навести мосты между его группой и лагерем Лермана. Мои эксперименты были посвящены не тому, как поют певчие птицы, а тому, как клюют пищу цыплята. Таких экспериментов была целая серия, но я расскажу здесь только об одном.
Как только цыпленок появляется на свет из яйца, он сразу начинает клевать маленькие предметы, видимо, в поисках пищи. Но откуда цыплята знают, чт им клевать? Откуда они знают, какая пища им подходит? Одна крайность могла бы состоять в том, чтобы еще до того, как цыплята получат какой-либо опыт, у них в мозгу имелось заложенное в него от природы эталонное изображение пшеничного зерна. Но этот вариант неправдоподобен, особенно учитывая, что цыплята всеядны. Есть ли у зерен пшеницы, ячменя и проса, а также личинок мучных хрущаков и других жуков что-то общее, что отличало бы их от скучных и несъедобных меток и пятен? Да, есть. Прежде всего, они объемны.
Как отличить объемный объект от плоского? Это можно сделать, например, по распределению теней. Посмотрите на изображения лунных кратеров внизу этой страницы. Это два изображения одной и той же фотографии, только одно из них развернуто на 180°. Думаю, на одном из них вы видите выпуклые холмы с плоской вершиной, а на другом – вогнутые кратеры, а если перевернете книгу, то холмы и кратеры поменяются местами. Эта иллюзия известна уже давно. Она связана с нашим предвзятым представлением о том, откуда должен падать свет, то есть, по сути, о положении солнца. Выпуклые объекты обычно освещены со стороны солнца, которое чаще всего находится где-то сверху, и затенены с другой стороны. Поэтому выпуклый объект на перевернутой фотографии может показаться вогнутым, а вогнутый – выпуклым.
Солнце редко располагается непосредственно у нас над головой, но в целом свет обычно падает скорее сверху, чем снизу. Поэтому любой хищник, ищущий выпуклых жертв, может находить их, исходя из этого предположения о затенении. Что же касается жертв, участвующих вместе с хищником в эволюционной гонке вооружений, то естественный отбор вполне может поддерживать у них такую защитную окраску, которая скрывает эффект затенения. Многие виды рыб темнее сверху и светлее снизу, что отчасти нейтрализует освещение верха и затенение низа, так что рыба кажется более плоской, чем есть. Из этого правила есть исключения, которые действительно “только подтверждают правило”, например плавающие кверху брюхом сомики, у которых спинная сторона, напротив, светлее, а брюшная темнее.
Один из студентов Тинбергена, голландец Лен Де Рейтер, провел ряд изящных экспериментов, посвященных другому подобному исключению – окраске гусениц, в состоянии покоя обычно сидящих на растениях кверху брюхом. На верхней фотографии на следующей странице показана сидящая на веточке в обычном положении гусеница большой гарпии (Cerura vinula). Она малозаметна и кажется плоской. На нижней фотографии показано, как та же гусеница выглядела, когда Де Рейтер перевернул веточку на 180°. В таком положении мне намного легче ее заметить, но что особенно важно – ее намного легче было заметить и сойкам, которых Де Рейтер использовал в своих экспериментах в качестве модельных хищников.
Но все это ничего не говорит о том, врожденные или приобретенные знания имеются у людей и соек об обычном положении солнца – над головой. Мне казалось, что проверить это помогут эксперименты по изучению депривации, которые позволят разобраться в механизме возникновения соответствующей иллюзии у цыплят.
Для начала нужно было узнать, видят ли цыплята эту иллюзию. Судя по всему, они ее видели. Я сфотографировал неравномерно освещенную половинку шарика для пинг-понга, уменьшил изображение до размеров аппетитного зернышка или семечка и напечатал фотографии. Когда я смотрел на одну из этих фотографий, расположив ее так, чтобы освещенная сторона полушария располагалась сверху, изображение выглядело выпуклым, а когда переворачивал фотографию – вогнутым. Когда цыплятам показывали две одинаковые фотографии, расположенные так, что на одной из них половинка шарика выглядела освещенной сверху, а на другой – снизу, они намного чаще пытались клевать ту, что казалась выпуклой, то есть первую. Этот результат заставлял предположить, что цыплятам свойственно то же, что и нам, “предвзятое” представление о расположении солнца над головой.
Все это хорошо, но, хотя эти цыплята и были маленькими, у них все-таки имелся некоторый опыт. В течение всех трех дней, прошедших со дня их вылупления, они питались при обычном свете, источник которого располагался сверху. Этого времени могло оказаться вполне достаточно, чтобы они научились распознавать выпуклые объекты, освещенные сверху.
Для проверки такого предположения я провел следующий, главный эксперимент. Я содержал цыплят при свете, источник которого располагался снизу, а затем регистрировал их поведение при таких же условиях, как и в предыдущем случае. До начала проверки они ни разу не сталкивались со светом, падающим сверху. Для них мир, в котором они выросли, был миром, где солнце светило снизу. Любой объемный объект, который им доводилось видеть, будь то пища или часть тела другого цыпленка, был освещен снизу и затенен сверху. Я ожидал, что, когда им предоставят на выбор две фотографии половинки шарика, на одной из которых она освещена сверху, а на другой – снизу, они будут чаще пытаться клевать второе изображение.
Но мне было приятно убедиться, что я ошибался. Цыплята и во втором случае намного чаще пытались клевать то изображение, на котором половинка шарика была освещена сверху. Насколько я мог судить, это означало, что естественный отбор, действовавший на предков этих цыплят, наделил их чем-то вроде предварительных сведений о том, что в мире, где им предстоит жить, солнце обычно будет светить сверху. Мой эксперимент позволил найти пример настоящих врожденных представлений, которые остаются прежними, даже если специально пытаться учить их обладателей противоположному.
Не могу припомнить ни единой группы людей, постоянно живущей в условиях освещения снизу. Если такие люди существуют, было бы интересно проверить их так же, как я проверил своих цыплят. Я думал о том, какой результат можно предугадать интуитивно, но решил честно признаться, что не знаю. Разве не интересно было бы, если бы оказалось, что и у нас, как и у цыплят, эта иллюзия врожденная? Результат эксперимента с цыплятами меня удивил, но теперь я удивился бы лишь ненамного сильнее, если бы оказалось, что людям свойственно то же самое. Быть может, мы никогда этого не узнаем, но не исключено, что есть способы провести соответствующий эксперимент с совсем маленькими младенцами. Они не пытаются клевать, но задерживают взгляд на интересующих их предметах, а движения глаз поддаются регистрации. Может быть, специалист по возрастной психологии мог бы показывать младенцам что-то вроде моих фотографий половинки шарика и регистрировать, как долго они задерживают взгляд на каждом из двух изображений? И можно ли сделать так, чтобы в течение первых нескольких дней жизни младенец находился в помещении, освещенном снизу, или это сочтут неэтичным? Я не вижу в этом ничего неэтичного, но как знать, какое решение вынесла бы по такому поводу одна из нынешних “комиссий по этике”?
В итоге мое исследование о “природе или воспитании”[90] составило лиь малую часть моей докторской диссертации[91] и попало только в приложение к ней. У основной части диссертации с этой темой было мало общего, хотя она тоже касалась поведения клюющих цыплят и тоже имела отношение к одному интересному философскому вопросу, хотя и из другой области философии. Провести эту работу мне удалось благодаря усовершенствованному методу регистрации клевков.
На Бевингтон-роуд, а особенно на наших северных полевых стационарах при больших колониях чаек использовались услуги “рабов” – молодых волонтеров, которым хотелось на собственном опыте познакомиться с атмосферой группы Тинбергена еще до начала обучения в университете. В их числе были двое молодых людей из Германии, Фриц Фолльрат (по-прежнему мой близкий друг, впоследствии вернувшийся в Оксфорд, где он возглавил группу, весьма успешно занимавшуюся поведением пауков) и Ян Адам. Мы с Яном сразу нашли общий язык и стали работать вместе. Он превосходно умел мастерить что угодно (сочетая в себе столь разные способности, которыми обладали мой отец и майор Кэмпбелл), а в то время, к счастью, еще не появилось такого множества правил техники безопасности, призванных защитить нас от самих себя и лишить инициативы. Мы с Яном могли свободно пользоваться оборудованием, имевшимся в мастерских нашего отделения: токарными и фрезерными станками, ленточными пилами, да и всем остальным. Мы (то есть Ян, при котором я охотно играл роль подмастерья, вероятно, вновь проявляя синдром младшего брата) построили прибор, позволявший считать клевки цыплят автоматически, с помощью сделанных Яном из подручных материалов небольших клавиш, закрепленных на тонких шарнирах и подсоединенных к чувствительным микропереключателям. В ходе моей предыдущей работы, посвященной иллюзии объема, я вынужден был регистрировать клевки вручную, теперь же у меня внезапно появилась возможность автоматически собирать данные в огромном количестве. А это открывало дорогу исследованиям совсем другого рода, вдохновляемым другим направлением философии – философией науки Карла Поппера, которой я научился у Питера Медавара.
Как уже было сказано выше, я давно знал Медавара – через своего отца, который был его школьным другом. Когда я еще был студентом колледжа, Медавара как одного из самых ярких интеллектуалов среди британских биологов той поры пригласили прочитать лекцию на нашем отделении, где он в свое время учился. Я помню, какой стоял взволнованный шум в забитой до отказа аудитории в ожидании появления этого высокого, красивого и исключительно учтивого человека (“Данного лектора никогда в жизни не называли неучтивым”, – сказал о нем впоследствии один критик). После лекции я решил почитать его эссе, многие из которых были впоследствии перепечатаны в сборниках “Искусство решаемого” и “Республика Плутона”[92]; именно оттуда я узнал о Карле Поппере.
Меня заинтересовало попперовское представление о науке как о двухступенчатом процессе: вначале – творческое (почти как в искусстве) придумывание гипотезы или модели, а затем – попытки фальсифицировать (проверять на ложность) выводимые из нее прогнозы. Мне хотелось провести классическое попперовское исследование: придумать гипотезу, которая может быть верной, а может и неверной, вывести из нее точные математические прогнозы, а затем попытаться проверить эти прогнозы на ложность в лаборатории. Для меня было важно, чтобы мои прогнозы оказались математически точны. Меня не устроило бы, если бы из моей модели вытекало, что X больше Y. Мне хотелось создать такую модель, которая позволяла бы прогнозировать точное значение X. А для таких точных прогнозов требовались немалые объемы данных. Изготовленное Яном устройство для подсчета большого числа клевков дало мне возможность получать данные в нужном объеме. В моих новых экспериментах цыплята клевали не фотографии половинки шарика для пинг-понга, а маленькие цветные полушария, закрепленные на подсоединенных к микропереключателям шарнирных окошках. Цыплята предпочитали синие полушария зеленым, но меня интересовало не это. Мне хотелось узнать, чем определяется каждое решение совершить клевок, какого бы цвета ни было полушарие, которое клевал цыпленок. А это, конечно, лишь частный случай общего вопроса о том, каким образом любое животное принимает решения.
В другой своей работе Медавар доказывал, что на самом деле ход научных исследований не так последователен и упорядочен, как его излагают в публикациях. В жизни все намного запутаннее. В случае моих собственных исследований все было так запутано, что я уже и не помню, откуда мне пришла в голову идея моих “попперианских” экспериментов. Я помню только окончательное изложение, судя по которому – в полном соответствии с тем, что писал Медавар, – моя работа выглядит неправдоподобно упорядоченной.
В окончательном изложении это выглядело так. Я придумал воображаемую модель того, что может происходить в голове цыпленка, когда он делает выбор между альтернативными мишенями, потом совершил некоторые алгебраические выкладки, чтобы вывести из этой модели точные, количественные прогнозы, а затем проверил их в лаборатории. Это была модель “пороговых значений побуждения”. Я постулировал, что у цыпленка в голове есть переменная (“побуждение” совершить клевок), значение которой непрерывно колеблется, то возрастая, то снижаясь, отражая изменения силы побуждения (возможно, случайные: это было не важно). Всякий раз, когда побуждение превышало пороговую величину, соответствующую тому или иному цвету, цыпленок мог клюнуть мишень данного цвета (другой вопрос – в какой момент цыпленок совершит клевок, но для этого параметра я придумал другую модель, о которой речь пойдет ниже). Цыплята предпочитали синие мишени, а значит, порог для синего был ниже, чем для зеленого. Но тогда, если побуждение окажется выше порога для зеленого, оно неизбежно будет выше и порога для синего. Что же в таком случае сделает цыпленок? Я предположил, что, поскольку побуждение превысит оба порога, цыпленку станет безразлично, какую мишень выбрать, и он будет выбирать синюю или зеленую мишень, “бросая монетку”. Таким образом, из моей модели следовал прогноз, что, если регистрировать поведение цыпленка в течение долгого времени, мы будем наблюдать периоды, когда он клюет мишени только предпочитаемого цвета, а в промежутках – периоды, когда он случайным образом выбирает, какого цвета мишень клевать. Периодов, когда цыпленок достоверно чаще выбирает тот цвет, который он в целом не предпочитает, наблюдаться не должно.
Поначалу я не обращал внимания на последовательность клевков как таковую. Этим я занялся уже позже, когда переехал в Калифорнию. Если не ошибаюсь, причина была весьма прозаична: устройство, сконструированное Яном, позволяло считать клевки, но не позволяло точно записывать тот порядок, в котором цыпленок их совершал, а сам Ян к тому времени вернулся в Германию и не мог помочь мне с усовершенствованием установки. Кроме того, я, кажется, был слишком увлечен красотой попперианской идеи вывести математическую формулу, которая позволяла бы прогнозировать значения одного регистрируемого показателя, исходя из значений других регистрируемых показателей.
Как выяснилось, цыплята предпочитали синие мишени не только зеленым, но и красным, а красные предпочитали только зеленым. Я придумал эксперимент, в котором предоставил им возможность выбирать между синим и зеленым, синим и красным, а также красным и зеленым, и в каждом случае регистрировал долю клевков по мишени предпочитаемого цвета P. В результате у меня получалось три числа (Pлучший/худший, Pлучший/средний, Pсредний/худший). Логично предположить, что Pлучший/худший будет больше, чем два других параметра. Но позволяет ли моя модель прогнозировать, насколько больше? Можно ли вывести из этой модели формулу, на основании которой станет возможным рассчитать точное значение Pлучший/худший, исходя из значений Pлучший/средний и Pсредний/худший? Оказалось, что можно, и мне удалось это сделать. Я ввел символы, обозначающие время, в течение которого величина побуждения находится между разными пороговыми значениями, провел некоторые алгебраические преобразования школьного уровня (операции с системами уравнений, которым меня учил Эрни Дау), чтобы исключить неизвестные переменные, и был очень рад, когда после нескольких страниц выкладок у меня получилась формула, позволяющая делать простой, точный количественный прогноз. В соответствии с моделью пороговых значений побуждения
Pлучший/худший = 2 (Pлучший/средний + Pсредний/худший Pлучший/средний Pсредний/худший) 1.
Я назвал эту формулу “прогноз 1”. Меня привлекало в ней то, что она позволяла прогнозировать точные значения количественного параметра.
Теперь мне предстояло проверить этот прогноз. Станут ли цыплята вести себя в соответствии с ним? Да, к моей несказанной радости, в семи из восьми повторностей эксперимента они вели себя почти в точности так, как предписывал прогноз. Результаты восьмого эксперимента были настолько не похожи на результаты остальных семи, что, когда одна из моих статей была опубликована в журнале “Поведение животных”[93], в издательстве, к моей крайней досаде, соответствующую точку на графике удалили, приняв ее за изъян печатной формы! К счастью, из таблицы соответствующая цифра никуда не делась, иначе меня могли бы обвинить в преднамеренном искажении данных. После этого я провел еще одну серию экспериментов, в которых цыплята не клевали мишени, а заходили в камеры, освещенные светом разных цветов. На приведенном здесь графике представлены результаты обеих серий экспериментов и прогнозируемые значения процента предпочтений “лучшего” цвета “худшему”.
Если бы прогноз был идеальным, все точки лежали бы ровно на диагональной линии. За исключением восьмого эксперимента, о котором уже было сказано, прогнозы модели пороговых значений побуждения оказались намного лучше, чем можно было надеяться получить в экспериментах, посвященных поведению животных (в физических экспериментах точность обычно выше, потому что меньше статистическая ошибка измерений).
Кроме того, я использовал те же данные, чтобы проверить прогнозы, сделанные на основе альтернативной, более простой модели, исходившей из того, что каждый цвет имеет для цыпленка определенную “ценность” и вероятность выбора того или иного цвета пропорциональна его ценности. Прогнозы обеих моделей были похожи, так что если одна из них была верна, другая неизбежно должна была быть почти верна. Но модель пороговых значений побуждения неизменно позволяла прогнозировать наблюдаемые результаты точнее. Модель “ценности цветов” постоянно давала заниженные оценки показателя Pлучший/худший, а значит, не выдерживала проверку на ложность, которую модель пороговых значений побуждения, напротив, с блеском выдержала, давая необычайно точные прогнозы (за исключением одного эксперимента).
Означает ли хороший результат проверки моей модели, что в голове цыпленка действительно есть что-то вроде колеблющейся величины “побуждения”, время от времени превышающей определенные пороговые значения, и происходит ли при превышении двух или трех значений что-то вроде подбрасывания монетки, определяющего выбор цвета цыпленком? Поппер сказал бы, что модель выдержала серьезную попытку ее опровергнуть, однако это ничего не говорит о том, соответствуют ли постулируемые моделью “побуждение” и “пороги” тому, что на самом деле происходит в нейронах и синапсах. Но, по меньшей мере, интересно то, что мы можем делать некоторые выводы о происходящем в голове, даже не заглядывая в нее.
Этот метод, включающий в себя придумывание модели и проверку ее прогнозов, оказался исключительно продуктивным во многих отраслях науки. Так, в генетике вывод о существовании хромосом как линейных последовательностей генов, содержащих закодированную информацию, можно сделать и безо всякого микроскопа, только на основании результатов экспериментов по скрещиванию. Свою модель пороговых значений побуждения, а также результаты своих исследований восприятия цыплятами затенения как показателя объема я рассматриваю в качестве примеров того, какого рода процессы могут происходить в голове цыпленка, а не как окончательные выводы о том, что на самом деле в ней происходит.
Я совершенствовал свою модель в разных направлениях (в полном соответствии с предписаниями попперианской философии) и проверил в общей сложности девять прогнозов, оказавшихся довольно точными. Одно из таких усовершенствований, уже упоминавшееся выше, было попыткой объяснить, в какой момент цыпленок совершает клевок (отражая текущий уровень побуждения относительно пороговых значений). Прогнозы этой усовершенствованной модели хорошо выдержали проверку данными о птенцах озерной чайки, полученными моей коллегой и близким другом доктором Моникой Импековен, приезжавшей из Швейцарии, чтобы поработать на Бевингтон-роуд. Результаты этого исследования мы с ней опубликовали в совместной статье[94].
Другой усовершенствованный вариант моей модели, который я назвал в соответствующей публикации моделью пороговых значений внимания[95], был попыткой глубже разобраться в “бросании монетки”, предполагаемом исходной моделью пороговых значений побуждения, то есть в случайном выборе мишени при превышении побуждением двух или трех порогов. Суть модели пороговых значений внимания состояла в следующем. Я предположил, что в каждый момент времени цыпленок концентрирует внимание только на одном аспекте мишени (цвете, форме, размерах, текстуре и т. д.), причем в определенном порядке, и каждая из соответствующих систем концентрации внимания подчиняется своей собственной разновидности модели пороговых значений побуждения. Вначале цыпленок концентрирует внимание на первом аспекте – скажем, цвете. Если значение побуждения цветовой системы превышает только один порог, цыпленок выбирает предпочитаемый цвет (например, синий). Но если цветовая система требует “бросать монетку”, то цыпленок переключает внимание на что-то еще, например форму, а цвет игнорирует. С точки зрения системы цвета выбор, совершаемый на основе формы, равнозначен случайному. Но с точки зрения системы формы он, разумеется, неслучаен. Этот процесс перехода на следующие уровни внимания может продолжаться вплоть до последней системы. Если ни одна из них не предписывает однозначного выбора, то цыпленок “подбрасывает монетку”, просто выбирая ближайшую мишень. Модель пороговых значений внимания позволила мне сделать еще несколько прогнозов (всего девять), и все они успешно выдержали экспериментальную проверку.
Как и в случае с восприятием объема, здесь возникает вопрос, приложима ли модель пороговых значений побуждения в том или ином виде к людям. Я занялся поисками литературы по этой теме и обнаружил, что несколько психологов проводили похожие эксперименты с выбором одной из двух возможностей у людей. Они руководствовались иными соображениями, нежели я, но это не помешало мне воспользоваться опубликованными результатами их исследований. У психологов есть множество причин экспериментально изучать выбор из разных возможностей, который делают люди. Рассмотрим, к примеру, теорию голосования избирателей. Специалист по опросам общественного мнения может поставить задачу исследовать не выбор среди трех партий, скажем консерваторов, либералов и социалистов, из которых нужно отдать предпочтение одной или расставить все три в порядке убывания предпочтительности, а выбор одной из каждых двух. Тогда в ходе опроса исследователю нужно узнавать у людей, как бы они проголосовали, если бы выбирать нужно было между консерваторами и либералами, либералами и социалистами и, наконец, между консерваторами и социалистами. Во всяком случае, по тем или иным причинам психологи действительно изучали, какой выбор делают испытуемые из двух возможностей во множестве разнообразных случаев. Это позволио мне подставить полученные ими данные о частоте выбора между “лучшим” и “средним” и между “средним” и “худшим” в свою формулу и проверить прогноз моей модели о частоте выбора между “лучшим” и “худшим”. Исследования, результаты которых я использовал, были посвящены самым разным вопросам: как американские студенты выбирают между образцами почерка, как американские студенты выбирают овощи, как американские студенты выбирают между разными горькими и сладкими вкусами и как китайские студенты выбирают цвета. Особенно приятно мне было воспользоваться результатами масштабного исследования, посвященного тому, каких композиторов предпочитают музыканты Бостонского симфонического оркестра, Филадельфийского оркестра, Миннеаполисского симфонического оркестра и Нью-Йоркского филармонического оркестра. На следующей странице приведен график, на котором объединены результаты, полученные в разных подобных исследованиях. Как и в предыдущем случае, если бы прогнозы модели пороговых значений побуждения были идеальны, точки лежали бы ровно на диагональной линии. Должен признаться, что я был очень воодушевлен, когда увидел, как точно прогнозы моей модели соответствуют реальным данным. В этологии почти не бывает, чтобы прогнозы выполнялись с такой точностью!
Исследование оркестров было масштабным, и обработка его результатов оказалась непростым делом. Я обсудил эту проблему со своим дядей Кольером, работавшим в то время в Оксфорде на отделении лесного хозяйства, где он читал лекции и давал консультации по статистическим методам. Он предложил мне научиться программировать на университетском компьютере. Дядя Кольер и его жена Барбара ввели меня в курс дела и помогли написать программу для обработки данных о композиторах, которых предпочитали музыканты. Так начался мой сорокалетний роман с программированием, который отнял у меня немало времени и душевных сил, но теперь, к счастью, закончился. Я по-прежнему активно пользуюсь компьютерами, но программированием больше не занимаюсь, предоставляя это профессионалам.
В те времена, в середине шестидесятых, в Оксфордском университете был только один компьютер – новый KDF9 компании “Инглиш Электрик”, менее мощный, чем современный айпэд, но по тому времени представлявший собой последнее слово компьютерной техники. Занимал он целую комнату, причем большую. Любимым языком программирования моих дяди и тети был K-Autocode – британский аналог Фортрана, сходный с ним по структуре и грамматике и тоже поощрявший программистов к некоторым плохим приемам (таким, как переходы в абсолютных адресах). В американских компьютерах в то время использовались большие стопки перфокарт (для которых существовала опасность, что их уронят и они перемешаются, после чего восстановить их исходный порядок будет не так-то просто), а в британских – бумажная перфолента (выплевываемая компьютером на пол целыми порциями, похожими на спагетти, которые нужно было скатывать в рулоны, стараясь не порвать). К счастью, все это уже в прошлом, и современные компьютеры могут отвечать нам посредством дисплея или динамиков, а не с помощью гор бумаги, и сразу, а не с суточной задержкой.
Но в те времена ничего лучше у нас все равно не было, и я был просто очарован. Меня приводила в восторг сама возможность заранее выработать последовательность операций, затем кропотливо проверить ее шаг за шагом с карандашом, а потом ввести в компьютер, на котором ее можно прогонять тысячи и тысячи раз на очень большой скорости. Мне однажды приснился жуткий кошмар – что я компьютер, выполняющий мою собственную программу. Мне казалось, что я ночь напролет прогонял в своем воспаленном мозгу цикл за циклом этой программы. Справедливости ради нужно признать, что условия для сна в ту ночь были далеко не самые подходящие. Мой друг Роберт Маш убедил меня и еще нескольких человек с Бевингтон-роуд посвятить те выходные охоте на “суррейскую пуму”.
С 1959 года стали появляться сообщения о загадочном крупном хищнике, якобы живущем в лесах графства Суррей на юге Англии. Этот зверь, прозванный суррейской пумой, стал местной легендой вроде снежного человека, и в мае 1966 года наша команда потратила целый уик-энд, пытаясь его найти. Об этом прослышали журналисты, и, поскольку уже приближался летний “мертвый сезон” политических новостей, в газете “Обсервер” была даже напечатана моя фотография в пробковом шлеме британского колонизатора, наподобие тех, что я носил в детстве. Не помню, где поставили палатки мои спутники, но помню, что моя задача состояла в том, чтобы провести ночь в спальном мешке под открытым небом в окружении больших кусков сырого мяса. Мне выдали фотоаппарат со вспышкой и велели сфотографировать пуму, если она придет за мясом – или за мной, насколько я понимаю. Спал я, мягко говоря, не очень спокойно, так что, наверное, не удивительно, что именно в ту ночь мне и приснился мой компьютерный кошмар. Рассвет мы с моими спутниками встретили с большим облегчением. Это был задумчивый туманный рассвет (как видно на фотографии, воспроизведенной на цветной вклейке). Суррейскую пуму мы так и не нашли, и, пожалуй, примечательно, что сообщения о встречах с ней продолжали поступать вплоть до 2005 года, заставляя предположить, что этот зверь должен был прожить более чем вдвое дольше, чем максимальная продолжительность жизни, отмеченная у данного вида даже в неволе.
В своей компьютерной работе я перешел с KDF9 на другую машину, меньшего размера, но более доступную. На отделении зоологии в то время появился энергичный новый профессор (так в Оксфорде в то время было принято называть заведующего отделением), сменивший добродушного сэра Алистера Харди, казавшегося немного сумасшедшим. Нашим новым начальником стал пришедший из Кембриджа суровый Джон Прингл по прозвищу Смешливый Джон (ироническому, как прозвище Возвышенный, которое дают человеку очень маленького роста), и с его приходом отделение погрузилось в водоворот модернизации. Перемены следовали одна за другой, и вскоре на старом добром отделении старого доброго Алистера Харди наступил совсем новый прингловский “орднунг”, намного лучше прежнего. Одной из самых отрадных перемен было прибытие из Лондона такой же энергичной группы специалистов по рентгеноструктурному анализу (подобных Уотсону и Крику, только занимавшихся молекулами белков, а не ДНК). Особенно отрадно для меня было то, что они привезли с собой свой собственный компьютер, на котором его дружелюбный куратор, доктор Тони Норт, разрешил мне работать по ночам, когда тот не использовался для обсчета данных о рассеянии пропускаемых сквозь кристаллы рентгеновских лучей. Модель этого компьютера была “Эллиотт 803”, и по нынешним меркам он был еще примитивнее, чем KDF9, но у него имелось то огромное преимущество, что я мог регулярно на нем работать.
Именно в то время я по-настоящему узнал, какая зависимость может вырабатываться от компьютера. Я в буквальном смысле (и нередко) проводил ночи напролет в теплой, мерцающей компьютерной комнате, опутанный грудами перфоленты, на которые, должно быть, были похожи и мои взъерошенные за бессонную ночь волосы. “Эллиотт” отличался одной замечательной особенностью: обработка данных у него сопровождалась звуковым сигналом. К ходу вычислений, которые он выполнял по моей программе, можно было прислушиваться через небольшой динамик, насвистывавший и нашептывавший свою ночную серенаду, наверняка понятную такому профессионалу, как доктор Норт, но мне лишь скрашивавшую одиночество. Многие люди, чей роман с компьютерами продлился дольше, чем мой (и принес больше пользы), в юности тоже проводили целые ночи за компьютером. Одним из них был Билл Гейтс (в наши дни таких называют гиками). Теперь-то я не думаю, что мой роман с “Эллиоттом” был продуктивным. Конечно, я успешно попрактиковался в искусстве программирования, но язык Elliott Autocode нельзя было использовать ни на каких других компьютерах. Хотя я усердно и самоотверженно трудился во время своих ночных бдений, мои занятия имели такое же отношение к серьезному программированию, какое мое наигрывание на разных инструментах в Аундле имело к настоящей музыке.
В 1965 году я выступил на Международной этологической конференции в Цюрихе с докладом, посвященным моей модели пороговых значений побуждения. Для этого доклада я изготовил устройство, позволявшее наглядно демонстрировать суть моей теории. Резиновая трубка, заполненная ртутью, уровень которой я произвольно регулировал, изображая колебания “побуждения”, была подсоединена к вертикальной стеклянной трубке с подведенными на разной высоте тремя электродами, соответствовавшими “порогам”. Ртуть хорошо проводит электричество, поэтому, когда колеблющийся ртутный столбик доходил до любого из электродов, замыкалась соответствующая цепь. При этом ртуть, разумеется, соприкасалась и со всеми электродами, расположенными ниже, что соответствовало главному положению моей модели. Поведение цыплят я изображал посредством шумной системы лязгающих электромеханических реле, включавших и выключавших цветные лампочки, что символизировало клевки по мишеням разных цветов. Вся эта конструкция в духе Хита Робинсона (или его американского аналога – Руба Голдберга)[96] была призвана сорвать аплодисменты аудитории точно так же, как их, судя по рассказам очевидцев, сорвала смехотворная гидравлическая система, изготовленная с похожей целью Десмондом Моррисом, Обри Мэннингом и их друзьями и представленная на одной из предыдущих этологических конференций в Оксфорде. Не помню и ума не приложу, как мне удалось провезти всю конструкцию из Оксфорда в Цюрих. Служба безопасности современного аэропорта ни при каких обстоятельствах не пропустила бы ничего подобного этому сооружению, набитому непрофессионально спаянными проводами, реле, батарейками и ртутью.
К сожалению, как раз в тот момент, когда я собирался выйти на сцену и впервые в жизни выступить на конференции, что-то пошло не так и мое хитроумное приспособление отказалось работать. Обливаясь холодным потом, я стоял на коленях у входа в зал и в панике пытался исправить неполадку, как вдруг услышал чей-то голос с австрийским акцентом. Стоявший у меня за спиной человек, которого это явно забавляло, не допускающим возражений тоном, слегка запинаясь, но в быстром темпе приказывал мне, что делать. Как во сне, я подчинился его приказаниям – и все заработало. Я повернулся, чтобы посмотреть на своего спасителя, и увидел восходящую звезду европейской континентальной этологии Вольфганга Шлейдта, с которым раньше не встречался, но знал, как он выглядит. Не имея заранее никакого понятия о назначении моей адской машины, он наткнулся на меня в состоянии паники, сразу понял, в чем проблема, и продиктовал мне решение, за что я по гроб жизни ему благодарен. Впоследствии я узнал, что доктор Шлейдт, как и следовало ожидать, был известен своей изобретательностью в области техники. Я вынес свое странное устройство на сцену и в конце выступления продемонстрировал его в работе. Его шумные цветные огни и откровенно любительский дизайн в духе Хита Робинсона были встречены чуть ли не овацией. Спасибо Вольфгангу Шлейдту, причем не только за то, что он спас меня от глупого положения, в которое я чуть не попал. Среди слушателей в зале сидел представительный Джордж Барлоу, который, в свою очередь, был восходящей звездой американской этологии, и мой доклад произвел на него настолько сильное впечатление, что он без собеседования и подачи резюме пригласил меня в Калифорнийский университет в Беркли на должность старшего преподавателя, ставшую моей первой полноценной работой.
Но это было потом. А пока я вернулся в Оксфорд, где Нико Тинберген собирался взять в 1966 году творческий отпуск и предложил мне в тот год прочитать вместо него курс лекций о поведении животных для студентов колледжей. Он предоставил мне возможность воспользоваться его конспектами, но я решил вместо этого сам разработать свой курс с чистого листа. Поскольку это был первый курс лекций, который мне довелось прочитать, я довольно подробно записал все, что собирался рассказывать. Я думал, что давно потерял свои записи, но во время работы над этой книгой, к своему удивлению, обнаружил их в картонной коробке в подвале моего дома. Мне было весьма интересно почитать их 46 лет спустя – особенно лекцию о социальном поведении, которая не только содержит главную мысль “Эгоистичного гена”, но и написана явно в похожем стиле, хотя и на целых десять лет раньше.
В 1964 году в “Журнале теоретической биологии” (Journal of Theoretical Biology) вышли две длинные статьи, содержавшие довольно сложные математические выкладки. Их автором был молодой магистрант Лондонского университета Уильям Дональд Гамильтон, которого никто из нас тогда не знал, хотя впоследствии мы близко познакомились. Майк Каллен с характерной для него проницательностью понял важность статей Гамильтона раньше всех остальных (за исключением Джона Мейнарда Смита) и как-то вечером подробно рассказал о них нашей группе на Бевингтон-роуд. Энтузиазм Майка был заразителен, и я тоже сразу загорелся идеями Гамильтона, причем настолько, что решил изложить их студентам на лекциях о поведении животных, которые я в то время читал, заменяя Нико.
Теория Гамильтона, которую теперь часто называют теорией родственного отбора (хотя этот термин ввел Мейнард Смит, а не сам Гамильтон), напрямую вытекает из положений неодарвинизма – так называемого современного эволюционного синтеза. Напрямую в том смысле, что это не дополнение, которое присовокупили к неодарвинизму, а необходимая его составляющая. Родственный отбор неотделим от неодарвинизма, как теорема Пифагора неотделима от евклидовой геометрии, а биолог, пытающийся “проверить” эту теорию в полевых условиях, подобен математику, проверяющему теорему Пифагора на конкретных треугольниках с помощью линейки.
Центральным понятием неодарвинизма, в отличие от той версии теории Дарвина, которую сформулировал он сам, служит понятие о гене как единице естественного отбора. Гены представляют собой дискретные сущности, число которых в популяции можно сосчитать, в той или иной степени пренебрегая тем, что на самом деле они находятся в клетках каждого организма. Каждый ген обладает в генофонде популяции своей частотой, оцениваемой как доля плодовитых особей, у которых имеется данный ген. Успешными генами называют те, частота которых повышается за счет снижения частот неуспешных альтернативных вариантов. Частота генов, заставляющих животное хорошо заботиться о своем потомстве, нередко повышается, потому что у потомства, о котором заботятся, оказываются те же гены. Гамильтон понял (как поняли до него Фишер и Холдейн, но они не особенно развили эту мысль), что потомство – не единственная категория родственников, у которых имеются те же гены и которые, таким образом, могут получать выгоду от вырабатываемых эволюцией механизмов заботы.
Гамильтон вывел простое правило (теперь называемое правилом Гамильтона): любой ген, “заставляющий” организм вести себя альтруистично по отношению к своим родственникам, будет иметь тенденцию распространяться в популяции, если для носителя данного гена цена альтруистичного поведения C меньше, чем произведение выгоды B для этих родственников и степени родства r, где r – пропорция (число больше 0, но меньше 1), рассчитываемая по приведенным Гамильтоном формулам (смысл этой величины без формул объяснить сложно, хотя и возможно)[97]. Степень родства между родными братьями (братом) и сестрами (сестрой) равна 0,5, между дядей или тетей и племянником или племянницей – 0,25, а между двоюродными братьями (братом) и сестрами (сестрой) – 0,125. Гамильтон особенно интересовался общественными насекомыми и с помощью своей теории родственного отбора блистательно объяснил эволюционное происхождение исключительного социального альтруизма, свойственного муравьям, пчелам, осам и (в несколько иных формах) термитам.
Гнездо муравьев представляет собой настоящую подземную фабрику по производству генов. Штампуемые на этой фабрике гены распространяются в упаковках из крылатых тел молодых самок и самцов. Эти летающие муравьи (в которых из-за крыльев не так-то просто опознать муравьев) выбираются из-под земли и летят спариваться. В ходе этого брачного лёта каждая самка (будущая царица) на всю свою долгую жизнь запасается сперматозоидами, которые будут храниться у нее в организме и понемногу расходоваться для оплодотворения яйцеклеток. Нагрузившись сперматозоидами, спарившаяся самка летит на поиски подходящего места, где зарывается в землю и основывает новое гнездо. Самки некоторых видов после этого откусывают или отламывают свои крылья, больше не нужные им в подземном царстве.
Потомство такой самки будет по большей части состоять из бесплодных рабочих особей, но кроме них она также произведет на свет новых крылатых самок и самцов, которые продолжат дело производства и распространения генов. Рабочие особи (у муравьев, пчел и ос это всегда самки, у термитов – и самки, и самцы) обычно не имеют шансов напрямую передать свои гены потомству и делают это опосредованно, заботясь о своих плодовитых родственниках – молодых самках и самцах, которые могут приходиться им, например, братьями и сестрами или племянниками и племянницами. Ген, заставляющий бесплодную рабочую особь заботиться о своей сестре, которой суждено стать царицей, через эту царицу и ее плодовитых потомков попадет в генофонды будущих поколений. При этом у самой царицы такой ген может никак не проявляться, но будет заставлять ее дочерей-рабочих кормить и оберегать молодых самцов и самок, способных передать его дальше.
Общественные насекомые – лишь отдельный случай работы правила Гамильтона, которое применимо не только к ним, но и к любым другим животным и растениям, независимо от того, заботятся ли они о своих родственниках. Если какой-либо организм о своих родственниках не заботится, это связано с тем, что определяемое правилом Гамильтона соотношение выгод и затрат (показателей B и C) не благоприятствует такой заботе, даже для высоких значений коэффициента родства r. Существенно, что, если организм заботится о своем потомстве или старшие братья и сестры заботятся о младших, это всегда происходит потому, что у того, кто заботится, и у тех, о ком заботятся, имеются общие гены, обеспечивающие такую заботу. К сожалению, даже профессиональные биологи часто этого не понимают.
Как я уже сказал, когда Майк Каллен познакомил меня с блестящими идеями Гамильтона, я загорелся энтузиазмом, и мне очень захотелось по-своему изложить их на лекциях, которые мне предстояло читать, заменяя Нико Тинбергена. Я испытывал некоторую неловкость по поводу того, что собираюсь так далеко отойти от того, что рассказывал на своих лекциях Нико, и ввести в курс свои собственные рассуждения об “эгоистичных генах”, населяющих ряд смертных тел и безжалостно отбрасывающих их одно за другим на своем пути в будущее. Я обратился за моральной поддержкой к Майку, показав ему напечатанный на машинке текст своей лекции. Теперь, когда я смотрю на этот конспект (частично воспроизведенный на следующей странице) и вижу его заметки на полях, я вспоминаю, как они меня тогда воодушевили. Его слова “просто восхитительно” убедили меня в том, что мне действительно стоит изложить эту тему на лекциях, причем именно в таком стиле. Наверное, можно считать, что как раз тогда у меня и зародился замысел “Эгоистичного гена”, который мне предстояло вынашивать еще десять лет. В моем конспекте даже была фраза “гены должны быть эгоистичными”. Я еще вернусь к этому в рассказе о своей работе над той книгой.
Летом 1967 года я женился на Мэриан Стэмп, аспирантке Нико, впоследствии сменившей его непосредственного преемника в должности профессора этологии и ставшей ведущей специалисткой по экспериментальной науке о поведении животных. Нас обвенчали в крошечной протестантской церкви в деревне Анстаун на южном побережье Ирландии, где у родителей Мэриан был загородный дом. К тому времени я уже окончательно решил принять предложенную мне должность старшего преподавателя в Калифорнийском университете в Беркли. Нико не сомневался, что Мэриан сможет успешно продолжить там свою работу над диссертацией, для “удаленного” руководства которой от него потребуется минимум усилий, и был, как оказалось, совершенно прав. Свой непродолжительный медовый месяц мы с Мэриан провели в Ирландии, по которой ездили на взятой напрокат машине. Вести ее пришлось Мэриан, потому что я забыл водительские права. Сотрудник фирмы, сдававшей автомобили напрокат, был почему-то недоволен, узнав, что Мэриан аспирантка (должно быть, аспиранты были у него на плохом счету), но машину нам все-таки выдал. После медового месяца мы почти сразу отправились в Сан-Франциско, где нас встретил в аэропорту как всегда любезный Джордж Барлоу. Началась наша новая жизнь в Новом Свете.
Время мечты на Западном берегу
В Беркли в конце шестидесятых кипели политические страсти, и политическая активность Телеграф-авеню и района Хейт-Эшбери, расположенного на другом берегу залива, в Сан-Франциско, играла исключительно важную роль в нашей жизни в течение тех двух лет, что мы провели в Калифорнии. Президент Джонсон, которого могли бы запомнить как выдающегося реформатора, увяз в катастрофической войне во Вьетнаме, доставшейся ему в наследство от Кеннеди. В Беркли чуть ли не все были противниками войны, и мы тоже вступили в их ряды и принимали участие в антивоенных маршах в Сан-Франциско, шествиях в Беркли, которые разгонялись слезоточивым газом, митингах, акциях протеста во время университетских занятий и сидячих демонстрациях.
Я горжусь своим участием в протестах против американского вмешательства в войну во Вьетнаме, горжусь активной работой на избирательную кампанию сенатора Юджина Маккарти, боровшегося за выдвижение в президенты под антивоенными лозунгами, но не так горжусь некоторыми другими политическими движениями, в которые я оказался вовлечен. Самым запоминающимся из них была сюрреалистическая история с “Народным парком” (который Дэвид Лодж в своем романе “Академический обмен” вывел под названием “Народный сад”). Борьба за Народный парк была попыткой (в конечном итоге увенчавшейся успехом, как я узнал недавно, приехав в Беркли на съемки документального фильма) сделать рекреационную зону из пустыря, принадлежавшего университету и планировавшегося под застройку. Теперь я понимаю, что это был только надуманный предлог для радикального политического активизма как самоцели, раздутый лидерами студентов-анархистов, цинично манипулировавшими незлобивыми хиппи, сторонниками “власти цветов”. Эти лидеры-радикалы и печально известный губернатор Рональд Рейган (“Рональд Дак” в романе Лоджа) охотно подыгрывали друг другу, нарочно раздувая конфликт, чтобы упрочить себе поддержку среди собственных сторонников, и, по-видимому, не питали насчет своей деятельности никаких иллюзий. Я же, как и большинство молодых сотрудников университета, поддавался на их провокации и делал именно то, чего от нас добивались. Мы участвовали в митингах и сидячих демонстрациях, убегали от слезоточивого газа, писали возмущенные письма в газеты (именно по этому поводу я написал свое первое письмо в “Таймс”) и бурно радовались, когда хиппи засовывали цветы в дула винтовок, которыми были вооружены довольно испуганные и не знавшие, что делать, молодые бойцы Национальной гвардии. Должен честно признаться, что слезоточивый газ и опасность (хотя и очень небольшая) вызывали у меня приподнятое чувство восторга, которого я теперь несколько стыжусь.
Постараюсь как можно честнее разобраться в том, что я чувствовал во время пребывания в Беркли, когда мне еще не было и тридцати. Думаю, важную роль здесь играл юношеский восторг перед самой идеей бунта, тот восторг, о котором писал Вордсворт: “Жизнь средь такой зари уже блаженство, / Но молодость – сам рай!”[98]
Одного студента, которого звали Джеймс Ректор, застрелил полицейский из Окленда. Участвовать в марше протеста по этому поводу было правильно, и теперь я думаю, что именно это прежде всего и оправдывало в наших глазах решение участвовать в марше в защиту Народного парка. Но на самом деле, разумеется, не оправдывало, по крайней мере, само по себе. Это решение должно было обосновываться совсем другими, независимыми соображениями.
Мы, молодые сотрудники университета, организовывали собрания, на которых давили на коллег, заставляя их отменять свои лекции в знак солидарности с активистами. Это была форменная травля, совсем такая же, как та, которую мне не так давно довелось наблюдать в интернете, где иные радикальные активисты достаточно влиятельны, чтобы играть роль “полиции мыслей”, и такая же, как та, что я видел в школе на спортивных площадках, где у зачинщиков травли неизменно находились добровольные пособники. Мне особенно стыдно вспоминать собрание, на котором один достойный немолодой профессор не хотел отменять свою лекцию, и мы устроили голосование, чтобы заставить его это сделать. Теперь я чувствую раскаяние и восхищаюсь его смелостью, а также смелостью другого профессора, который был еще старше и единственный поднял руку в поддержку права своего коллеги на проведение запланированной лекции в соответствии с собственным представлением о долге. Как и в случае с “тетушкой Пегги” и с тем мальчиком, который играл аналогичную роль в Чейфин-Гроув, я должен был попытаться помешать травле. Однако не сделал этого. Я был по-прежнему молод, но ведь не настолько. Следовало быть более сообразительным.
По поводу радикалов и хиппи мне вспоминается один случай, который многое говорит об огромной перемене, свершившейся в обществе. Однажды я шел по Телеграф-авеню, вокруг которой в Беркли была сосредоточена культура бус, благовоний и марихуаны. Передо мной шел молодой человек, в котором легко было опознать сторонника “власти цветов”. Проходя мимо каждой девушки, шедшей ему навстречу, он протягивал руку и слегка трепал ее по одной из грудей. Ни одна из них не дала ему пощечины и не позвала на помощь: все просто проходили мимо как ни в чем не бывало. Это повторялось неоднократно. Сегодня мне с трудом в это верится, но воспоминание совершенно отчетливо. Поведение того молодого человека выглядело не особенно развратным и явно не воспринималось девушками как проявление мужского шовинизма. В окрестностях Сан-Франциско шестидесятых годов оно казалось естественным для среды хиппи с их непосредственностью и культом мира и любви. Мне очень приятно отметить, что с тех пор многое изменилось. Сегодня принадлежащие к аналогичному социальному классу люди того же возраста, что этот мужчина и те девушки, к которым он приставал (как мы назвали бы это сегодня), были бы среди тех, кого особенно сильно возмущало бы подобное поведение, считавшееся в те времена нормальным среди молодых людей соответствующего класса и политических убеждений.
Несмотря на всю свою политическую активность, я неплохо справлялся с работой старшего преподавателя (хотя и был исключительно молод для этой должности). Мы с Джорджем Барлоу поделили между собой лекционный курс поведения животных, в который я включил ту лекцию об “эгоистичном гене”, которую впервые прочитал в Оксфорде. Меня радует мысль о том, что студенты, учившиеся в Оксфорде и Беркли в конце шестидесятых, едва ли не первыми из всех студентов в мире узнали о новых идеях, которым предстояло приобрести популярность в семидесятых годах и позже, когда “социобиология” и “эгоистичные гены” вошли в моду.
Нас с Мэриан очень хорошо принимали в Беркли, и мы подружились там со многими замечательными людьми. Кроме Джорджа Барлоу в их числе были нейрофизиолог Дэвид Бентли, Майкл Лэнд, ставший теперь ведущим специалистом по глазам самых разных животных, а также переехавшие впоследствии в Оксфорд и чудесно дополнившие команду с Бевингтон-роуд Майкл и Барбара Макробертс и ироничный Дэвид Ноукс – самый способный из аспирантов, которыми руководил в те годы Джордж Барлоу. Джордж проводил у себя дома в Беркли-Хиллс еженедельный семинар для интересующихся этологией студентов и аспирантов. Атмосфера этих вечерних встреч чем-то напоминала нам с Мэриан незабываемую атмосферу вечерних семинаров, которые Нико по пятницам проводил у нас в Оксфорде.
Я никогда раньше не бывал в Америке, и некоторые вещи сбивали меня с толку. На первом собрании сотрудников отделения зоологии все говорили почти исключительно цифрами. “Кто ведет 314?” – “Нет, я веду 246”. Сегодня во всех англоязычных странах знают, что “такая-то дисциплина 101” – это вводный курс для студентов первого года обучения (иногда о таких курсах говорят свысока или даже пренебрежительно). Однако, когда я только прибыл в Беркли, вся эта нумерология была мне совершенно непонятна. И кто сегодня не знает глагола to major (специализироваться)? Но я помню, что однажды, читая роман об американской университетской жизни и уже подустав от таких терминов, как sophomore (второкурсник), junior (третьекурсник) и senior (четверокурсник), я наткнулся на фразу, показавшуюся мне глотком свежего воздуха: “В комнату вошел английский майор (English major)”. Я живо представил себе усатого офицера в галифе, хотя имелся в виду, конечно, студент, специализирующийся на английском.
Мы с Мэриан усердно работали над нашими исследовательскими проектами. И без конца разговаривали на темы общих научных интересов: на прогулках в Тилден-парке на холмах Беркли-Хиллс, в автомобильных поездках по дорогам прекрасных сельских районов Калифорнии, во время вылазок за покупками в Сан-Франциско – везде. Эти разговоры были чем-то вроде взаимных консультаций. Мы учились друг у друга, разбираясь в логике своих рассуждений шаг за шагом – шаг назад и два шага вперед. Подобной атмосферы взаимных консультаций я пытаюсь теперь добиться в публичных дискуссиях с коллегами, нередко снимаемых на видео и выкладываемых на моем сайте или выходящих на DVD. Мои дискуссии с Мэриан впоследствии легли в основу совместных экспериментов, которые мы проводили по возвращении в Оксфорд.
Исследования, которые я выполнял в Беркли, являлись продолжением моей работы с выбором мишеней цыплятами. Моя диссертация была выполнена в полном соответствии с идеями Поппера и включала точные прогнозы об общем числе случаев выбора той или иной мишени за определенные промежутки времени. Но отсюда с самого начала напрашивалась идея более точной экспериментальной проверки, основанной на регистрации реальной последовательности клевков, а не числа клевков в минуту. Я вернулся к этой идее в Беркли, где соорудил новое устройство, которое, в отличие от оксфордского, позволяло точно регистрировать момент каждого клевка. Кроме того, я увеличил частоту клевков, вознаграждая цыпленка за каждый клевок вспышкой инфракрасного света, тепло которого нравилось цыплятам. Награда не зависела от цвета выбранной мишени, но цыплята по-прежнему демонстрировали систему предпочтений цветов и по-прежнему выбирали их как будто в соответствии с моделью пороговых значений побуждения. Запись клевков велась на магнитофонной ленте с использованием сложного и дорогостоящего приспособления, изготовленного по заказу Джорджа Барлоу и известного под названием Data Acquision System (“система получия данных”) – из-за опечатки в слове Acquisition (“получение”) на этикетке.
Из модели пороговых значений побуждения очевидным образом вытекает, что в течение определенных промежутков времени цыпленок должен выбирать мишени только одного цвета (когда величина побуждения превышает только одно пороговое значение) и что такие промежутки должны чередоваться с периодами безразличного выбора (когда величина побуждения превышает два порога). При этом ощутимых промежутков времени, в пределах которых цыпленок раз за разом выбирает менее предпочтительный цвет, наблюдаться не должно. Исходя из модели пороговых значений внимания, я ожидал, что безразличие к цвету на самом деле означает предпочтение правой или левой стороны. Поскольку устройство позволяло после каждого клевка менять местами мишени разного цвета (лишь иногда случайно отклоняясь от этой схемы), я прогнозировал получение именно таких последовательностей, как те, что представлены на рисунке на этой странице. Это реальные данные одного из экспериментов, и они, судя по всему, очень хорошо соответствовали моим прогнозам.
Разумеется, то был лишь один из многих экспериментов, который сам по себе мало о чем говорит, но я провел статистический анализ результатов большого числа опытов, позволивший строго проверить как данный прогноз, так и ряд других. Результаты этих экспериментов соответствовали прогнозам модели пороговых значений внимания, а не более простой модели пороговых значений побуждения.
Шел второй год нашего пребывания в Беркли, когда нас с Мэриан посетили Нико и Лис Тинберген. Нико хотел уговорить нас вернуться в Оксфорд, где ему удалось добыть заманчивый грант на исследования, который он предполагал доверить мне, и где Мэриан могла закончить свою докторскую диссертацию, работа над которой, как Нико мог убедиться, шла в Беркли успешно. Тинбергены вернулись в Оксфорд, а мы остались думать над полученным предложением. В итоге мы решили его принять, но тем временем Нико написал нам еще об одной возможности. В Оксфорде решили взять на работу нового лектора[99] по этологии на должность, связанную со стипендией Нового колледжа, и Нико предложил мне выдвинуть свою кандидатуру. Преподавание не препятствовало работе по тому исследовательскому гранту, который он обещал мне раньше. Я согласился подать документы на эту должность, и меня вызвали в Оксфорд на собеседование.
Это было волшебное путешествие, сулившее мне новые горизонты. Особенно сильно оно отпечаталось в моей памяти благодаря музыке – скрипичному концерту Мендельсона, что я слушал в самолете, воодушевленный зрелищем Скалистых гор, над которыми пролетал, и открывшимися передо мной заманчивыми перспективами. Оксфорд я застал в его лучшую майскую пору, когда вдоль Банбери-роуд и Вудсток-роуд вовсю цвели вишни и бобовники. Замечательный Новый колледж XIV века тоже был прекрасен, и я чувствовал себя счастливым. Мое настроение не омрачилось даже тогда, когда по прибытии я узнал, что Колин Бир, бывший член оксфордской группы исследований поведения животных, работающий теперь профессором в Ратгерском университете в Нью-Джерси, в последний момент неожиданно подал заявку на ту же должность. Я не утратил оптимизма даже тогда, когда узнал, что Нико передумал и стал всячески поддерживать кандидатуру Колина, а не мою. Несмотря на то что Нико решил сделать ставку на Колина, я по-прежнему мог получить исследовательскую работу, и я сказал комиссии, проводившей собеседование, что буду даже рад, если Колин тоже вернется в Оксфорд. В итоге лектором действительно стал Колин, а я занялся исследовательской работой по гранту.
Дела компьютерные
Мы с Мэриан уехали в 1969 году из Беркли со смешанными чувствами. Он остался в моей памяти волшебным пристанищем, временем мечты и прошедшей юности, умных и дружелюбных коллег, в основном ясного солнечного неба, но иногда – прохладной дымки, окутывавшей Золотые Ворота, бодрящего сосново-эвкалиптового аромата и “детей-цветов”, искренне, хотя и наивно, веривших в славные либеральные ценности.
Мы упаковали и отправили в Англию немногочисленные пожитки из нашей квартиры в Беркли и поехали через весь континент в Нью-Йорк на своем “форде-универсале” “Фалкэн”, толстым слоем покрытом антивоенными лозунгами и наклейками, агитирующими голосовать за Юджина Маккарти. Мы продали эту машину на пристани, о чем заранее договорились (как то ни удивительно, покупатель, тоже неспешно, как это принято в Беркли, добиравшийся в Нью-Йорк своим ходом, явился на встречу вовремя), сели на лайнер “Франция” и отплыли в Саутгемптон, готовясь к возвращению в Оксфорд, где оставались многие наши старые друзья и куда недавно прибыл Колин Бир. Однако Колин, ко всеобщему разочарованию, предпочитал проводить время в Новом колледже и почти не появлялся на отделении. Он проработал в новой должности всего год. Дэнни Лерман (тот самый Дэниэл Лерман, чья теоретическая критика этологии оказала такое существенное влияние на мою диссертацию) предусмотрительно никому не стал отдавать насовсем ставку Колина в Ратгерском университете, и, когда стало ясно, что для жены Колина, которая занималась средневековым французским и была в Америке профессором, не найдется аналогичной должности в Оксфорде, Колин решил вернуться на прежнюю работу. Должность лектора по этологии вновь оказалась вакантной, многострадальный Новый колледж вновь согласился связать с этой должностью стипендию, и Нико вновь посоветовал мне предложить свою кандидатуру. Вновь собеседование со мной и немногими другими кандидатами проводили две комиссии: одна от университета, под председательством “смешливого” Джона Прингла, а другая от Нового колледжа, под председательством его действительно смешливого и до невозможности доброжелательного ректора – сэра Уильяма Хейтера, бывшего британского посла в СССР.
На сей раз я очень хотел получить эту работу, и я ее получил. Мы с Мэриан узнали об этом после томительного ожидания, сидя с друзьями в индийском ресторане в Оксфорде. Внезапно мы услышали звук подъехавшего мотороллера, после чего в ресторан ворвался Майк Каллен, направил на меня, не говоря ни слова, указательные пальцы обеих рук и исчез так же быстро, как появился. Должность лектора досталась мне. Теперь мне кажется, что по-хорошему я не должен был ее получить, учитывая, что моим главным соперником был блистательный Хуан Делиус, хотя мне хотелось бы думать, что я совершенствовался на этой работе и в итоге стал достойным ее. Хуан, мой дорогой друг и наставник, был необычайно умным, знающим и веселым немцем с аргентинскими корнями. Однажды он так объяснил мне суть аргентинского юмора: “Аргентинцам нравятся грубые шутки, но, когда кто-то поскальзывается на банановой кожуре, это по-настоящему смешно только в том случае, если он сломает ногу”. Доска объявлений в доме номер 13 по Бевингтон-роуд нередко была украшена замечательными записками, составленными на той неповторимой разновидности английского, которой пользовался Хуан: “Какой негодяй укрыл мои отверстия?” (“Кто взял мой шаблон для черчения кругов разного диаметра?”)
Жизнь преподавателя – стипендиата оксфордского колледжа во многих отношениях сказочна. Я получил кабинет в потрясающем средневековом здании из оолитового известняка, окруженном славящимися своей красотой садами, деньги на книги, жилищную субсидию и бесплатное питание (но не бесплатное вино – вопреки слухам, распускаемым завистниками) в интересной и приятной компании ведущих специалистов по всевозможным предметам, кроме моего собственного. Ведущих специалистов по моему собственному предмету, в свою очередь, хватало на отделении зоологии, где я и проводил бльшую часть времени.
Я познакомился со странным миром разговоров за преподавательским высоким столом. После ужина иногда приносили “Книгу для записей пари в профессорской” – чтобы зафиксировать какой-либо новый спор или просмотреть старые записи, сделанные в том же манерном стиле, в каком велись сами застольные разговоры. Вот несколько отрывков из этой книги, начатой еще в двадцатых годах, когда самым заядлым спорщиком был блистательный и эксцентричный математик Годфри Гарольд Харди, чье чувство юмора, вызывающее в памяти произведения Льюиса Кэрролла, судя по всему, было заразительным и передавалось его коллегам:
(7 февр. 1923 г.) Заместитель директора спорит с проф. Харди на все свое состояние до самой смерти против полпенни, что завтра взойдет солнце.
(6.8.27) Проф. Харди спорит с м-ром Вудвардом на 10 000 против 1 монетами по полпенни, что он (проф. Харди) не будет следующим президентом Магдален-колледжа, и м-р Вудвард спорит с проф. Харди на 1 против 5000, что он (м-р Вудвард) не будет следующим президентом Магдален-колледжа.
(февр. 1927) Профессор Харди спорит с м-ром Кридом на 2/6[100] против 1/6, что новая редакция “Книги богослужения” будет провальной. Рассудят в случае надобности м-р Смит, м-р Кассон и м-р Вудвард.
Меня забавляет, что предметом пари могло стать столь очевидно оценочное суждение. Неудивительно, что людей, которых назначили рассудить при необходимости спор, было нечетное число.
Еще в одном пари даже размер ставки оставлен неопределенным:
(2 дек. 1923) Профессор Тернер спорит с экономом профессорской на большую сумму, что хорошо будет иметь в профессорскойэкземпляр алфавитного железнодорожного справочника (лондонского). (Выиграл проф. Тернер, А. Г. С.)
(15 февр. 1927 г.) М-р Кокс спорит с проф. Харди на 10/– против 1/-, что преп. каноник Кокс (Фред) не будет следующим епископом Ньясаленда.
Мне безумно нравится взятое в скобки имя Фред. К сожалению, результат этого пари не был записан. Интересно было бы узнать, возглавил ли “епископ Фред” епархию страны, где я жил в детстве. Гугл не помог мне найти ответ на этот вопрос, но позволил узнать, что в XIX веке одним из епископов Ньясаленда был Чарльз Алан Смитис, который вполне мог состоять в родстве с семью поколениями моих предков Смитисов – приходских священников.
(11 марта 1927 г.) М-р Йорк спорит с м-ром Коксом на 2/6, что в Евангелии от св. Матфея нет стиха, буквальное толкование которого оправдывало бы или поощряло самокастрацию. (Выиграл м-р Кокс.)
(26 октября 1970) Проф. сэр А. Айер спорит с м-ром Кристиансеном, что наш капеллан не сможет, если не предупредить его заранее, воспроизвести 12 из 39 молитв “Книги общественного богослужения”. Ставка – бутылка кларета.
(24 нояб. 1985) Капеллан спорит с д-ром Ридли на бутылку кларета, что на ужине по случаю визита епископа Лондонского д-р Беннетт будет в пасторском воротнике. (Выиграл капеллан.)
(4 августа 1993 г.) М-р Докинз спорит с м-ром Рейном на 1 фунт стерлингов, что Бертран Рассел был женат на леди Оттолайн Моррелл. Рассудит мадемуазель Брюно. (Проиграл и заплатил Докинз, 20 лет спустя.)
Такие пари, как последнее, более невозможны, потому что справки о любом подобном факте можно моментально навести с помощью смартфона, не вставая со своего кресла в профессорской. Но даже тогда едва ли нужно было назначать человека, чтобы рассудить спор о таком вполне конкретном факте.
Но вернемся в семидесятый, когда мне было 29 и я лишь недавно прибыл обратно в Оксфорд. Поющий “Эллиотт” к тому времени уже отправился туда, куда уходят все создания из кремния, но закон Мура и исследовательский грант, которым меня годом раньше заманили в Оксфорд, дали мне возможность обзавестись “собственным” компьютером, PDP-8, превосходившим “Эллиотт” по всем параметрам, кроме размеров и цены. Также в соответствии с законом Мура (который уже хорошо выполнялся в те времена) возможности того компьютера были намного меньше, а размеры намного больше, чем у современного ноутбука. Кроме того, как то ни смешно, к нему прилагался журнал учета, в который нужно было записывать время каждого включения (чего я и не думал делать). Этот компьютер был для меня радостью, гордостью и ценным источником данных. Я был единственным программистом в нашей группе на Бевингтон-роуд, что отнимало у меня немало времени, но теперь, когда я мог по-настоящему отдаться своей компьютерной зависимости, мне больше не приходилось делать это по ночам, как было во время моего постыдного романа с “Эллиоттом”.
До этого я пользовался языками только высокого уровня – простыми в обращении, которые компьютер переводит на свой собственный бинарный машинный язык. Но теперь, чтобы использовать PDP-8 как орудие исследований, от меня требовалось овладеть его двенадцатибитным машинным языком, и я увлеченно погрузился в его изучение. Первым проектом, для которого я написал программу в машинном коде, было создание “оргна Докинза” – устройства для регистрации поведения животных, аналогичного “системе получия данных” Джорджа Барлоу, но во много раз более дешевого. Идея была в том, чтобы сделать клавиатуру, которой наблюдатель сможет пользоваться в полевых условиях, нажимая на клавиши, соответствующие различным действиям наблюдаемого животного. Каждое такое нажатие будет записываться на магнитофонной ленте, с которой компьютер впоследствии автоматически считает информацию о точном времени каждого действия.
Моя клавиатура была не чем иным, как самодельным электронным органом, все клавиши которого играли разные ноты (слышные только магнитофону). Сделать эту часть системы было довольно просто. В ящик помещался простой двухтранзисторный генератор импульсов, частота которых регулировалась сопротивлением. Каждая клавиша была связана со своей катушкой сопротивления и поэтому генерировала звук своей высоты. Наблюдатель мог брать этот орган с собой в поле и наблюдать за поведением животных, подобно специалисту по анализу рабочего времени, нажимая ту или иную клавишу в зависимости от наблюдаемой формы поведения. Получаемая в итоге магнитофонная запись последовательности нот будет записью изменений поведения животного во времени. Человек с хорошим музыкальным слухом, прослушивая такую запись, в принципе мог бы улавливать, какая именно клавиша была нажата в каждый конкретный момент, но от этого было бы мало пользы. Вместо такого человека с хорошим слухом мне хотелось использовать компьютер. Это можно было сделать с помощью электронного приспособления, включающего ряд настроенных на определенную частоту детекторов, но такое приспособление было бы и сложным в изготовлении, и дорогостоящим. Нельзя ли было добиться того же исключительно с помощью компьютерной программы?
Я обсуждал эту проблему со своим тогдашним компьютерным гуру Роджером Эбботтом, способным инженером (а также, кстати, органистом), работавшим по большому исследовательскому гранту у профессора Прингла, и Роджер предложил остроумное решение. Каждой ноте соответствует определенная длина звуковой волны. Компьютеры работают (и работали, даже в те времена) настолько быстро, что за время, проходящее между гребнями звуковых волн, могут выполняться сотни циклов программы. Роджер предложил мне написать в машинном коде программу, которая позволит регистрировать продолжительность таких промежутков, то есть будет работать подобно секундомеру, подсчитывая, сколько циклов программы успевает пройти за время от одного до другого гребня волны (среднее значение величины, обратной этому показателю, будет соответствовать частоте – высоте звука). Как только звук данной высоты смолкает (когда со времени предыдущего пика проходит больше определенного периода времени), компьютер может заметить время этого события, а затем ждать, когда раздастся следующая нота. Иными словами, такие циклы можно использовать не только для распознавания высоты ноты, но также, в намного большем временнм масштабе, для измерения продолжительности звучания каждой ноты и промежутков между ними.
После того как эта основа была готова, мне оставалось только потрудиться над написанием и отладкой удобной в использовании программы. На это ушло довольно много времени, но в итоге мне удалось добиться успеха. Орган Докинза неплохо показал себя в работе. Каждый сеанс его использования начинался с воспроизведения записанной на магнитофонную ленту гаммы – всех нот, издаваемых органом, проигранных в порядке возрастания высоты. С помощью этой гаммы осуществлялась калибровка программы – “обучение” компьютера набору нот, которые ему предстояло распознавать. После калибровки (завершаемой нажатием клавиши, соответствующей первой ноте гаммы) на той же магнитофонной ленте записывалась последовательность нот, соответствующая действиям животного, за которым велись наблюдения. Система калибровки была хороша тем, что не требовала точной настройки органа: для регистрации поведения животного можно было использовать любой набор нот, достаточно сильно отличающихся друг от друга, потому что компьютер быстро “научался” их распознавать.
Итак, когда исследователь приносил из полей магнитофонную запись и проигрывал ее компьютеру, тот точно узнавал, что и когда делало животное, за которым велись наблюдения. В основе программы лежал цикл, занимающий определенное время, но программа также включала в себя существенное количество кода, позволяющего выбивать на перфоленте названия всех наблюдаемых форм поведения и точных сроков, в которые каждая из них наблюдалась.
Я опубликовал об органе Докинза статью[101] и сделал свою программу доступной бесплатно для всех желающих. В течение следующих нескольких лет органами Докинза пользовались многие мои коллеги из оксфордской группы исследований поведения животных, а также некоторые этологииз других стран, в частности из университета Британской Колумбии.
Моя зависимость от программирования в машинном коде прогрессировала и зашла довольно далеко. Я даже разработал свой собственный язык BEVPAL и написал руководство для программирования на нем, оказавшееся практически бесполезным, потому что этим языком не пользовался никто, кроме меня и (недолго) Майка Каллена. Именно такую зависимость, как та, что выработалась у меня, хорошо высмеял Дуглас Адамс. Предметом его сатиры был программист, которому нужно было решить конкретную задачу X. Он мог за пять минут написать программу, которая позволила бы найти решение данной задачи и перейти к следующему делу. Но вместо этого он потратил не один день и не одну неделю на написание более общей программы, которую мог бы использовать кто угодно для решения любой задачи того же типа. В подобной работе привлекает вовсе не возможность найти решение конкретной задачи, а именно сила обобщения и то удовлетворение, которое приносит создание красивой и удобной программы, доступной для всех предполагаемых (и, весьма вероятно, несуществующих) пользователей. Один из симптомов подобной компьютерной зависимости выражается в том, что всякий раз, когда страдающий ею программист решает ту или иную частную задачу и заставляет компьютер проделать очередной цикл вычислений, ему хочется выбежать на улицу и зазвать к себе первого попавшегося прохожего, чтобы показать ему, как красиво этот цикл работает.
Примерно в то же самое время группа исследователей поведения животных покинула небольшую пристройку на Бевингтон-роуд с ее плодотворной атмосферой товарищества и переехала в свежепостроенный корпус зоологии и психологии – жуткое сооружение на Саут-Паркс-роуд, похожее на военный корабль. Это здание в то время неофициально называли “крейсер ‘Прингл’” в честь амбициозного профессора, убедившего администрацию университета его построить, но не сумевшего уговорить ее сделать новый корпус похожим на карандаш небоскребом, который возвышался бы над воспетыми Мэтью Арнольдом “дремлющими шпилями” и катастрофически испортил облик Оксфорда. Я не уверен, что поступил правильно, приняв участие в успешной кампании по официальному переименованию “крейсера” в корпус имени Тинбергена, потому что, по мнению многих, это самое уродливое здание во всем Оксфорде. О многом говорит уже тот факт, что оно получило архитектурную премию Железобетонного общества.
Примерно тогда же я опубликовал небольшую заметку в журнале “Нейчур”[102]. Каждый день у нас в мозгу умирают сотни тысяч нервных клеток, и уже в 29 лет меня это расстраивало. Мой одержимый дарвинизмом разум искал утешения в мысли о том, что если смерть этих клеток неслучайна, то их кажущееся массовое истребление может быть даже конструктивным, а не чисто деструктивным процессом:
Когда скульптор превращает однородную глыбу мрамора в сложную статую, он отсекает, а не добавляет материал. Электронное устройство, обрабатывающее данные, скорее всего, будет состоять из соединенных сложным образом компонентов, и его дальнейшее усложнение может быть вызвано увеличением числа связей между ними. Вместе с тем такое устройство вполне реально соорудить, начав с огромного числа связей, даже случайных, систему которых впоследствии можно сделать более осмысленной, избирательно перерезая лишние провода.
‹…›
Выдвинутая здесь теория может на первый взгляд показаться неправдоподобной. Но если задуматься, ее кажущаяся неправдоподобность связана прежде всего с той невероятной аксиомой, на которой она зиждется, а именно с представлением о том, что число нервных клеток ежедневно и с большой скоростью сокращается. Но поскольку эта аксиома, какой бы невероятной она ни была, есть твердо установленный факт, данная теория не добавляет к тому, что нам известно, ничего неожиданного и – даже напротив – предполагает, что процесс гибели нервных клеток не так расточителен, как может показаться. Весь вопрос в том, случайна ли гибель нейронов или избирательна и обеспечивает ли сохранение информации.
Эта заметка была для меня лишь единичным отступлением от моих основных занятий. Пожалуй, она представляет некоторый интерес как ранний пример теории вошедшего впоследствии в моду так называемого апоптоза. [103] (сам термин был предложен год спустя, так что я его, разумеется, не использовал).
Мэриан вскоре получила свою докторскую степень, и мы с ней начали работу над совместным проектом, выросшим из многочисленных разговоров (взаимных консультаций) времен нашей жизни в Беркли. Мы запланировали исследование, призванное проиллюстрировать одну из фундаментальных концепций этологической школы исследований поведения животных – концепцию фиксированных последовательностей действий – и внести в нее ясность.
Лоренц, Тинберген и их последователи считали, что поведение животных во многом состоит из последовательностей небольших программ – фиксированных последовательностей действий (ФПД), напоминающих работу заводных игрушек. Считалось, что каждая ФПД так же постоянна, как любая анатомическая структура, например ключица или левая почка. Разница между ними лишь в том, что почка или ключица вещественны и занимают место в пространстве, а ФПД существует во времени: ее нельзя взять в руки и положить в ящик, можно лишь наблюдать за ее ходом. В качестве одного из общеизвестных примеров ФПД можно назвать движения морды собаки, зарывающей кость. Собака совершает точно такие же движения и тогда, когда кость лежит на ковре, где нет земли, в которую ее можно зарыть. Собака при этом действительно похожа на очаровательную заводную игрушку, хотя направление ее движений может в какой-то степени меняться в зависимости от положения кости.
У любого животного имеется определенный набор ФПД. Похожий принцип лежит в основе устройства куклы, которую заводят, потянув за шнурок, после чего она говорит одну из фраз, случайным образом выбираемых из некоего ограниченного репертуара. Когда фраза выбрана, кукла проговаривает ее до конца и не переключается посреди нее на какую-либо другую. Выбор конкретной фразы из дюжины возможных непредсказуем, но, когда он сделан, дальнейшее развитие событий вполне предсказуемо. Так представляли себе работу ФПД и мы с Мэриан, будучи этологами тинбергеновской школы. Но так ли это на самом деле? На этот вопрос нам и хотелось ответить – точнее, нам хотелось переформулировать его таким образом, чтобы на него можно было дать однозначный ответ.
Теоретически непрерывный ход поведения любого животного может быть записан как последовательность мышечных сокращений. Но если теория ФПД верна, то действия животного должны быть настолько предсказуемы, что запись всех сокращений мышц (если это вообще возможно) оказалась бы трудоемкой и напрасной. Вместо этого можно просто записать все ФПД, тогда последовательность ФПД (исходя из утрированной версии данной теории) и будет полным описанием поведения животного.
Но так должно быть лишь в том случае, если ФПД действительно аналогичны органам или костям, – иными словами, если каждая такая последовательность действий совершается полностью, не прерываясь на середине и не смешиваясь ни с какой другой последовательностью. Нам с Мэриан хотелось найти способ оценить, в какой степени это положение теории ФПД верно. Темы наших диссертаций были по-своему связаны с принятием решений, и для нас казалось естественным перевести проблему ФПД на язык принятия решений. Говоря этим языком, животное принимает решение запустить ту или иную ФПД, но после запуска каждая ФПД осуществляется до конца, и во время ее осуществления никакие решения уже не принимаются. По завершении ФПД в поведении животного наступает период неопределенности, продолжающийся до принятия нового решения запустить (и завершить) ту или иную ФПД.
Мы решили изучить это явление на конкретном примере поведения цыплят, когда они пьют воду, и надеялись, что этот случай окажется репрезентативным[104]. Птицы (за исключением голубей, которые просто всасывают воду) пьют, совершая последовательность действий, напоминающую изящное глиссандо и создающую отчетливое субъективное впечатление, что ее запускает конкретное решение, после которого она всегда осуществляется от начала до конца. Но можно ли было подтвердить это субъективное впечатление достоверными данными?
Мы снимали пьющих цыплят на кинопленку в профиль, а затем анализировали их поведение кадр за кадром, чтобы разобраться, можно ли установить “структуру принятия решений” такого поведения. Мы измеряли координаты положения головы на каждом кадре и вводили их в компьютер. Идея была в том, чтобы установить степень предсказуемости каждого следующего кадра, исходя из положения головы на предыдущих кадрах.
На следующей странице показаны графики изменений высоты глаза у одного и того же цыпленка во время трех последовательностей действий, которые он совершал, когда пил воду. Все три графика наложены друг на друга так, чтобы на них совпадал момент соприкосновения клюва с водой (ноль на оси времени). Если посмотреть на эти графики, складывается ощущение, что с этого момента (и даже незадолго до него) поведение цыпленка стереотипно и предсказуемо, но более ранний этап движения головы вниз варьирует сильнее и зависит от принимаемых решений, позволяющих цыпленку приостановить движение и даже (как мы показали в другой серии экспериментов) отказаться от питья воды.
Но как можно количественно оценить эту предсказуемость? Один из способов сделать это изображен на графике на следующей странице. На нем тоже представлена последовательность действий цыпленка, пьющего воду, но от каждой точки, отражающей положение глаза на каждом кадре, отходят стрелки, длины которых пропорциональны вероятности (рассчитанной по данным о многих цыплятах, много раз пивших воду) того, что на следующем кадре высота глаза будет меньше, больше или такой же.
Из графика видно, что во время движения головы цыпленка вверх, когда он дает воде стекать ему в горло, велика вероятность того, что это плавное движение вверх продолжится и далее. Цыпленок в данном случае осуществляет решение выполнить соответствующую ФПД, во время выполнения которой никакие другие решения не принимаются. Но во время движения головы вниз дальнейшее поведение цыпленка прогнозировать сложнее. На каждом следующем кадре, сделанном в ходе такого движения, высота глаза может уменьшиться, а может и остаться прежней, и существует даже некоторая вероятность, что она увеличится, то есть что цыпленок откажется от намерения пить воду.
Можно ли рассчитать на основе таких стрелок некий индекс неопределенности (степени зависимости от принимаемых цыпленком решений)? Тот индекс, который мы в итоге выбрали, был взят из теории информации, разработанной в сороковых годах XX века изобретательным американским инженером Клодом Шенноном. Количество информации в том или ином сообщении можно образно определить как “степень удивительности”. Эта степень представляет собой удобную в использовании противоположность степени прогнозируемости и может быть проиллюстрирована двумя классическими примерами: утверждением “В Англии идет дождь” (количество информации маленькое, потому что в этом нет ничего удивительного) и утверждением “В пустыне Сахара идет дождь” (количество информации большое, потому что сообщается нечто удивительное). Для удобства расчетов Шеннон предложил использовать коэффициент, измеряемый в битах (bit – сокращение от binary digit, “двоичная цифра”) и определяемый как сумма логарифмов (по основанию 2) априорных вероятностей всего, что до получения сообщения вызывало сомнения. Количество информации в сообщении о результате подбрасывания монетки составляет один бит, потому что априорная неопределенность составляет (оба альтернативных результата, “орел” или “решка”, равновероятны). Количество информации в сообщении о масти вытянутой из колоды карты составляет два бита (альтернативных результатов четыре, а двоичный логарифм от четырех равен двум, что соответствует минимальному числу вопросов, предполагающих ответ “да” или “нет”, которые требуется задать, чтобы узнать масть вытянутой карты). Основной массив примеров, касающихся событий реальной жизни, не так прост, и возможные исходы обычно не равновероятны, но принцип в большинстве из них работает тот же, а количество информации в сообщении об исходе события удобно рассчитывать по одной из разновидностей той же формулы. Именно в связи с удобством подобных расчетов мы и выбрали в качестве меры предсказуемости (или неопределенности) информационный индекс Шеннона.
Рассмотрим еще один график (на следующей странице), показывающий изменения высоты глаза цыпленка, пьющего воду. Тонкие линии соответствуют периодам низкой прогнозируемости, то есть высокой вероятности принятия цыпленком решения, которое повлияет на его дальнейшее поведение. Жирные линии, в свою очередь, соответствуют периодам высокой прогнозируемости (когда количество информации в сообщении о положении глаза меньше условного порогового значения в 0,4 бита), во время которых цыпленок осуществляет принятое решение, а новых решений, скорее всего, не принимает. Движение головы вверх, когда оно уже началось, оказывается высоко прогнозируемым, а движение вниз – нет. Неподвижность головы цыпленка в промежутке между эпизодами питья воды высоко прогнозируема по той банальной причине, что если цыпленок в тот или иной момент неподвижен, он, скорее всего, будет неподвижен и в следующем кадре (момент начала следующего эпизода питья прогнозировать трудно).
Здесь, как всегда, не следует забывать о том, что та или иная конкретная форма поведения (в данном случае – питье воды) интересовала нас не сама по себе. Поведение цыплят, пьющих воду, мы рассматривали как пример поведения вообще, точно так же, как я рассматривал в ходе работы над диссертацией поведение цыплят, клюющих мишени разного цвета. Мы хотели разобраться в самом принятии решений, а также (в случае с питьем воды) в том, можно ли выявить момент принятия решения, и пытались найти способ продемонстрировать само существование фиксированных последовательностей действий, не считая его не требующим доказательств, как это было принято у этологов.
В своем следующем проекте, тоже посвященном принятию решений, мы воспользовались другим подходом. Теперь мы обратились к действиям, совершаемым падальными мухами, когда они чистятся. Этологи часто задаются вопросом, можно ли в том или ином случае прогнозировать дальнейшее поведение животного по его поведению в настоящий момент. Мы с Мэриан хотели выяснить, бывает ли так, что поведение животного в ближайшем будущем прогнозировать сложнее, чем его поведение в более отдаленном будущем. Это возможно, например, если поведение устроено как человеческая речь. Бывает так, что по началу предложения проще прогнозировать его окончание, чем середину (в которую можно вставить сколько угодно определительных придаточных предложений). Например, начало предложения “Девушка ударила по мячу” требует некоторого окончания независимо от того, будут ли в середине добавлены какие-либо прилагательные, наречия и придаточные предложения: “Девушка с рыжими волосами, живущая в соседнем доме, с силой ударила по мячу”.
В действиях чистящихся мух нам не удалось выявить свидетельств устройства, подобного грамматической структуре языка (впрочем, см. ниже). Но нам удалось выявить интересную зигзагообразную кривую снижения прогнозируемости дальнейшего поведения. Иными словами, мы установили, что ближайшее будущее действительно может труднее прогнозироваться, чем немного более далекое. Чтобы не вдаваться в сложные подробности, я расскажу здесь об этом исследовании лишь вкратце.
Обычно мух не считают красивыми, но они выглядят довольно мило, когда “умываются”, очищая себе голову и лапки. Обратите на это внимание, когда на вас в следующий раз сядет муха. Вполне вероятно, что вы сможете увидеть такое поведение. Муха при этом обычно либо трет передние ноги друг о друга, либо протирает ими свои огромные глаза. Кроме того, она может тереть средней ногой о заднюю, расположенную с той же стороны тела, или чистить брюшко или крылья задними ногами. Где-то внутри ее крошечной голвы спонтанно принимаются решения, довольно многие из которых определяют, какую именно часть тела муха будет чистить в дальнейшем. Нас с Мэриан привлекало прежде всего то, что на выбор мухой дальнейших действий, по-видимому, не влияют никакие внешние факторы. Мы исходили из того, что внешняя стимуляция ограничивается постоянной необходимостью поддерживать тело в чистоте – постоянной, но при этом, по-видимому, не определяющей точный момент выбора тех или иных действий чистящейся мухи. Грязные крылья затрудняли бы полет, а грязь на ногах – работу чувствительных вкусовых рецепторов, расположенных на лапках и используемых мухой при принятии решений о том, высовывать ли хоботок и начинать ли питание. Поэтому такое поведение играет важную роль в жизни мух. Но решение, какую часть тела очищать, предположительно не определяется внезапным появлением на теле нового комочка грязи. Мы полагали, что быстрые, сиюминутные решения о дальнейших действиях по очистке возникают независимо от внешних влияний – за счет невидимых колебаний, происходящих в глубине нервной системы.
Мы выделили восемь разных форм поведения чистящихся мух и исходили из предположения, что если бы у нас было время проанализировать эти действия кадр за кадром, как мы делали с движениями цыплят, пьющих воду, то каждая из этих форм поведения тоже оказалась бы ФПД: ПТ (передние лапки трутся друг о друга), ХБ (хоботок трется между передними лапками), ГЛ (голова протирается передними лапками), ПС (одна из средних лапок трется между передними), ЗС (одна из средних лапок трется между задними), ЗЛ (задние лапки трутся друг о друга), БР (брюшко трется задними лапками) и КР (крылья трутся задними лапками). С помощью органа Докинза мы записывали последовательности этих восьми форм поведения, а также еще двух: УХ (уход мухи из места наблюдения) и НЕ (неподвижность).
На приведенном ниже графике показана вероятность того, что муха, в данный момент делающая ГЛ, будет делать ПТ сразу после этого (“задержка” = 1, вероятность очень высокая), после одной иной формы поведения (“задержка” = 2, вероятность очень низкая), после двух иных форм поведения (вероятность высокая), после трех иных форм поведения (вероятность низкая) и так далее. Здесь налицо тенденция к чередованию форм поведения, а также (как и можно было ожидать) к постепенному затуханию прогнозируемости происходящего в более далеком будущем, после более долгой “задержки”.
На этом графике показан именно данный случай – ПТ после ГЛ. Мы начертили такие же графики для всех возможных переходов и собрали их в таблицу (приведенную на следующей странице).
Из таблицы видно, что графики многих переходов демонстрируют такое же зигзагообразное затухание, хотя некоторые из них находятся ровно в противофазе с другими. В нижнем ряду (НПР) показана степень неопределенности прогнозирования, рассчитанная с помощью информационного индекса Шеннона, – тем же способом, что и в исследовании, посвященном цыплятам, которые пили воду.
В ходе этого исследования мы также провели эксперимент со считыванием полученной с помощью органа Докинза информации на слух. Для этого мы использовали записи наблюдений за поведением чистящихся мух, удалив с помощью написанной мною компьютерной программы реальные промежутки между нотами и заменив их одинаковыми промежутками стандартной продолжительности. После этого мы просто прослушивали полученную “музыку”. Она была чем-то похожа на модерн-джаз (больше, чем на традиционный джаз), а также на “пение” компьютера “Эллиотт”, за которым я в юности провел не одну бессонную ночь, и мне представляется любопытной эта аналогия. Я полагал, что человеческий слух может оказаться перспективным устройством для считывания информации о поведении животных, но не стал всерьез разрабатывать эту тему и пишу здесь о ней лишь как об интересной диковинке. Если бы в то время существовал интернет, я наверняка загрузил бы в сеть музыку умывающихся мух, и под нее теперь можно было бы танцевать. Но никакого интернета тогда не было, и теперь эти “Мелодии двукрылых”, боюсь, утрачены навсегда, как “Потерянный аккорд”.
Я не стану утверждать, будто наше исследование мух, как и предшествовавшие ему другие исследования, посвященные принятию решений у животных, многое говорит нам о реальных механизмах работы мозга. Я считаю эти исследования скорее методологическими, но проливающими свет не только на методы изучения поведения животных, но и на методы работы мышления. Мы с Мэриан провели и целый ряд других работ, посвященных мухам, но все они опубликованы, поэтому здесь я не буду о них рассказывать. Стоит, однако, отметить, что я использовал их результаты в своем следующем большом проекте – теоретической работе “Иерархическая организация как один из возможных базовых принципов экологии”.
Тем временем в 1973 году Нико Тинберген получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине (которую разделил с Конрадом Лоренцем, основавшим вместе с Нико науку этологию, и Карлом фон Фришем, расшифровавшим легендарный танец пчел[105]). Всего год спустя, в 1974-м, Нико исполнилось 67 – возраст, в котором сотрудники Оксфорда обязаны уходить на пенсию, и администрация университета решила назначить ему преемника на должность ридера по поведению животных. Когда-то должность такого ранга была в Оксфорде в большой чести, но теперь это звание, кажется, вышло из употребления, оттого что понятие “профессор” решили привести в соответствие с американской практикой, трактующей его шире (в связи с чем американских профессоров у нас довольно пренебрежительно называли “микки-маусовскими профессорами”). Меня вполне устраивала моя работа лектора, поэтому на должность Нико я не претендовал.
По мнению большинства, на место Нико естественнее всего было назначить Майка Каллена. Возможно, именно поэтому – чтобы явно открыть новую страницу в истории отделения зоологии, – бльшая часть членов комиссии, принимавшей соответствующее решение, проголосовала за Дэвида Мак-Фарленда. Как писал Ханс Круук в уже упоминавшейся биографии Тинбергена, “трудно было найти человека, более непохожего на Нико”. Хотя во многих кругах это назначение встретили в штыки, в каком-то смысле оно было удачным, по крайней мере если исходить из того, что новое назначение должно открывать новые перспективы. Научная деятельность, которой занимался Дэвид, была в высшей степени теоретического и даже математического свойства. Он активно использовал в ней свою математическую интуицию и окружил себя профессиональными математиками и инженерами, умевшими работать с формулами и расчетами. Разговоры в кофейной комнате переключились с чаек и колюшек на системы управления с обратной связью и компьютерные модели.
Пожалуй, эти изменения отражали в миниатюре происходящее в то время в биологии в целом. Я был молод, еще не утвердился на собственном пути и действовал по принципу: “Не можешь победить – присоединяйся”. Поэтому я стал учиться теории управления у инженеров и математиков, среди которых теперь оказался. А ведь лучший способ чему-либо научиться – заняться этим на практике. Поэтому я вернулся к своей страсти (или вредной привычке) – к программированию и написал для цифрового компьютера (“моего собственного” PDP-8) программу, которая позволяла ему вести себя как аналоговый компьютер. Для этого я разработал еще один язык программирования, который назвал SysGen.
В отличие от выполняемых последовательно команд обычных языков программирования, таких как Фортран, команды языка SysGen выполнялись “одновременно” (на самом деле, разумеется, не одновременно, потому что в основе работы любого цифрового компьютера лежит последовательное выполнение операций, но записать такие команды можно было в любом порядке). Работая над программой-интерпретатором SysGen Interpreter, я ставил перед собой задачу заставить цифровой компьютер вести себя так, как если бы он выполнял операции одновременно, то есть создать виртуальный аналоговый компьютер. Результаты работы при этом отображались, как и положено аналоговому компьютеру, в виде набора кривых на экране осциллографа.
<>Не знаю, насколько практичным был SysGen, но создание этого языка и написание для него программы-интерпретатора, несомненно, помогли мне разобраться не только в теории управления, но и в интегральном исчислении и позволили намного лучше понять суть интегрирования. Я помнил, что мой дедушка по материнской линии рекомендовал мне книгу “Математический анализ в доступном изложении” Сильвануса Томпсона (излюбленные слова которого – “Что может один дурак, может и другой” – я уже цитировал). В этой книге Томпсон начинает объяснение интегрирования с еще одной запомнившейся мне фразы: “Итак, давайте не будем терять времени и немедленно научимся интегрировать”. На уроках Эрни Дау я разобрался в интегрировании лишь отчасти, а работа над языком SysGen позволила мне вникнуть в этот предмет на практике, что всегда способствует пониманию.Исходя из похожих соображений, я попытался на практике разобраться и в лингвистических теориях школы Ноама Хомского, что оказалось намного проще и отняло у меня намного меньше времени. Для этого я написал компьютерную программу, генерирующую случайные предложения – быть может, не особенно осмысленные, но всегда грамматически корректные. Сделать это нетрудно (что само по себе говорит о многом), если использовать язык программирования, позволяющий процедурам (подпрограммам) рекурсивно обращаться к самим себе. К таким языкам относился Алгол-60, ставший к тому времени моим любимым языком программирования под влиянием Роджера Эбботта, блестяще преуспевшего в написании программы-компилятора, которая позволяла использовать Алгол на компьютере PDP-8. Подпрограммы Алгола могли обращаться к самим себе, в отличие от подпрограмм современной версии разработанного корпорацией IBM Фортрана – этого традиционного орудия программистов, работающих в естественных науках. По поводу Фортрана мне вспоминается удачная программистская шутка, которую я услышал от Терри Винограда – одного из первопроходцев в области искусственного интеллекта. В семидесятых годах я как-то раз был в Кембридже на интереснейшей конференции, посвященной последним успехам программирования в этой области. Самым почетным гостем той конференции был именно Виноград, и в ходе своего доклада он с отменным сарказмом заметил: “Хотя, быть может, вы из тех, кто говорит: «Фортран устраивал моего дедушку, устроит и меня»”.
Пользуясь языком программирования, позволяющим процедурам рекурсивно обращаться к самим себе, очень легко – просто загляденье как – написать программу, которая будет генерировать грамматически корректные предложения. В написанной мною программе процедуры назывались NounPhrase (ГруппаСуществительного), AdjectivalPhrase (ГруппаПрилагательного), PrepositionalClause (ПредложнаяГруппа), RelativeClause (ОпределительноеПридаточное) и так далее, и любая из них могла обращаться к любой другой, в том числе к самой себе. Эта программа позволяла генерировать случайные предложения, такие как следующее:
(Прилагательное существительное (прилагательного существительного (которое наречно наречно глаголилось (в существительном (существительного (которое глаголилось))))) наречно глаголилось)
Если провести аккуратный грамматический разбор такого предложения (что я и сделал здесь с помощью скобок, которые компьютер не генерировал, а только подразумевал), можно убедиться, что оно грамматически корректно, хотя и мало что может нам сообщить. Оно синтаксически наполнено, но семантически пусто. Компьютер может без труда наполнить его семантикой (если не смыслом), заменив слова “существительное”, “прилагательное” и так далее конкретными случайно выбранными существительными, прилагательными и другими частями речи. Это могут быть, например, слова, связанные с определенной темой, такой как порнография – или орнитология. Можно также использовать словарь пришедшего из Франции напыщенного метабреда, как впоследствии сделал Эндрю Булхак, когда написал свою уморительную программу “Генератор постмодернизма”, одно из произведений которой я цитировал в “Капеллане дьявола”:
Исследуя теорию капитализма, мы сталкиваемся с выбором: отвергнуть неотекстуальный материализм либо заключить, что социум имеет объективную ценность. Если справедливы положения диалектического деситуационизма, то необходимо выбрать между хабермасовским дискурсом и подтекстовой парадигмой контекста. Можно сказать, что субъект контекстуализируется в текстуальный национализм, который включает истину как реальность. В некотором смысле предпосылка подтекстовой парадигмы контекста гласит, что реальность происходит из коллективного бессознательного.
Смысла в этой случайным образом генерируемой чуши примерно столько же, сколько во множестве журналов, посвященных метабредням “теории литературы”, и программа Булхака способна генерировать в буквальном смысле бесконечное их количество.
Примерно в тот же период я занимался еще двумя проектами, связанными с программированием. Результаты этих проектов не нашли непосредственного применения на практике, но позволили мне развить навыки, пригодившиеся впоследствии. Первым было написание программы, позволяющей переводить с одного языка программирования на другой – прежде всего с Бейсика на Алгол-60. Для этих двух языков моя программа работала хорошо и, если изменить в ней некоторые детали, позволяла переводить с любого языка, использующего алгоритмы того же типа, на любой другой. Вторым проектом было написание программы STRIDUL-8, позволяющей компьютеру PDP-8 петь, как сверчок.
Я решил заняться сверчками под влиянием своего друга из Беркли нейробиолога Дэвида Бентли, а мой аспирант Тед Берк (теперь профессор в Небраске), имевший склонность к энтомологии, с энтузиазмом выбрал для своей диссертации связанную с ними тему. Дэвид любезно прислал мне яйца тихоокеанского сверчка Teleogryllus oceanicus. В Оксфорде насекомые вывелись из яиц, и мы завели у себя процветающую колонию, о которой заботился Тед, кормивший сверчков салатом-латуком. Пока Тед успешно занимался собственными исследованиями поведения питомцев, я затеял параллельный проект с использованием генерируемой компьютером песни ухаживания. Этот проект так и не был закончен, но мне, по крайней мере, удалось завершить программу STRIDUL-8, и она работала совсем неплохо.
Устройство, с помощью которого я изучал поведение сверчков, было не чем иным, как качелями, изготовленными из древесины бальсы и поэтому очень легкими, – какими они и должны быть, чтобы их мог приводить в движение сверчок. Они представляли собой всего лишь длинный желобок, перекрытый на концах и сверху сеткой и укрепленный посередине на единственной вращающейся оси. Для каждого опыта в желобок помещался только один сверчок, который мог свободно ходить по желобку из конца в конец так часто, как ему хотелось. Когда он переходил на другую половину желобка, качели, как положено, склонялись в другую сторону, и это регистрировалось микропереключателем, который (что существенно) при этом также менял положение источника звука на противоположное. У обоих концов качелей располагались два маленьких динамика. Песня ухаживания всегда звучала из динамика, расположенного на противоположном конце качелей по отношению к тому, ближе к которому находился сверчок. Итак, представьте, что вы самка сверчка, сидящая ближе к западному концу желобка. Со стороны восточного конца вы слышите песню. Вам она нравится, поэтому вы начинаете ползти на восток, в направлении ее источника. Но когда вы переползаете на восточную половину желобка, под действием вашего веса восточный конец качелей опускается вниз и приводит в действие микропереключатель, что регистрируется компьютером, прекращающим передавать песню из восточного динамика и начинающим передавать ее из западного. Тогда вы поворачиваетесь и идете на запад, где повторяется та же история. Таким образом, чем больше вам нравится песня, тем чаще происходят такие переключения, которые автоматически подсчитываются компьютером. Невозможно было сказать, думает ли при этом самка сверчка, что она следует на зов подсадного самца, положение которого постоянно меняют, или что самец по собственной прихоти прыгает у нее над головой, как невозможно было сказать, думает ли она вообще. Так или иначе, та песня, которая меньше нравилась самке, неизбежно вызывала меньше переключений, чем та, что нравилась ей больше. Более того, если песня была ей просто неприятна, самка так и оставалась с противоположной от динамика стороны желобка, и качели не меняли своего положения ни разу.
Вот какое устройство я использовал для измерения степени предпочтения разных песен сверчками. В течение пяти минут проигрывал песню A, затем песню B и так далее, много раз, в хорошо продуманном случайном порядке, с разными самками, подсчитывая число переключений, которое и рассматривалось как мера предпочтения той или иной песни. Чтобы попытаться разобраться (в лучших традициях школы Тинбергена), что именно в песнях своего вида нравится сверчкам, и нужны были генерируемые компьютером, а не настоящие песни. Компьютер позволял определенным образом методично менять проигрываемую сверчкам искусственную песню. Первоначальный замысел состоял в том, чтобы начать с компьютерного аналога настоящей песни данного вида, а затем менять ее (удаляя или усиливая те или иные фрагменты, меняя интервалы между трелями и так далее). Впоследствии у меня возникла идея (довольно смелая), что вместо этого можно запрограммировать компьютер так, чтобы он вначале генерировал песню случайным образом, а затем “научился”, как бы эволюционируя, шаг за шагом отбирать подходящие “мутации” до тех пор, пока не выработает искусственную песню, наиболее предпочтительную для сверчков. Разве не замечательно было бы, если бы эта песня в точности совпала с естественной песней Teleogryllus oceanicus, а потом, когда я сделал бы то же самое для другого вида сверчков, Teleogryllus commodus, компьютер выработал бы песню, совпадающую с песней второго вида, которая ощутимо отличается от песни первого? Какое счастье это было бы для исследователя!
Программируя компьютер на пение, я хотел добиться от него как можно большей изменчивости параметров генерируемых песен. В целом компьютеры неплохо справляются с подобными задачами. Как и в случаях с моделью аналогового компьютера и с программой, переводившей с одного языка программирования на другой, я хотел, чтобы мою программу можно было использовать для всех задач того же типа. Так и возникла STRIDUL-8, позволявшая генерировать любые последовательности звуковых импульсов и промежутков между ними, а значит, и песню любого сверчка на свете. В этой программе применялась интуитивно понятная система скобок, дающая пользователю возможность вводить в песню повторы, повторы в рамках повторов и так далее, по принципу, напоминающему грамматику языка (см. с. 270 и 277).
Моя программа неплохо работала. Генерируемая с ее помощью песня сверчка звучала для человеческого уха как настоящая и могла соответствовать естественной песне любого вида сверчков. Однако, когда на работу в Оксфорд прибыл из Эдинбурга один из лучших в мире специалистов по акустике насекомых доктор Генри Беннет-Кларк и ознакомился с моей программой, он скривил лицо и сказал: “Фи!” Дело в том, что она позволяла варьировать лишь последовательности звуковых импульсов, каждый из которых соответствовал одному движению трущихся друг о друга крыльев насекомого. Я даже не пытался добиться от своей программы, чтобы она позволяла воспроизводить реальные звуковые волны, возникающие при каждом движении крыльев. Именно это и вызвало у Генри такое неприятие. И он был прав. В своем нынешнем виде моя программа никак не могла воздать должное настоящим сверчкам, таким как трубачик обыкновенный, о песне которого Генри некогда писал, что, если бы можно было услышать лунный свет, он звучал бы именно так. Несколько обескураженный, я отложил свой проект с пением сверчков в долгий ящик и занялся более срочными делами (к примеру, поступившим из Кембриджа приглашением, потребовавшим от меня серьезного внимания). К сожалению, я так и не вернулся к этой работе и больше никогда уже не занимался сверчками. Мне не раз доводилось жалеть об этом. Наверное, у большинства ученых есть свои поводы для подобных сожалений – начатые, но так и не законченные проекты. Если когда-то впоследствии мне и приходила в голову мысль вернуться к своим сверчкам, осуществить ее мешал закон Мура. Компьютеры меняются столь стремительно, что, если оставить какой-либо компьютерный проект недоделанным так надолго, как я оставил свой, окажется, что все компьютеры стали намного лучше и современнее и ни на одном из них уже не будет работать старая программа. Сегодня разве что в музее мне удалось бы найти компьютер, на котором можно было бы запустить мою программу STRIDUL-8.
Грамматика поведения
Возглавляемая Тинбергеном оксфордская группа исследований поведения животных с давних пор поддерживала прекрасные отношения с соответствующим кембриджским подразделением, базировавшимся в деревне Мэдингли под Кембриджем. Группу из Мэдингли основал в 1950 году Уильям Хоман Торп – выдающийся ученый, столь чинно благородный, что напоминал духовное лицо. Его лучше всех охарактеризовал Майк Каллен, пошутивший, что, когда Торпу нужно записать птичью песню на бумаге, он делает ее переложение для органа. В 1975 году группа из Мэдингли отметила свое двадцатипятилетие проведенной в Кембридже конференцией, которую организовали Патрик Бейтсон и Роберт Хайнд, ставшие руководителями группы после ухода Торпа на пенсию, а впоследствии возглавившие два кембриджских колледжа. Многие из докладчиков, выступавших на той конференции, работали в Мэдингли в ту пору или ранее, но на нее были приглашены и некоторые специалисты из других учреждений. Мы с Дэвидом Мак-Фарлендом удостоились чести представлять на этом мероприятии Оксфорд.
В последнее время в тех редких случаях, когда я выступаю на подобных конференциях, я честно признаюсь, что, готовясь к своему докладу, обычно просто стираю пыль с предыдущего аналогичного доклада и освежаю его. Но в 1974 году я был моложе и активнее и взялся подготовиться к юбилейной конференции группы из Мэдингли всерьез, написав для своего выступления и для сборника материалов этого мероприятия нечто совершенно новое. Тема, которую я выбрал, – “Иерархическая организация” – давно стала предметом пристального внимания этологов. Эта тема была основной в одной из самых смелых (и самых критикуемых) глав знаменитого труда Тинбергена – книги “Изучение инстинкта”. Называлась эта глава “Попытка обобщения”. Я тоже попытался обобщить результаты исследований в этой области, хотя воспользовался при этом несколько другим подходом, или, точнее, несколькими другими подходами.
Суть иерархической организации, как я ее трактовал, выражается идеей “многоуровневой вложенности”. Эту идею я могу объяснить через ее противоположность, что и постараюсь сейчас сделать. Здесь есть что-то общее с грамматикой, обсуждавшейся выше. Ход тех или иных событий (например, действий некоего животного) можно попытаться описать через цепь Маркова. Что это такое? Я не стану давать здесь строгих математических определений, вроде того, которое дал в свое время русский математик Андрей Марков. Неформально, словами, цепь Маркова для поведения животного можно описать как последовательность, в которой действия животного в настоящее время определяются действиями, которые оно совершало в прошлом, за некое постоянное число шагов, но не ранее. В цепи Маркова первого порядка следующее действие животного можно спрогнозировать статистически, исходя исключительно из действия, которое непосредственно ему предшествовало, и не используя сведений ни о каких предпредшествующих действиях, обращение к которым нисколько не делает прогноз более точным. В цепи Маркова второго порядка обращение не только к предшествующему действию, но и действию, которое было до него, позволяет получить более точный прогноз, но сведения о действиях, совершенных еще раньше, ничего не дают. И так далее.
Иерархически организованное поведение устроено совсем иначе. Цепи Маркова (любого порядка) к нему неприменимы. Прогнозируемость такого поведения не убывает постепенно с течением времени, а интересным образом поскакивает и падает – как в случае с чистящимися падальными мухами, но еще интереснее. В некоем идеальном случае такое поведение состояло бы из отдельных блоков, в которые были бы вложены другие блоки, в которые, в свою очередь, были бы вложены третьи – и так далее. Именно это и понимается под многоуровневой вложенностью. Самый наглядный пример такой вложенности нам дает синтаксис – основа грамматики человеческого языка. Вспомним написанную мною программу, позволявшую случайным образом генерировать грамматически корректные предложения, и пример такого предложения, который я приводил:
Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, наречно глаголилось.
Главное предложение здесь выделено курсивом. Его можно прочитать само по себе, без вложенных придаточных предложений и предложной группы, и убедиться, что оно грамматически корректно. Возможно добавлять в это предложение новые и новые вложенные блоки, причем существенно, что добавлять их можно как непосредственно внутри главного предложения, так и внутри других вложенных в него блоков. Прочитайте про себя выделенные курсивом фрагменты:
Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, наречно глаголилось.
Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, наречно глаголилось.
Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, наречно глаголилось.
Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, наречно глаголилось.
Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, наречно глаголилось.
Во всех приведенных выше случаях выделенную курсивом часть мы можем прочитать отдельно от всего остального и убедиться, что она грамматически корректна. Все остальное можно удалить, и даже если при этом изменится смысл, на грамматической корректности это не скажется.
Если же добавлять новые блоки просто по порядку, слева направо, то получаемый текст не будет грамматически корректным предложением до тех пор, пока мы не дойдем до самого конца.
Прилагательное существительное [106]
Прилагательное существительное прилагательного существительного [107]
Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось [108]
Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном [109]
Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, наречно глаголилось [110]
Только в самом последнем случае предложение достигает завершения и становится грамматически корректным. Мне хотелось выяснить, устроено ли поведение животных по принципу цепи Маркова или же по принципу многоуровневой вложенности, например как синтаксис, или еще каким-либо способом, предполагающим многоуровневую иерархию. Как вы понимаете, некоторые намеки на идею, стоявшую за этой работой, были получены уже в ходе наших с Мэриан предшествующих исследований, посвященных пьющим цыплятам и особенно чистящимся мухам. Теперь же, в статье, которую я готовил для сборника материалов кембриджской конференции, мне хотелось рассмотреть вопрос иерархической организации обобщенно, в теоретическом плане, но при этом опираясь также на результаты реальных исследований поведения животных.
Определив разные типы иерархии в удобных терминах математической логики, я рассмотрел возможные эволюционные преимущества иерархической организации. Чтобы проиллюстрировать то, что я назвал “преимуществом скорости эволюции”, я воспользовался придуманной лауреатом Нобелевской премии по экономике Гербертом Саймоном притчей о двух часовщиках, которых звали Темпус и Хора [111]. Часы, которые они делали, работали одинаково точно, но Темпус тратил на изготовление часов намного больше времени. Изделия обоих часовщиков состояли из 1000 деталей. Хора, работавший производительнее, пользовался в своей работе иерархическим – модульным – принципом. Вначале он изготавливал из деталей модули, каждый из которых включал 100 деталей, а затем собирал из этих модулей часы. Темпус, в свою очередь, старался соединять друг с другом все 1000 деталей последовательно, в один присест. Если он случайно терял какую-то деталь или отвлекался на телефонный звонок, вся работа шла насмарку, и ему приходилось начинать сначала. Ему очень редко удавалось доделать часы, в то время как Хора, с его иерархическим модульным методом, штамповал их одни за другими. Принцип, иллюстрируемый этой притчей, хорошо знаком всем программистам и вполне приложим также к эволюции и построению любых биологических систем.
Превозносил я и еще одну сильную сторону иерархической организации – “преимущество управления на местах”. Пытаясь управлять империей из Лондона (или, в более давние времена, из Рима), центральные власти никак не могут непосредственно руководить всем, что происходит в дальних ее уголках, потому что каналы связи (в обоих направлениях) работают слишком медленно. Вместо этого они назначают многочисленных наместников, дают им общие указания о политике, которую следует проводить, и оставляют повседневные решения на их усмотрение. Тот же самый принцип приходится применять и при исследовании других планет с помощью автономных модулей. Расстояние между Землей и Марсом радиосигналы преодолевают за несколько минут. Предположим, что марсоход встречается на своем пути с препятствием, например каменной глыбой, и посылает на Землю сообщение, которое достигает центра управления через четыре минуты. Из центра срочно посылают ответ: “Повернуть налево, чтобы избежать столкновения”, – и этот ответ достигает марсохода еще через четыре минуты, когда он давно уже врезался в препятствие. Очевидное решение этой проблемы состоит в том, чтобы передать управление на месте бортовому компьютеру, снабдив его только общими указаниями, например такими: “Исследовать кратер на северо-западе, стараясь избегать столкновений со всеми встречающимися объектами”. Исходя из тех же соображений, если разные части Марса исследуются несколькими марсоходами, разумно передавать с Земли общие указания доставленному на Марс центральному компьютеру, который будет посылать более подробные директивы всем подчиненным ему марсоходам, координируя их деятельность, но оставляя принятие конкретных решений на местах бортовым компьютерам каждого из них. Подобные иерархические уровни используются также в армии, крупных корпорациях и, опять же, биологических системах.
В этой связи особенно радует пример гигантских динозавров, необычайно длинное туловище которых не позволяло головному мозгу быстро обмениваться сигналами с задней частью тела, где располагались огромные задние ноги, игравшие важную роль в передвижении. Естественный отбор решил эту проблему, наделив таких динозавров вторым, задним мозгом (разросшимся участком спинного мозга), расположенным в крестцовом отделе позвоночника:
- Вот динозавр: могуч как кит
- И справедливо знаменит –
- Не только ростом всем на страх,
- Но и за умственный размах.
- Пусть небольшая голова,
- Мозгов имел он целых два:
- Один – в коробке черепной,
- Другой же – сзади, под спиной.
- Умел он мыслить априорно,
- Умел и апостериорно.
- Он был немного тугодум,
- Но в нем был крепок задний ум,
- И мысли мудрые вполне
- Бежали по его спине.
- Когда один был ум без сил,
- Другой на помощь приходил.
- Один забудет что-нибудь –
- Другой всегда напомнит суть.
- Без задней мысли или с ней
- Он сам себя бывал умней
- И, не подумав пару раз,
- Не начинал вести рассказ.
- Любой вопрос был в силах он
- Обдумать сразу с двух сторон.
- Но много миллионов лет
- Его на свете больше нет.
Берт Лестон Тейлор
(1866–1921)
“Умело он мыслить априорно, / Умел и апостериорно,” – жаль, что не я это придумал. Не так-то много написано стихотворений, где почти каждая строчка искрится таким остроумием!