А зори здесь тихие… Васильев Борис
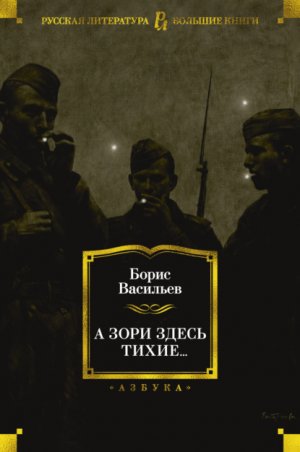
А голубой краской крыша у домика в сорок первом году была покрашена. Еле-еле младший лейтенант отыскал этот колер…
Но пока шагал он от дворцов к деревяшкам, думал совсем не о Марии Тихоновне, а об Артеме Ивановиче. Думал с уважением: сколько лет сидит среди книг в душной, плохо спланированной квартире тихий, незаметный работяга-ученый, давным-давно позабывший о том, что у людей есть законные выходные и отпуска. И еще с неудовольствием думал, что у папаши Анатолия, к примеру, дача есть, а вот у Артема Ивановича ничего нету, и что это очень несправедливо. И тут ему пришло вдруг в голову, что несправедливость эту устранить легче легкого: в деревне той, куда он через сутки уезжать собирался, домишко купить труда не составляло. И даже, думал он, даже и покупать-то не надо, а надо только потолковать с руководством колхоза, какой умный и полезный для деревни человек Артем Иванович, и колхоз – Ковалев в этом ни секундочки не сомневался – немедленно выделит ему дом и, возможное дело, даже будет отпускать молоко и картошку. И, обдумав это, Семен Митрофанович сразу повеселел и решил завтра же еще раз навестить Артема Ивановича и во что бы то ни стало уговорить его переселиться к ним в деревню хотя бы на три-четыре месяца в году.
И тут Ковалев во весь рот заулыбался, представив и Агнессу Павловну, и Артема Ивановича в деревне: вот это была бы компания на старости лет, вот это была бы жизнь. Думал он об этом вроде бы и всерьез, с удовольствием даже думал, а сам улыбался, еще и потому, что все это было только мечтой. А мечтать Семен Митрофанович любил, но всегда посмеивался над собой за такую особенность.
Однако на подходе к домику с голубой крышей он улыбочку с лица смахнул: хоть Мария Тихоновна, как оказалось, никакой бабой-ягой не являлась, все равно через порог этот он с улыбкой перешагивать не решался. Права не имел, если разобраться.
Вторично Ковалев за этот вечер чай пил: на сей раз настоящий – из самовара. Не мог он Марии Тихоновне в этом отказать и мужественно хлебал из стакана кипяток, сидя за тихим вдовьим столом на кухоньке.
– Конфеты берите, Семен Митрофанович. Пионеры вчера гостинец принесли.
– Спасибо, Мария Тихоновна. Вкусные конфеты.
– Володя шоколадные очень любил. И Коля. А Олежка с Юрой равнодушны к ним были. Я даже удивлялась, до чего равнодушны…
И это тоже в обязанность входило: слушать душеньку эту осиротелую. В сотый раз одно и то же слушать и вместе с нею переживать. Мелочь, пустяк, а старушке почти праздник: с кем же еще она о сынах-то своих поговорит, как не со старым человеком?…
– Дружные, просто на удивление дружные мальчики были. Ну, конечно, ссорились иногда, не без того. Но ссоры их никогда дальше порога не шли, и никто про это на улице и не знал…
Насчет этих воспоминаний Семен Митрофанович специально Степешко предупреждал. И водил его сюда трижды: для тренировки. Но Данилыч был человеком серьезным и сам понимал, где, как и кого слушать требуется.
– Они в первый же день решили, что будут в одном танке воевать. В первый же день, в воскресенье то. А сложно было: Володя уж действительную отслужил, а Колюше и семнадцати не было. И ни за что их вместе брать не хотели, и все: и райвоенком, и горвоенком – все только ругались. Вот тогда Олежка – он всегда все придумывал и в школе только на отлично учился, тогда Олежка и предложил написать письмо в Москву. Самому Сталину…
Все знал Семен Митрофанович. Все документы, все письма их наизусть выучил, но поддакивал, когда надо, и вздыхал, когда положено.
Что после человека на земле остается? Память? Нет, память – это надстройка, это штука непрочная. А фундамент у нее – дело, которым человек всю жизнь занимался. А если человек этот ничего сделать не смог? Если он, как этот Колька, в неполных девятнадцать свечкой в танке сгорел, тогда что?… А разве в бою свечкой сгореть – это не дело? Это не просто дело – это сумма всех дел, итог жизни, то, что прописью писать положено. И – удивляться: откуда ж у людей характер берется, что его и на такое хватает?…
– А вот скажите мне, Мария Тихоновна, по правде скажите: пошли бы ваши ребята добровольно, если бы знали, что погибнут?
Спросил – и сам испугался: глупый вопрос получился. А ведь он совсем о другом узнать хотел: он узнать хотел, чем те, сороковые, отличались от этих, семидесятых.
– А вы сомневаетесь в этом, Семен Митрофанович?
Опять у нее глаза угольями вспыхнули. И нос словно заострился: баба-яга проглянула.
– Я-то не сомневаюсь. Я понять хочу, Мария Тихоновна. И в смысле морали, и в смысле общем… Девочек ваши ребята не били случаем? Не обижали? Как вы думаете, может человек, который на женщину руку поднял, героем стать? Я считаю твердо: нет, не может. Герой – он и в мирной жизни герой, как вон Гагарин наш; вот о чем я думаю, Мария Тихоновна.
– Мальчики хорошие были. Очень хорошие. Это я вам не как мать говорю. Это я истину говорю.
– Вот-вот! – очень обрадовался Семен Митрофанович: он все никак не мог сформулировать свою мысль. – И я об этом же самом, Мария Тихоновна, об этом же самом! А у молодежи, знаете, часто неверное представление: раз, мол, драчун, раз хулиган, значит ничего он не боится и обязательно будет героем. А тут все как раз наоборот. Чем хуже человек в смысле дисциплины, тем скорее всего не выдержит. Не выдержит настоящего боя, потому что настоящий бой выдерживают настоящие люди.
– Да, – сказала Мария Тихоновна. – Люди они были настоящие…
– И потому у меня к вам огромная просьба, Мария Тихоновна. Вы теперь часто с молодежью встречаетесь – подчеркните эту мысль! Рассказывайте им, какими настоящими парнями были ваши сыновья. Как они слабых защищали, как девушек берегли, как старшим всегда почет оказывали…
– Знаете, что я немцам забыть не могу, Семен Митрофанович? – вдруг ни с того ни с сего сказала она. – Сыновей, думаете? Нет, сыновей я им забыла. Я им внуков своих забыть не могу. Внучаток…
А он о воспитании заладил… А у человека этого вместо сердца одна рана незаживающая. И говорить он может только о боли своей, и ни о чем другом.
Вот так и скисло у него настроение на пути от семиэтажек к пятиэтажкам. И никто в том виноват не был, только он сам. Сам, лично, потому как ближайшую задачу посчитал самой главной для всех, для всего населения.
Расстроился Ковалев. Так расстроился, что остановился посреди улицы и закурил. И курил, пока не окликнули:
– Эй, начальник, прикурить позволишь?
Оглянулся: верзила под два метра. Глазки заспанные, кепочка набок, перегаром разит. И лицо незнакомое: не из его домов лицо, это точно… Семен Митрофанович нарочно спички помедленнее доставал, чтоб всмотреться. Верзила прикурил, сказал с зевком:
– Стоишь, начальник?
– Стою.
– Ничего у тебя работенка. Непыльная.
И пошел себе вразвалочку. Усмехнулся младший лейтенант:
– Непыльная…
Он на такие встречи только поначалу обижался, а потом понял, что обижаться-то и не следует. Ведь как раз у таких вот, заспанных, он и проторчал двадцать пять лет как бельмо на глазу: честный гражданин милицию не замечает. А раз так, не обижаться надо: гордиться.
И, как ни странно, встреча эта уравновесила перекос в душе его. Тот перекос, что возник после неуклюжего разговора с Марией Тихоновной. Решил Ковалев еще раз зайти к ней, завтра, как от Агнессы Павловны и Артема Ивановича выйдет. Зайти повиниться за бестактность сегодняшнюю, прощения попросить и попрощаться. А решив так, повеселел Семен Митрофанович и к любимым своим пятиэтажкам зашагал в лучшем виде.
10
Был вечер, люди давно уже вернулись с работы, пообедали и теперь вылезли из всех подъездов во дворы подышать свежим воздухом. И в этом тоже была особенность пятиэтажек: лезли люди из них во двор при малейшей возможности. Стремились друг к другу, к общению, к разговорам, легко заводили знакомства, и поэтому во всех этих пятиэтажках не было ни тайн, ни секретов. Никто по норам своим не прятался – то ли потому, что жители привыкли к коммунальным квартирам, то ли потому, что, толкаясь по утрам в транспорте, работая на заводах, они уже органически не могли жить изолированно, жить только своими интересами. И Семен Митрофанович тоже не мог жить изолированно, тоже не мог жить только для себя и ради себя. И поэтому чувствовал он себя здесь как дома, и его принимали как своего, без всяких скидок на род занятий.
– Здорово, Семен Митрофаныч! Ну, как служба идет?
– Да ведь, считай, прошла уже, Кирилл Николаевич, закругляюсь я. Дела сдаю старшему лейтенанту Степешко… Я вроде знакомил тебя с ним?
– Знакомил, Семен Митрофаныч, знакомил. Закуришь моих?
Семен Митрофанович присел на скамейку рядом с суровым мужчиной со шрамом на лице, в белой рубахе, домашних брюках и в тапочках. Они закурили, и к ним со всех сторон потянулись отцы семейств. Рассаживались вокруг, кто где уместился, закуривали, шутили, вспоминали свое, смеялись. И младший лейтенант Ковалев, вдруг размякнув, расстегнул тужурку и снял давивший располневшую шею форменный галстук.
– …А она в ответ: «Знаю, – говорит, – я вас, командировочных: улетишь-уедешь, а мне это ни к чему…»
– Хо-хо!.. Ну Петрович дает!
– Не Петрович – девки дают прикурить!
– Так ты ни с чем и отчалил?
– Это тебе, брат, не в городе. Это Заволжье, там девки до сей поры кержаками пуганные.
– Вот где жену-то искать, Серега! Мотай на ус.
– А зачем мне пуганая? Мне непуганые больше нравятся.
– Глупый ты, Серега, парень…
– Ладно, отцы: вы свое, мы свое. Так, Семен Митрофанович?
– Смотря в чем свое, Сережа.
– Да он все больше насчет девок, Митрофаныч!
– Я всерьез, отцы: мне жениться пора.
– Гуляешь с кем?
– Я-то?… Да была тут одна, с фабрики. – Парень смахнул улыбку, прикурил. – Хорошая девчонка, ладная. А потом с Толиком крутанула.
– С каким таким Толиком?
– Да с семиэтажек, Митрофаныч.
– А ты и спасибо сказал? – спросил суровый мужчина. – Увели девку, а он… Дал бы ему пару раз без третьих глаз!
– А мне это, Кирилл Николаевич, ни к чему. Силой любить не заставишь…
Вокруг гомонили о чем-то, а Семен Митрофанович вдруг выключился из общего хора, вдруг опять вспомнил воробьиху в служебном газике, синяки на ее лице. И еще Анатолия вспомнил, Толика этого: его трусоватую растерянность, его наглинку и – туфельки в коридоре, которые потом ушли как бы сами собой.
Нет, не мог Серега про эту самую воробьиху здесь толковать: слишком уж просто все тогда выходило. Хотя по-прежнему неясность оставалась: за что девчонку эту били и кто же такой все-таки этот самый Валера?
– Ты, Сережа, Валеру, случаем, не знаешь?
– Какого Валеру, Семен Митрофанович?
– Ну того, что с Анатолием дружит.
– Н-нет, Семен Митрофанович, вроде у Толика никакого Валеры в корешах не водится… Не знаю, может, сейчас появился. А что?
– Да так, на всякий случай.
– Напарник у меня Валера. Валерка Гольцов…
– Да нет, Сергей, нет…
Зря он, конечно, про Валеру этого спросил, ни фамилии, ни примет, ни адреса его не зная. Стареть, видно, ты начал, Семен Митрофанович, что вопросы такие ставишь. Стареть…
Но Серегину девчонку, которую отбил Анатолий из семиэтажки, Ковалев все-таки постарался запомнить. Запомнить и сообщить об этом завтра старшему лейтенанту Данилычу.
– Уходишь, стало быть, Семен Митрофанович? Покидаешь нас, грешных?
– Ухожу, мужики, – вздохнул Ковалев, не выдержал. – Всякой службе свой срок положен.
– Неужто же мы вот так, всухую, Митрофаныча отпустим, ребята? Не чужой же он нам.
– Верно говоришь, Гриша. Тут у меня где-то два рубля жена проглядела.
– Да у меня рублевка.
– Держи трояк, Серега: тебе все одно бежать, как младшему.
– Сбегаю.
– Вот еще держи. Пятерка с нас троих.
– И с меня взнос. Закусочки прихвати, Серега.
– А у меня дома еще грибки сохранились…
– Гляди, супруга засечет, больше не выпустит.
– Это Митрофаныча-то провожать не выпустит? Да ты что? Или она не человек у меня?
– Стойте, что это вы? Не надо ничего, не надо…
– Ты, Митрофаныч, помалкивай. Ты гость сегодня.
– Товарищи, я же на службе. Я же официально прошу вас, граждане…
– А мы тебе сегодня не подчинимся…
– Вот, Сергей, еще взнос: с нашего подъезда.
– Не допру я столько, отцы…
– Пацанов для подхвата захвати – учить тебя…
– Давай, Серега, не задерживай, а то мужской отдел закроют!
– Граждане жители, я же официально предупреждаю, что не могу. Не имею права. – Семен Митрофанович решительно напялил галстук и застегнул на все пуговицы тужурку. – Я нахожусь при исполнении служебных обязанностей…
– Погоди, Митрофаныч, – перебил строгий Кирилл Николаевич. – В семиэтажках был?
– Ну был.
– Бабу-ягу навещал?
– Ну, навещал.
– Так. Кого у нас по плану охватить должон?
– Ну, это известно! – улыбнулся Гриша, шустрый, улыбчивый мужчина без возраста. – Кукушкина повоспитывать надо; верно, Семен Митрофанович?
– К Кукушкиным зайти требуется, – подтвердил Ковалев.
– Ну так зайди, – сказал Кирилл Николаевич. – Исполни служебный долг, пока мы тут гоношиться будем. Иди, иди, чего время зря теряешь? Все равно ведь всухую не выпустим.
Все сейчас смотрели на него, улыбались, и по этим улыбкам Семен Митрофанович понял, что всухую отсюда он действительно не уйдет. Придется выпить, хоть самую малость, а придется. Чокнуться с этими развеселыми, шумными мужиками, пожелать им счастья в трудовой и личной жизни и распрощаться. Да, отступать тут было некуда, и младший лейтенант Ковалев сказал:
– Ладно, уговорили. Пойду пока к Кукушкину…
– А Кукушкина дома нет! – крикнул какой-то малец с велосипедом.
– А ты найди! – строго сказал Кирилл Николаевич. – Найди и скажи, что его немедленно требует на квартиру Семен Митрофанович. Живо давай!
И мальчишка сразу же куда-то исчез.
Хороша была Вера Кукушкина: статная, чернобровая. Она стояла в дверном проеме, как в раме, и Семен Митрофанович, улыбаясь, любовался ею. Любовался и жалел: глаза у нее потерянные были. Красивые серые глазищи и – потерянные. И еще синяк на шее. Возле уха.
– Здравствуй, Вера Кукушкина. В дом-то пустишь?
– Семен Митрофанович, зачем вы?
– Надо, надо, нечего! Ну, чего на пороге-то стоим?
– Так нет его. Опять с дружками пьет, видно.
– А он мне и не нужен. Мне ты нужна, Вера.
– Я?… – улыбнулась все-таки чернобровая. – Зачем же я-то?
– Узнаешь. – Семен Митрофанович отстранил ее, вытер ноги, повесил у входа фуражку. – Ну, хозяин в комнатах встречает, хозяйка кухней хвастает. Так куда же пойдем, Вера?
– Нечем мне хвастать, Семен Митрофанович.
И все же в кухню провела. Сели там на табуретки – друг против друга. Уставился Ковалев в ее налитое, без намека на морщиночку лицо, опять заулыбался. А она отвернулась.
– Смеетесь всё?
– Зеркало тебе показать?
– Зачем мне зеркало?
– Нет, все-таки где оно у тебя? – Младший лейтенант встал, и хозяйка хотела было следом подняться, но он удержал. – Сам принесу. В комнате?
– В комнате. А зачем, Семен Митрофанович?
Семен Митрофанович, не отвечая более, прошел в комнату: бедная комнатка была, пропитая. Кровать детская, диван продавленный, стол, стулья да шкафчик с полкой. На полке стояло зеркало, но Семен Митрофанович вдруг потерял к нему интерес, потому что в углу играл худенький мальчонка лет пяти: складывал что-то из чурок и кубиков. Увидев младшего лейтенанта, он неуверенно заулыбался, захлопал большими, как у матери, ресницами.
– Привет, Вова! – сказал Ковалев и с трудом присел на корточки возле ребенка. – Дом строишь?
– Дом… – шепотом согласился Вова, хотя строил совсем не дом, а Кремль.
«Запуган… – подумал Семен Митрофанович. – Ай запуган парнишка, запуган!..»
И вдруг остро пожалел, что за делами, за хлопотами сегодняшнего самого последнего дня напрочь позабыл об этом запуганном, тихом ребенке и не принес ему ни вафли, ни конфетки.
– Дом, – повторил. – А с кем же ты жить там будешь?
– С мамой, – тихо ответил мальчик.
В забитости его было что-то болезненное, почти ненормальное. И Семен Митрофанович сразу вспомнил своих сорванцов: шумных, горластых, веселых…
– А с папой?
Вова молчал, еще ниже опустив голову.
– С папой будешь в этом доме жить?
– И с папой… – послушно ответил ребенок, но ответил еле слышно и без интонаций.
– Да, – вздохнул Семен Митрофанович, тяжело поднимаясь. – Ты побольше дом строй, Вова. Попросторнее…
Он еще раз тоскливо оглядел полупропитую эту комнату, в которой из каждой прорехи выглядывала самая неприкрытая бедность, снял с полки зеркало и, озлобившись вдруг, большими шагами вышел на кухню.
Вера Кукушкина сидела между кухонным столиком и газовой плитой – на обычном хозяйском месте, но он сразу почувствовал, что место это не ее и что у нее здесь вообще нет своего места. Она улыбнулась Семену Митрофановичу той же тихой, испуганной улыбкой, какой только что ему улыбался ее сынишка, но Семен Митрофанович еще туже сдвинул сердитые брови, не давая в своем сердце простору для жалости.
– Поглядись, – сказал он, держа перед нею зеркало, как икону, на животе. – Хорошенько поглядись, гражданка Кукушкина.
– А чего? – робко удивилась Вера. – Зачем это?
– Хороша? Нет, ты глядись, глядись! Ну как, хороша?
– Н-не знаю…
– А вот я знаю. Я точно знаю: хороша. Очень даже. И глаза у тебя, и брови, и губы, и зубы – ну все как надо, все на своем месте и все в лучшем виде. – Младший лейтенант вдруг почему-то опять вспомнил воробьиху и расстроился еще больше. – Ты в таком соку, в таком, я бы сказал, ядреном теле состоишь, что мужики за тобой, если захочешь, табунами ходить будут. Будут не для глупостей каких, а потому, что мать в тебе видят. Мать человеческую!.. Ты же здоровая женщина, Вера, ты же рожать должна! Ты же таких парнишек, таких девчонок жизни подарить можешь, что хоть в витрину их ставь!.. А что имеем, Вера? Что мы имеем-то на текущий момент?
– А-а!.. – вдруг закричала она, тут же испуганно зажав себе рот. Слезы бежали по тугим щекам, путаясь в золотистом пушке. – Не надо… Не надо, пожалуйста, не надо!.. Ну зачем вы опять, зачем же?…
– Поплачь маленько, – вздохнул Семен Митрофанович.
Отложил зеркало, закурил, присел напротив. Вера уже привычно вытирала слезы, но полные губы ее еще дрожали и кривились.
– Мы с Вовочкой через день в ванной ночуем, – тихо сказала она. – Как он пьяный придет, так мы в ванную. Запремся там на задвижку и сидим в темноте, потому что он свет нарочно гасит. Я сыночку сказки рассказываю веселые или пою, чтоб не пугался он в темноте-то… У меня там кожушок висит, и одеялку я прячу. Постелю кожушок в ванну, ляжем мы с сынком, укроемся и – до утра.
Ковалев только крякнул. Выразительно крякнул, потому что ругнуться ему хотелось от всей души. Вера посмотрела, улыбнулась понимающе.
– А что делать, Семен Митрофанович? Развестись, скажете? Так я готова. Я хоть сейчас готова, если бы одна я была. А с сынком куда же мне? Родителей у меня нету, угла нету, и специальности тоже нету. Развести-то разведут, в этом сомнение меня не тревожит, люди жалостливые, а жить где буду? Угла-то ведь никто не даст, значит опять с ним? Уж не как жена законная, а как неизвестно кто, да? Ну и что изменится? Пить, думаете, перестанет? Нет, не перестанет. Бить меня, думаете, перестанет? Тоже не…
– Ну тогда-то мы его за избиение женщины… – начал было младший лейтенант.
– А сейчас он кого бьет, лошадь, что ли? Нет, Семен Митрофанович, мне не разводиться с ним надо. Мне надо…
– Слушай, Вера, – таинственно зашептал вдруг Ковалев и даже подсел поближе для убедительности. – Слушай, Вера, я вот что тебе скажу. Ты здоровая, ты богатырь прямо, а он, Кукушкин твой? Он же, по силе ежели судить, в половину тебя будет, никак не больше. Да еще и в пьяную-то половину… Так ты, знаешь, что? Ты дай ему как следует, кулаком дай! Кулаком прямо по роже его, по роже пьяной!..
Вера смотрела серьезными круглыми глазами, и Семен Митрофанович вдруг запнулся. Покашлял, похмурился, вновь в папиросу вцепился.
– Нехорошо, – тихо сказала она и осуждающе покачала головой. – Ай, как нехорошо вы советуете, Семен Митрофанович! Как это так: дай кулаком по роже? Это бить, значит, так выходит? Человека бить, да?… Ай, ай, ай, ну как можно-то, а?
– А что? – хмуро спросил Семен Митрофанович. – Он же тебя бьет?
– Так он дурной, – с непреклонной уверенностью сказала она. – Он очень дурной, а вы мне такой же стать предлагаете? Да разве ж можно такое советовать, Семен Митрофанович?
– Ну, учи меня, учи, – проворчал смущенно Ковалев. – Будто ты милиция, а я неизвестно кто…
– Так это же вы от добра сказали, разве я не знаю? – Вера улыбнулась ему, словно маленькому, ласково и покровительственно. – Вы нас с Вовочкой жалеете очень, и мы это знаем прекрасно даже. Только не советуйте нам такое, ладно? Мы ведь с сыночкой человеками хотим остаться…
Семен Митрофанович вскочил, сделал круг и снова сел верхом на табурет.
– Ах, Верунька, Верунька!.. – вздохнул он. – Правда твоя, во всем твоя правда, и крыть мне нечем. Конечно, сгоряча я про драку-то, сгоряча. Это нельзя делать, это и закон запрещает, и вообще скотство это! Нет, тут другое надо, и ты прости меня, старого, что посоветовал…
– Да что вы, Семен Митрофанович…
– В деревню я завтра еду, – не слушая ее, продолжал младший лейтенант. – Там уже все семейство мое, там дом у нас имеется, хозяйство какое-нито заведем, может, даже кабанчика купим. А поезд завтра без пяти двенадцать ночи или, официально сказать, в двадцать три пятьдесят пять. И поедем мы все втроем: я, ты и Вовка, вот какой факт получается…
– Нет… – неуверенно улыбаясь, она затрясла головой. – Нет, что вы, что вы…
– Завтра без пяти двенадцать, – твердо повторил он. – Собирайся.
– Семен Митрофанович… Семен Митрофанович, миленький, что вы говорите-то, что?
Она опять заплакала, но не горько, как тогда, а радостно и словно бы с облегчением. И поэтому Ковалев улыбнулся и строго сказал:
– Не реви. У нас в семье реветь не положено.
– Семен Митрофанович, миленький, зачем же вам обуза-то эта, зачем? Ведь не отдаримся мы вам ничем за добро ваше, ничем же не отдаримся, потому что за такое и отдариться-то невозможно, хоть две жизни проживи!.. А Вовочке, Вовочке-то моему воздух деревенский нужен, ой как еще нужен: мне врач говорила!.. Нет, нет, это же не то я говорю, не то!.. Господи, я здоровая, я все по дому делать буду! Я полы мыть буду, стирать буду, воду носить…
Слезы мешались у нее со смехом, а Семен Митрофанович очень боялся такой смеси и хмурился еще больше.
– Перестань, – сказал он строго. – И не выдумывай: в колхоз работать пойдешь. Или учиться, пока мы с женой еще в силе, еще за внучатами углядеть можем.
– Учиться? – Она счастливо рассмеялась, и круглые слезы запрыгали, заиграли на тугих щеках. – А что? Я пять классов кончила, у меня даже пятерки были. Да нет!.. – Она опять засмеялась. – Я работать буду. Я очень теляток люблю. Я… Подождите!..
Она вдруг легко, по-девичьи сорвалась с места, кинулась в комнату. Семен Митрофанович улыбнулся ей вслед, покачал головой: немного, ой немного человеку для радости надо. Совсем немного, а мы подчас и этого ему не даем: либо жалеем, либо забываем…
Сияющая Вера ворвалась на кухню, крепко зажав в руке что-то, аккуратно завернутое в белую тряпочку. Она положила на стол этот пакетик, поглядывая на Ковалева и загадочно улыбаясь, развязала узелки на тряпочке и с торжеством распахнула вдруг эту тряпочку перед его носом.
– Вот!
Это были деньги: десятки, старательно уложенные одна к одной. Младший лейтенант зачем-то потрогал их пальцем, спросил вдруг строго:
– Откуда?
– Заработала, – лукаво сказала она. – Не подумайте дурного чего: я тайком от Кукушкина в уборщицы нанялась. Давно уж – два года скоро. Я, как поняла, что мне не жить с ним, так и решила: деньги скоплю. Скоплю сотен пять, а тогда уж и уйду от него. Угол сниму с сыночком или завербуюсь куда: деньги всегда пригодятся, правда?
– Правда, – сказал он. – Ты забери их, Вера. На книжку положи: на них и оденешься и обуешься.
Отодвинул ей деньги, но она встретила на полпути его руку и вновь передвинула эту тоненькую пачечку к нему. И так они некоторое время потолкались: Вера смеялась, закидывая голову, а он смотрел на синяк на ее шее и не смеялся, а только повторял:
– Ты спрячь, спрячь…
– Нет уж, Семен Митрофанович, нет уж.
– Вера… Что это еще?
Она вдруг перестала смеяться.
– Вы нас всерьез брать с собой хотите или так, от жалости просто сказали? Всерьез, сама знаю, а раз так, то деньги вы возьмите. Нет, нет, Семен Митрофанович, родненький, теперь мы с сынком ваши полностью, и все у нас общее должно быть. Берите, Семен Митрофанович, берите, а то не поверю, что завтра увезете нас из ада этого кромешного в рай земной. Ну, берите же, берите, здесь уже много, здесь четыреста двадцать…
Но Ковалев все еще не решался брать эти плаканые-переплаканые деньги, заработанные горбом на заплеванных лестницах. Он словно видел сейчас, как трет она ступеньку за ступенькой, и потому хмурился, думал, как бы уговорить ее положить все на книжку, но Вера смотрела на него такими счастливыми глазами, что не поворачивался у него язык выкладывать соображения с деловым прицелом.
– Барахлишка много не бери, чего возиться-то? Не в тряпках счастье, а все, что надобно, мы и там купим.
– Да у меня и нет-то ничего: все Кукушкин пропил!
Это она беспечно сказала, весело, словно уже и не жила в этом пьяном угаре, словно уже шагнула в другую жизнь – с зеленой травой, птицами по утрам и глупыми добрыми телятами…
– Ну, добро. – Ковалев положил тряпочку с деньгами во внутренний Карман тужурки, подумал, что о них следует доложить комиссару, и сказал: – Завтра я еще по магазинам похожу: давай решим, что прикупить надо.
– А ничего не надо! – сказала она. – Там уж, как приедем, тогда и решим.
– Совсем-совсем ничего?
– Нам не надо. Вы общее покупайте, для всех: знаете ведь, что в деревне-то требуется. А нам… Знаете, чего? Вы Вовочке пистолетик купите, ладно? А то Кукушкин вчера пистолетик его каблуком раздавил, так сынок уж так в ванной плакал, так плакал…
– С пистонами пистолетик-то?…
– Нет, простой. Из пластмассы: они дешевенькие.
– Из пластмассы? – Ковалев улыбнулся. – Я своим огольцам сам пистолеты делал. Из дерева. Такие пистолеты, что прямо от настоящих и не отличишь, ей-богу!
– Да Вовка еще маленький, что понимает?
– Сделаем и ему пистолет. Настоящий пистолет, как положено. – Семен Митрофанович встал. – Завтра я в девятнадцать часов у товарища комиссара Белоконя быть должен, вот какой факт получается. А от него – прямо к тебе. Готовься.
11
Так и не дождался Семен Митрофанович Кукушкина. Да и не нужен ему был Кукушкин этот, если разобраться: о нем и Данилыч знал, и все их отделение, и в смысле профилактики здесь все было в порядке. А в смысле жизни он Семена Митрофановича больше не интересовал, так как Семен Митрофанович уводил от него этих людей.
Но, по счастью, лестница длинной была, а козлом скакать Ковалев давно отучился. По счастью потому, что еще на спуске он успел все заново обдумать и решить, что не поговорить с Кукушкиным права не имеет. Нет, не о вливании тут уже шла речь, а о том, что – хотел этого Семен Митрофанович или не хотел – объективно получалось, что именно он уводил от Кукушкина жену и ребенка. Хоть и не для себя уводил, а все-таки мужской закон требовал тут играть в открытую, и не повидаться с водопроводчиком – пьяным или трезвым, не важно – было уже невозможно.
Поэтому, спустившись во двор, он поворотил налево, к котельной. За домами уже слышались шутки, смех и веселые мужские голоса: там, среди детских песочниц и качелей, опустевших ввечеру, собирали для него, младшего лейтенанта милиции Ковалева, прощальный товарищеский ужин. Но Семен Митрофанович на это сейчас не отвлекался, а раздумывал, где бы ему найти Кукушкина, и надеялся, что в котельной.
Однако Кукушкина в котельной не оказалось. Дежурный слесарь – немолодой уже, домовитый как мышь, которого во всех квартирах запросто звали Сашей, – пояснил:
– Увели его, Семен Митрофанович. Руки, значит, за спину – и как положено.






