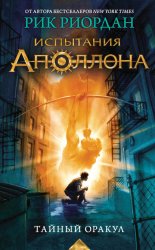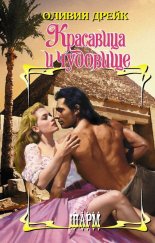Битва за Рим Маккалоу Колин
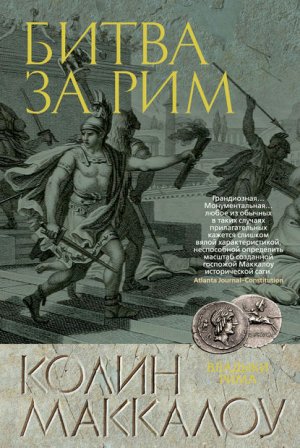
— Прекрасно, достаточно. Они вызвали противодействие своих клиентов-плебеев и сколотили фракцию, с которой не удалось сладить даже мне. Потом — это случилось в прошлом году — они изъяли из употребления даже названия законов Сатурнина.
— Его закон о зерне и его земельные законопроекты, — подхватил Марий-младший, который теперь, вдали от Рима, отлично находил общий язык с отцом и все время старался добиться от него похвалы.
— За исключением моего первого земельного закона, по которому моим солдатам из простонародья позволено селиться на островах у африканского побережья, — напомнил ему Марий.
— Кстати, муж мой, я кое-что хотела тебе сказать, — спохватилась Юлия.
Марий со значением посмотрел на Мария-младшего, но Юлия продолжала:
— Как долго ты собираешься держать на этом острове Гая Юлия Цезаря? Может, пора уже возвратить его домой? Ради Аврелии и детей ему следовало бы вернуться.
— Он нужен мне на Церцине, — жестко отрезал Марий. — Военачальник из него неважный, но никто никогда не работал над аграрными проектами так упорно и с таким успехом, как Гай Юлий. Пока он остается на Церцине, работа идет, жалоб почти не поступает, и результаты превосходны.
— Но так долго! — не уступала Юлия. — Три года!
— Пускай потрудится еще столько же. — Марий не собирался сдаваться. — Ты знаешь, как медленно продвигаются обычно земельные дела: наблюдай, возмещай убытки, разбирай бесконечные споры, преодолевай сопротивление местных жителей… А Гай Юлий делает это просто мастерски! Нет, Юлия, ни слова больше! Гай Юлий останется там, где он сейчас находится, пока не закончит порученное ему дело.
— Тогда мне жаль его жену и детей.
Впрочем, Юлия заступалась за Аврелию напрасно: ту вполне устраивала ее участь, и она почти не скучала по супругу. Объяснялось это вовсе не отсутствием любви и не пренебрежением супружеским долгом. Просто во время его отлучек она могла заниматься собственным делом, не опасаясь его неодобрения, жесткой критики, а то и запрета — только этого ей не хватало!
Когда они, поженившись, поселились в просторной квартире на первом этаже большого жилого дома — инсулы, доставшейся Аврелии в качестве приданого, она обнаружила, что супруг ожидает, что они будут вести точно такой же образ жизни, какой вели бы, если бы обитали в частном доме на Палантинском холме, — изящный, утонченный и совершенно бесцельный. Именно такую жизнь она яростно критиковала, беседуя с Корнелием Суллой. Это было бы настолько скучно, что любовная интрижка сделалась бы неизбежной. Аврелия пришла в отчаяние, узнав, что Цезарь не одобряет ее общения с жильцами, занимающими все девять этажей; что супруг предпочел бы, чтобы она прибегала к услугам агентов для сбора квартирной платы.
Однако Гай Юлий Цезарь был патрицием древнего аристократического происхождения и имел немало обязанностей. Прикованный к Гаю Марию — и родственными связями, и безденежьем, — Цезарь начал свою государственную карьеру на службе Гая Мария в качестве военного трибуна в легионах; наконец, побыв квестором и став членом Сената, он был направлен в качестве земельного уполномоченного ведать заселением острова Церцина у африканского побережья ветеранами Гая Мария из простонародья. Все эти занятия вынуждали его подолгу находиться вдали от Рима. Впервые он отлучился надолго уже вскоре после женитьбы. Его союз с Аврелией был вознагражден двумя дочерьми и сыном, однако отец не присутствовал при рождении своих детей и не видел, как они растут. Он ненадолго появлялся дома, жена беременела — и он снова отбывал на долгие месяцы, а то и на годы.
К тому времени, когда великий Гай Марий женился на сестре Цезаря Юлии, в доме Юлиев Цезарей иссякли последние деньги. Старшая ветвь рода решила вопрос просто: успешное усыновление младшего сына богатым патрицием дало средства дорастить двух оставшихся сыновей до консульства; попавшего в хорошие руки младшего звали Квинт Лутаций Катул Цезарь. Но отец Цезаря (Цезарь-дед, как его называли теперь, через много лет после его кончины) был вынужден заботиться о двух сыновьях и двух дочерях, денег же хватало всего на одного сына. К счастью, его посетила блестящая идея предложить худородному, но сказочно богатому Гаю Марию выбрать себе в жены ту из двух его дочерей, которая придется ему по вкусу. Денег Гая Мария хватило на приданое обеим дочерям, а также на шестьсот югеров земли вблизи Бовилл, перешедший таким образом во владение Цезаря; доход оказался достаточным для того, чтобы получить место в Сенате. Деньги Гая Мария сглаживали все препятствия на пути представителей младшей ветви Юлиев Цезарей — ветви Цезаря-деда.
Сам Гай Юлий Цезарь — супруг Аврелии — оказался достаточно благороден и справедлив, чтобы испытывать искреннюю благодарность к Гаю Марию, хотя его старший брат Секст предпочел задрать нос и после женитьбы постепенно отдалиться от остального семейства. Цезарь знал, что, не будь денег Мария, он не смог бы претендовать на избрание в Сенат и не был бы в состоянии обеспечить будущее своему потомству. Без этих денег Цезарю никогда бы не позволили взять в жены красавицу Аврелию, представительницу древнего и богатого рода, о руке которой мечтали очень многие.
Безусловно, осуществи Марий должный нажим, Цезарь с супругой могли бы перебраться в собственное жилище на Палатине или в Каринах. Более того, дядя и отчим Аврелии Марк Аврелий Котта уже предлагал пустить часть приданого на приобретение такого жилища. Однако молодая пара предпочла последовать совету Цезаря-деда и отвергла роскошь. Приданое Аврелии было истрачено на приобретение инсулы — доходного дома, в котором нашлось место и для хозяев — на то время, пока Цезарь не достигнет ступеней карьеры, которые позволили бы ему купить особняк в более престижном районе. Более престижным им показался бы почти любой другой район, поскольку инсула Аврелии находилась в сердце Субуры, самого густонаселенного и бедного района Рима, зажатого между Эсквилином и Виминалом и кишащего самым разнообразным людом, относящимся в основном к четвертому и пятому классам.
И все же Аврелия нашла в своей инсуле дело по душе. Как раз тогда, когда Цезарь впервые отлучился надолго, а ее первая беременность благополучно завершилась, она с головой ушла в заботы домовладелицы. Разогнав агентов, она стала самостоятельно вести учет, приобретая все больше друзей среди нанимателей. Она действовала со знанием дела, никого не боялась и даже сама призвала к порядку членов сомнительного братства, которое помещалась в стенах инсулы. Это братство существовало по разрешению городского претора и имело официальной целью ведать религиозными и торговыми делами перекрестка, прилегающего к инсуле Аврелии, включая фонтан и храм в честь местных Ларов. Распорядителем этой подозрительного братства и предводителем ее завсегдатаев был некий Луций Декумий, чистокровный римлянин, но лишь четвертого класса. Когда Аврелия занялась управлением инсулой, она обнаружила, что Луций Декумий и его приспешники собирают дань со всей округи, терроризируя окрестных лавочников. Ей удалось положить этому конец, а заодно обрести друга в лице Луция Декумия.
Не имея достаточно собственного грудного молока, Аврелия отдавала своих детей на выкармливание другим матерям из инсулы, тем самым открывая крохотным патрициям двери в мир, о существовании коего они иначе не могли бы и догадываться. Результат можно было предвидеть: задолго до поступления в школу все трое умудрились овладеть, хотя и в разной степени, греческим, еврейским, сирийским и несколькими галльскими наречиями, а также тремя степенями латыни: той, на которой изъяснялись их благородные предки, той, которой пользовались низшие сословия, и жаргоном, свойственным исключительно Субуре. Они собственными глазами видели, как живет римский люд, пробовали всевозможную пищу, которую чужеземцы находили вкусной, и поддерживали превосходные отношения с членами братства Луция Декумия.
Аврелия пребывала в убеждении, что все это не причинит детям ни малейшего вреда. Впрочем, она не была бунтаркой, не помышляла о реформаторстве и придерживалась правил, действующих в ее сословии. При всем этом она была привержена честному труду, отличалась любопытством и отнюдь не была безразлична к ближнему. Еще в юности, когда Аврелия знать не знала забот, ее вдохновлял пример матери Гракхов Корнелии, которую она считала истинной героиней и величайшей женщиной в истории Рима. Теперь, в зрелом возрасте, Аврелия руководствовалась более осязаемыми ценностями, среди которых главную роль играл здравый смысл. Именно здравый смысл подсказывал ей, что болтающие на нескольких языках маленькие патриции — это вовсе не плохо. Более того, она полагала, что для них послужит превосходной жизненной школой общение с теми, кому недоступно величие, которое по праву рождения принадлежит ее детям.
Чего Аврелия действительно опасалась, так это возвращения Гая Юлия Цезаря, мужа и отца; на самом деле он никогда не был толком ни тем, ни другим. Если бы эти роли были ему знакомы, он бы, возможно, играл их безупречно, однако он даже не пытался попробовать сделать это. Будучи истинной римлянкой, Аврелия не знала — и не хотела знать, — прибегает ли он к услугам других женщин, чтобы удовлетворять свои естественные потребности, хотя, ведая, что представляет собой жизнь ее жильцов, понимала: любовь зачастую делает женщин истеричками, а то и толкает на убийство из-за ревности. Аврелии подобное казалось необъяснимым, однако она признавала это как данность и могла лишь благодарить богов за то, что те наделили ее трезвым умом и научили обуздывать свои чувства; ей и в голову не приходило, что и среди женщин ее сословия есть немало таких, которым знакомы припадки ревности и отчаяния.
Нет, окончательное возвращение Цезаря чревато неприятностями. Аврелия была в этом твердо убеждена. Впрочем, она не портила себе настроение тревожными ожиданиями, а получала от жизни удовольствие, не слишком тревожась ни за здоровье своих маленьких аристократиков, ни за язык, на котором они щебечут. В конце концов, разве не так же обстоит дело на Палатине и в Каринах, где женщины доверяют детей нянькам со всех концов света? Разница в том, что там никто не знает, к чему это приведет; дети становятся умелыми притворщиками, склонными открывать душу не матерям, которых мало знают, а совсем другим женщинам.
Впрочем, маленький Юлий Цезарь был совсем особенным ребенком и при этом весьма трудным; даже неглупая Аврелия предвидела большие неприятности, ибо посвящала достаточно много времени раздумьям о способностях сына. В гостях у Юлии она призналась ей и Элии, что этот малыш сводит ее с ума; теперь она радовалась, что проявила тогда слабость, поскольку результатом явилось предложение Элии отдать ребенка на воспитание учителю.
Аврелия, как и все, слыхала о существовании исключительно одаренных детей, однако давно уже решила, что такие рождаются не у сенаторов, а в гуще простонародья. Родители малолетних умников часто обращались к ее дяде и отчиму Марку Аврелию Котте с просьбой помочь своим необыкновенным детям сделать первые шаги в жизни с большим толком; за это родители и отпрыск будут обязаны ему по гроб жизни. Котте такие просьбы приходились по душе, поскольку ему нравилась мысль, что он и его сыновья смогут пользоваться преданностью облагодетельствованных ими одаренных свыше существ. При этом Котта был человеком практичным и разумным; как-то раз Аврелия подслушала, как он говорил Рутилий, своей жене:
— К сожалению, дети не всегда оправдывают возлагаемые на них надежды. Либо огонек сразу начинает гореть слишком ярко и преждевременно гаснет, либо их захлестывает тщеславие и самоуверенность, чреватые крахом. Некоторые, правда, оказываются полезными. Такие дети — сокровища. Именно поэтому я никогда не отказываюсь помогать родителям.
Аврелия не знала, как Котта и Рутилия относятся к собственному одаренному внуку юному Цезарю, поскольку не рассказывала им о его способностях и вообще старалась скрывать от них мальчика. Собственно, она прятала юного Цезаря почти от всех. Его таланты повергали ее в трепет и заставляли втайне мечтать о его ослепительном будущем. Однако куда чаще это становилось для нее причиной глубокого уныния. Если бы она знала все его слабости и недостатки, то легко бы их исправила. Но кто может похвастаться, что знает душу ребенка, которому еще не исполнилось и двух лет? Прежде чем позволить ему удовлетворять жизненное любопытство, Аврелия хотела лучше разобраться в его натуре, почувствовать себя в его обществе более уверенно. Она никак не могла избавиться от опасения, что ему не хватит силы и решительности, чтобы не растерять задатки, щедро отмеренные ему природой.
Сын отличался чувствительностью — это ей было известно. Обескуражить его не составляло ни малейшего труда. Однако он быстро приходил в себя. Природа наделила его жизнерадостностью, какой сама Аврелия никогда не обладала. Его энтузиазм был воистину безграничным, мозг работал так стремительно, что впитывал информацию, как огромная рыба, способная выпить море, в котором живет. Больше всего Аврелию беспокоила его доверчивость, стремление маленького Цезаря подружиться с кем угодно, его нежелание прислушиваться к ее наставлениям помедлить и поразмыслить получше, понять, что мир существует не только для того, чтобы удовлетворять его желания, ибо вмещает немало опасных людей.
Одновременно она понимала, что такое копание в душе малыша не имеет смысла. Хотя ум мальчика мог переварить невероятно много, но жизненного опыта ему недоставало. Пока юный Цезарь представлял собой всего лишь губку, впитывающую любую влагу, в которую погружался; если же субстанция оказывалась недостаточно жидкой, он принимался за нее, стараясь довести до необходимой кондиции. Конечно, у него имелись недостатки и слабости, но Аврелия не знала, носят ли они постоянный характер или же являются всего лишь проходящими фазами ответственного процесса познавания. К примеру, он был неотразимо очарователен и, зная это, пользовался своей неотразимостью, подчиняя людей своей воле. Его беспомощной жертвой становилась среди прочих тетушка Юлия, неспособная противиться его уловкам.
Матери не хотелось воспитывать мальчика лицемером, уповающим на такие низкие приемы. Самой Аврелии (по ее собственному глубочайшему убеждению) обаяние не было присуще ни в малейшей степени, поэтому она испытывала презрение к привлекательным людям, ибо знала, как легко они добиваются желаемого и как мало ценят его, добившись. Обаяние было для нее признаком легковесности, которая никогда не позволит мужчине стать подлинным лидером. Юному Цезарю придется от него избавиться, иначе ему не добиться успеха среди римлян, которые выше прочего ставят именно серьезность. Кроме того, мальчик был просто хорошеньким — еще одно нежелательное качество. Но как сделать некрасивым красивое лицо, тем более что красота унаследована от обоих родителей?
Итогом всех этих тревог, ответ на которые могло дать одно лишь время, было то, что Аврелия привыкла к жесткому обращению с сыном: его ошибки она была менее склонна прощать, чем проступки его сестер; вместо бальзама она обрабатывала его раны солью и с готовностью критиковала и клеймила его. Все остальные люди, с которыми ему приходилось сталкиваться, превозносили его, а сестры и кузины откровенно баловали; мать же чувствовала, что кому-то нужно находиться рядом с ложкой дегтя наготове. Если никто, кроме нее, не желал взять на себя эту неблагодарную роль, то Аврелия была согласна сыграть ее самостоятельно. Мать Гракхов Корнелия пошла бы на это без колебаний.
Поиски педагога, которому можно было бы доверить воспитание ребенка (мальчику еще несколько лет полагалось бы оставаться на попечении женщин), не вызывали у Аврелии страха; напротив, такое занятие было ей как раз по душе. Жена Суллы Элия очень не советовала ей останавливать выбор на воспитателе-рабе — это еще более усложнило задачу Аврелии. Не испытывая большого уважения к Клавдии, жене Секста Цезаря, она не собиралась спрашивать совета у нее. Если бы сыном Юлии занимался педагог, Аврелия непременно обратилась бы к ней, однако Марий-младший, единственный ребенок в семье, посещал школу, чтобы не лишаться общества мальчишек своего возраста. Точно так же собиралась в свое время поступить с сыном и Аврелия; однако теперь она понимала, что об этом не может быть и речи. Среди сверстников ее сын мог превратиться либо в мишень для насмешек, либо в предмет всеобщего обожания, а она считала недопустимым и то, и другое.
Испытывая потребность посоветоваться, Аврелия отправилась к своей матери Рутилий и единственному брату матери Публию Рутилию Руфу. Дядя Публий неоднократно приходил ей на помощь в прошлом, в том числе при решении проблемы замужества.
Она отправила всех троих детей на тот этаж своей инсулы, где проживали евреи, — их любимое убежище в этом многолюдном, шумном доме, а сама, усевшись в носилки, приказала доставить себя в дом отчима; спутницей она выбрала преданную служанку из галльского племени арвернов по имени Кардикса. Естественно, к моменту, когда Аврелия решит покинуть дом Котты на Палатине, у дверей ее будет поджидать Луций Декумий со своими подручными: к тому времени стемнеет, и хищники Субуры выйдут на промысел.
Аврелия так успешно скрывала ото всех необыкновенные таланты своего сына, что ей оказалось нелегко убедить Котту, Рутилию и Публия Рутилия Руфа, что этот человечек, которому еще не исполнилось и трех лет, остро нуждается в наставнике. Потребовалось дать десятки терпеливых ответов на десятки недоверчивых вопросов, чтобы родственники наконец поверили.
— Я не знаю подходящего человека, — молвил Котта, ероша свои редеющие волосы. — Твои братья Гай и Марк занимаются сейчас с риторами, а Луций-младший ходит в школу. На самом деле тебе лучше всего было бы обратиться к одному из торговцев наставниками-рабами — Мамилию Малку или Дуронию Постуму. Однако раз ты непременно хочешь приставить к нему свободного педагога, то я просто не знаю, что тебе посоветовать.
— Дядюшка Публий, а ты? Ты уже давно сидишь и помалкиваешь, — сказала Аврелия.
— Что верно, то верно! — воскликнул сей мудрый муж без всякого раскаяния.
— Не значит ли это, что у тебя есть кто-то на примете?
— Возможно. Только сперва мне самому хотелось бы взглянуть на Цезаря-младшего, желательно при таких обстоятельствах, которые помогли бы мне составить собственное мнение. Ты скрывала его от нас — не пойму зачем.
— Такой славный мальчуган! — с чувством вздохнула Рутилия.
— С ним одни неприятности! — Ответ матери был лишен всякого намека на сентиментальность.
— В общем, я думаю, что всем нам настало время взглянуть на Цезаря-младшего, — заключил Котта, который с возрастом располнел и оттого страдал одышкой.
Аврелия всплеснула руками в таком смятении и оглядела родственников с таким волнением во взоре, что все трое в удивлении разинули рты. Они знали ее с младенчества, но никогда еще не видели в такой растерянности.
— О, только не это! — вскричала она. — Нет! Как вы не понимаете? То, что вы предлагаете, как раз причинит ему огромный вред. Мой сын должен воспринимать себя совершенно обычным ребенком! Разве ему не повредит, если сразу трое взрослых начнут глазеть на него и дивиться его разумным ответам? Он возомнит себя невесть кем!
Рутилия раскраснелась и поджала губы.
— Милая девочка, ведь он мой внук! — выпалила она.
— Да, мама, отлично знаю. Ты обязательно увидишь его и сможешь задать ему любые вопросы — но сейчас еще не время! И не толпой! Пока я бы просила дядю Публия зайти к нам без сопровождения.
Котта толкнул жену локтем.
— Здравая мысль, Аврелия, — проговорил он как можно приветливее. — В конце концов, ему скоро исполнится два года. Аврелия может пригласить нас к нему на день рождения, Рутилия. Вот тогда и увидим собственными глазами, что это за чудо, а ребенок даже и не заподозрит, с какой целью мы нагрянули.
Подавив досаду, Рутилия кивнула:
— Как пожелаешь, Марк Аврелий. Тебя это устраивает, дочь?
— Да, — буркнула Аврелия.
Публий Рутилий Руф сразу же пал жертвой обаяния юного Цезаря, все более искусно пользовавшегося своей способностью очаровывать людей, счел его замечательным ребенком и едва дождался момента, чтобы поделиться своим восторгом с его матерью.
— Не припомню, когда я чувствовал такую симпатию к кому-либо, за исключением тебя, когда ты, отвергнув всех служанок, которых тебе предлагали родители, сама нашла себе Кардиксу, — с улыбкой проговорил он. — Тогда я подумал, что ты — бесценная жемчужина. Но теперь я узнал, что моя жемчужина произвела не лучик света, а прямо-таки кусочек солнца.
— Оставь в покое поэзию, дядя Публий! — отрезала озабоченная мамаша. — Я позвала тебя не за этим.
Однако Публию Рутилию Руфу представлялось крайне важным довести до ее сознания свою мысль, поэтому он уселся с ней рядом на скамью во дворике-колодце, устроенном посредине инсулы. Местечко было чудесным, поскольку второй обитатель первого этажа, всадник Гай Матий, увлекался выращиванием цветов и достиг в этом деле совершенства. Аврелия называла свой двор-колодец «вавилонскими висячими садами»: с балконов на всех этажах свисали различные растения, а вьющийся виноград за долгие годы оплел весь двор до самой крыши. Дело было летом, и сад благоухал ароматами роз, желтофиоли и фиалок; вокруг было полным-полно самых разных цветов.
— Дорогая моя малышка-племянница, — заговорил Публий Рутилий Руф серьезным голосом, взяв ее за руки и заглядывая в глаза, — попытайся меня понять. Рим уже не молод, хотя пока что я не утверждаю, что он впал в старческое слабоумие. Но прикинь: двести сорок четыре года им правили цари, затем четыреста одиннадцать лет у нас была Республика. История Рима насчитывает уже шестьсот пятьдесят пять лет, и все это время он становился все могущественнее. Но многие ли древние роды все еще способны рождать консулов, Аврелия? Корнелии, Сервилии, Валерии, Постумии, Клавдии, Эмилии, Суплиции… Юлии не давали Риму консулов уже четыре сотни лет, хотя думаю, что при жизни теперешнего поколения в курульном кресле все же побывает несколько Юлиев. Сергии слишком бедны, поэтому им пришлось заняться разведением устриц; Пинарии так бедны, что готовы на что угодно, лишь бы разбогатеть. У плебейского нобилитета дела идут лучше, чем у патрициев, и мне кажется, что если мы не проявим осторожность, то Рим окончательно перейдет во владение «новых людей», не имеющих великих предков, не чувствующих связи с корнями Рима и поэтому безразличных к тому, во что Рим превратится. — Он усилил хватку. — Аврелия, твой сын — представитель старейшего и знаменитейшего рода. Среди доживающих свой век патрицианских родов одни Фабии могут сравниться с Юлиями, но Фабиям уже три поколения приходится брать приемных детей, чтобы не пустовало курульное кресло. Истинные Фабии настолько выродились, что прячутся от людских глаз. И вот перед нами — Цезарь-младший, выходец из древнего патрицианского рода, не отстающий умом и энергией от «новых людей». Он — надежда Рима, такая твердая, какой я уж и не надеялся увидеть. Я верю: для того, чтобы вознестись еще выше, Рим должен управляться чистокровными патрициями. Я бы никогда не мог высказать этого Гаю Марию, которого люблю, но, любя, осуждаю. За свою феноменальную карьеру Гай Марий причинил Риму больше вреда, чем пятьдесят германских вторжений. Законы, которые он попрал, традиции, которые он уничтожил, прецеденты, которые он напек! Братья Гракхи по крайней мере принадлежали к нобилитету и относились к проблемам Рима хотя бы с подобием уважения к неписаным правилам, которые завещаны нам предками. Другое дело Гай Марий: он пренебрег этими правилами и сделал Рим добычей разномастных шакалов, существ, не имеющих и капли родства со старой доброй волчицей, вскормившей Ромула и Рема.
Речь эта показалась Аврелии такой увлекательной и необычной, что она слушала ее с широко распахнутыми глазами, даже не замечая, как сильно сжал Публий Рутилий Руф ее руку. Наконец-то ей предлагали нечто существенное, путеводную нить, держась за которую она с юным Цезарем могла рассчитывать выбраться из царства теней.
— Ты обязана ценить достоинства юного Цезаря и делать все, что в твоих силах, чтобы направить его по пути величия. Ты должна внушить ему целеустремленность, осознание задачи, которую не сможет выполнить никто, кроме него, — сохранение римских традиций и возрождение былого могущества старой крови.
— Понимаю, дядя Публий, — важно ответствовала она.
— Хорошо, — кивнул он и, вставая, потянул ее за собой. — Завтра, в три часа пополудни, я пришлю тебе одного человека. Приготовь мальчика.
Так сын Аврелии стал воспитанником некоего Марка Антония Нифона. Галл из Немауза, он был внуком выходца из племени саллувиев, которое ревностно охотилось за головами во время беспрерывных набегов на эллинизированное население Заальпийской Галлии; в конце концов деда и отца будущего воспитателя поймали отчаявшиеся массилиоты. Дед, проданный в рабство, вскоре умер, отец же был достаточно молод, чтобы с честью выдержать переход от роли варвара, охотящегося за головами врагов, к роли слуги в эллинской семье. Паренек оказался смышленым, поэтому умудрился накопить денег и купить себе свободу, после чего женился. В жены он взял гречанку-массилиотку скромного происхождения, чей отец охотно дал согласие на брак, несмотря на варварскую наружность жениха — могучее телосложение и ярко-рыжие волосы. Таким образом, его сын Нифон вырос среди свободных людей и быстро проявил склонность к учебе, свойственную и его отцу.