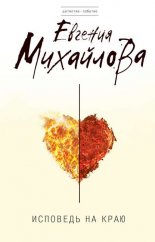Юные годы. Путь Шеннона Кронин Арчибальд
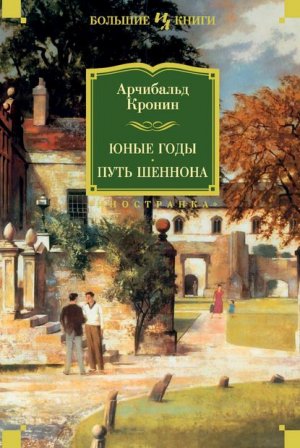
— И слишком много работаете, мистер Шеннон. — Не понимая, что со мной, мисс Джин буквально восприняла мои слова. — Помните, вы обещали мне приехать в Блейрхилл. Я сегодня вечером уезжаю домой. Перенесите свой свободный день на завтра и навестите нас.
Я посмотрел в ее добрые карие глаза и вдруг почувствовал, что не могу придумать никакой отговорки. Не найдя подходящего предлога для отказа, я с минуту помолчал, потом неуверенно промямлил:
— Хорошо, я приеду.
5
Поезд на Блейрхилл отправлялся в половине второго; он полз страшно медленно, и старенькие вагончики были до того грязные, что всякий раз, как паровоз делал рывок, от изъеденной молью материи, покрывавшей сиденья, столбом вздымалась пыль. Всю дорогу, пока он тащился по смрадному промышленному району юга Шотландии, где нет ни травинки — лишь торчат фабричные трубы, изрыгая дым, — и останавливался на каждой маленькой станции, я ругал себя за то, что вздумал выполнить обещание, которое вовсе и не собирался давать, и никакие рассуждения, что день отдыха придаст мне новые силы для работы, тут не помогали.
Наконец через час после того, как я выехал из Нижнего Уинтона, самая скверная часть «черной страны» осталась позади и я очутился в Блейрхилле. Для того чтобы несчастный путешественник не мог проехать мимо и избежать своей участи, название это было выложено белыми камушками на откосе возле станции, между двумя могучими соснами. А на платформе, слегка приподнявшись на носках и обводя изогнувшийся поезд нетерпеливым взглядом сияющих глаз, стояла мисс Джин Лоу.
Я вышел из вагона и направился к ней; от меня не укрылось, что в честь моего приезда, а может быть, и просто ради свободного дня под широким пальто у нее был надет белый вязаный свитер, а на каштановых кудрях, почему-то особенно бросавшихся сейчас в глаза, красовалась маленькая шерстяная шапочка с кисточкой, какие в Шотландии называют «кругляшами». Заметив меня в толпе пассажиров, она приветливо заулыбалась. Мы пожали друг другу руки.
— Ох, мистер Шеннон, — радостно воскликнула она, — до чего же мило, что вы приехали! А я-то боялась…
Она умолкла, но я докончил фразу за нее:
— …что подведу вас.
— Мм… — Мисс Лоу вспыхнула: она легко краснела. — Я ведь знаю, что вы занятой человек. Но так или иначе, вы приехали, день сегодня чудесный, и мне столько всего надо показать вам, и хоть я и не должна так говорить, но, по-моему, вам здесь понравится.
За беседой мы и не заметили, как вышли на узкую главную улицу городка. Он оказался куда приятнее, чем я ожидал: типичный старинный городок — центр округи, расположенный среди обширных владений герцогов Блейрхиллских, с тротуарами из каменных плит, обтесанных вручную, с паутиной кривых улочек и старой рыночной площадью. Полная гордости за свои родные места, моя спутница сообщила мне, что «нынешний герцог» совместно с Блейрхиллским историческим обществом многое сделал для того, чтобы сохранить местные памятники старины, и с самым серьезным видом пылко заявила, что, как только все формальности будут выполнены и я буду представлен ее родителям, мы отправимся осматривать достопримечательности городка.
Там, где дорога начинала спускаться под уклон, мисс Лоу вдруг остановилась у небольшого невзрачного строения и, волнуясь — а это сразу было видно по ее трепещущим ресницам, — застенчиво промолвила:
— Это наша пекарня, мистер Шеннон. Вы должны зайти и познакомиться с папой.
Нырнув под низкую арку, я вышел вслед за ней на мощенный булыжником дворик, где, задрав в небо оглобли, стоял блестящий, словно покрытый лаком, фургон, спустился на несколько ступенек вниз и через узенькую дверцу, обойдя наваленные грудами мешки с мукой, вошел в подвал с земляным полом, где так вкусно пахло и было совсем темно, если не считать красноватого отблеска огня, падавшего из двух загруженных углем печей. Постепенно, когда глаза мои привыкли к темноте, я различил две фигуры в рубашках с закатанными рукавами, вооруженные длинными деревянными лопатами; они рьяно трудились у открытых печей, и их белые передники ярко алели в отблеске пламени, когда они вытаскивали оттуда караваи хлеба.
Несколько минут мы молча наблюдали за этим процессом, который, видимо, требовал энергии, ловкости и быстроты. Как только новая партия хлебов исчезла в печах и железные дверцы защелкнулись, один из пекарей — тот, что был постарше, — обернулся и направился к нам, на ходу вытирая руки о передник; когда он подал мне руку, на ногтях у него еще оставалось засохшее тесто.
Дэниелу Лоу было лет пятьдесят пять; хотя лицо этого невысокого широкоплечего крепыша — открытое, прямодушное, с большим лбом, который сейчас был весь в капельках пота, — и отличалось бледностью, как у всех людей его профессии, выглядел он вполне здоровым и даже моложавым, несмотря на очки в стальной оправе и окладистую черную бороду. Он, видимо, не принадлежал к числу людей улыбчивых, однако, когда его теплые пальцы сжали мою руку, он приветливо улыбнулся, обнажив крепкие зубы, слегка попорченные мукой, которая была здесь всюду.
— Рад с вами познакомиться, сэр. Дочка рассказывала мне про ваше доброе к ней отношение в колледже. Друг моей дочери — у нас желанный гость.
Говорил он низким голосом, степенно, словно патриарх, и как-то по-особому произносил слово «колледж», а когда упомянул про дочь, глаза его, укрытые за стеклами очков, потеплели.
— Вы уж нас простите, — извиняющимся тоном продолжал он, — мы сейчас очень торопимся. Нам ведь с сыном в субботний вечер приходится управляться вдвоем. — И, обернувшись, он позвал: — Люк! Поди-ка сюда на минутку.
Молодой парень лет семнадцати, натягивая куртку и улыбаясь, подошел к нам; он был очень похож на свою сестру: тот же цвет лица, такие же волосы и глаза. Он казался славным, веселым малым, и я сразу почувствовал расположение к нему. Однако побеседовать нам не удалось, так как ему пора было запрягать лошадь и развозить хлеб по округе. Я заметил, что и самому Лоу, несмотря на всю его любезность, сейчас не до нас, а потому, искоса взглянув на мою спутницу, предложил не злоупотреблять его временем.
Лоу кивнул в знак согласия.
— Покупателям нужен хлеб, сэр. А завтра — воскресенье. Но мы увидимся с вами попозже, дома. Часиков в пять. А пока пусть уж дочка вами займется.
Мы вышли и направились к окраине, мимо новеньких домиков, окруженных крошечными садами; все это время моя спутница украдкой бросала на меня полувстревоженные, полунетерпеливые взгляды, словно желая выяснить мое мнение о своих родных. Неожиданно мы свернули в тихую улочку, затененную пока еще голыми, но раскидистыми ветвями каштанов, и очутились перед небольшим каменным особнячком, чистеньким и скромным, с белоснежными тюлевыми гардинами на окнах; от улицы его отделяла аккуратно подстриженная изгородь из бирючины. Уже взявшись за чугунную решетку калитки, где на медной дощечке значилось: «Силоамская купель», — мисс Лоу не выдержала и воскликнула:
— Вы понравились им обоим — и папе и Люку. Я это сразу заметила. Теперь я познакомлю вас с мамой.
Как раз в эту минуту входная дверь распахнулась и навстречу нам вышла худенькая женщина в черном альпаговом халате, седая и благообразная, с нежной прозрачной кожей. Быстро взглянув на дочь и не пытаясь спрятать метелочку из перьев, которую держала в руке, она повернулась и долго смотрела на меня испытующим, безмятежно спокойным взглядом. Затем, словно уверившись в моей благонадежности, она завела приличествующий случаю разговор:
— Вы застали меня врасплох, мистер Шеннон: я и переодеться-то не успела. Как раз заканчивала уборку в гостиной, когда увидела вас на аллейке. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь.
— Нет, мама, — поспешно возразила мисс Джин. — Мы сейчас пойдем гулять: ведь день такой чудесный.
Миссис Лоу посмотрела на мою спутницу спокойным, понимающим взглядом, в котором, несмотря на теплоту и снисходительность к нетерпению молодости, сквозило и легкое превосходство умудренной жизнью матери.
— У вас еще уйма времени, девочка.
— И все равно не хватит, чтобы обойти то, что мне хочется.
— Вы берете Малкольма с собой?
— Конечно нет, мама, — несколько раздраженно ответила дочь. — Ты же знаешь, что его сегодня нет здесь.
«Кто этот Малкольм? — подумал я. — Очевидно, какой-нибудь юный родственник, а возможно — собака».
— Ну что же… идите тогда, — рассудительно согласилась миссис Лоу. — Но непременно возвращайтесь к ужину. Я буду подавать на стол ровно в шесть: все уже тогда будут дома. Пока до свидания, мистер Шеннон.
Она улыбнулась и неторопливо прошла в гостиную, а мисс Джин Лоу не без облегчения, какое испытывает человек, благополучно выполнивший все формальности, всецело завладела мной.
— Теперь, — энергично заявила она, — я покажу вам наше хозяйство.
И, пройдя вперед, она повела меня в садик за домом величиною с пол-акра; здесь мы не торопясь прогулялись по усыпанным гравием дорожкам и осмотрели крошечные клумбы, грядки ревеня и зеленую лужайку. Я похвалил царивший там порядок, и она благодарно улыбнулась мне.
— Конечно, участок у нас совсем маленький, можно сказать, пригородный, не то что, наверно, у вас, мистер Шеннон.
Сделав вид, будто не заметил ее вопросительной интонации, я поспешно указал на сарайчик для инструментов, где стоял на подпорках красный мотоцикл.
— Это машина Люка, — любезно пояснила она в ответ на мой невысказанный вопрос. — Он совершенно помешан на моторах и неплохо разбирается в них, хотя папа и не одобряет этого. Но бедняге приходится так медленно тащиться в фургоне, развозя хлеб, что, естественно, ему хочется потом отвести душу на своей «Индиане».
Мое мнение о Люке, и без того высокое, стало еще выше. Долгое время я мечтал о подобной машине с таким же успехом, как если б хотел достать до луны, — о машине, на которой можно было бы стремительно мчаться, разрезая воздух, со скоростью по меньшей мере семьдесят миль в час. Мне очень хотелось бы задержаться и осмотреть это чудо, но мисс Джин потащила меня назад, мимо дома, на дорогу. Решительным жестом натянув на свои кудри «кругляш», она педантично взглянула на часы и твердо заявила:
— В нашем распоряжении еще добрых три часа. Постараемся за это время успеть всюду.
— А не лучше ли нам сначала немножко отдохнуть? — предложил я, бросив взгляд на два стула, стоявшие на крытой веранде. Я ведь полночи не спал, раздумывая над тем, какой избрать метод культивирования моих проб.
Она весело рассмеялась и лукаво заметила, точно я сказал нечто очень забавное:
— Нет, право же, мистер Шеннон, вы презанятный человек. Мы ведь еще только начинаем нашу прогулку.
И мы хорошей иноходью двинулись в путь.
Могу поклясться, что на свете едва ли была более дотошная исследовательница всяких достопримечательностей, более преданная спутница, чем эта прелестная дочка булочника из Блейрхилла.
С неутомимым рвением водила она меня по некогда пышному старинному городку. Она показала мне городскую ратушу, публичную библиотеку, масонскую ложу, мавзолей, где погребен герцог, старинные дома ткачей на Коттарз-роу, остатки римской стены (три крошащихся валуна) и с благоговейным видом — молитвенный дом ее общины в Овечьем переулке. Она даже привела меня на то самое место на перекрестке, где Клеверхауз[2], разгонявший тайное собрание пуритан, был — хвала провидению! — сброшен со своего боевого коня.
Затем, когда я уже было обрадовался, что нашим странствиям пришел конец, она остановилась на минуту, перевела дух и, весело кивнув, посмотрела на меня с таинственным видом человека, припасшего самое интересное под конец.
— Мы еще не видели белых коров, — объявила она и тотчас добавила, словно цитируя путеводитель: — Совершенно уникальные животные.
Чтобы посмотреть на этих чудо-животных, которые, пояснила она, принадлежат к знаменитой породе Шато-ле-Руа и были вывезены из Франции «батюшкой покойного герцога», нам пришлось вернуться мили на две назад и через арку с колоннадой войти в обширный парк, известный под названием «Верхний», — «покойный герцог» великодушно выделил его из своих владений и подарил городу.
В этом бесспорно прелестном уголке, где рощи чередовались с полянами, еще сохранилась былая атмосфера уединенности: нигде не видно было ни души.
Однако стадо свое мисс Лоу так и не сумела найти, хотя искала энергично, рьяно, как если бы от этого зависела ее честь. Она таскала меня за собой по горам и долам, перелезая через деревянные загородки и пробираясь под кустами на прогалины, и выражение ее глаз становилось все тревожнее, а лицо вытянулось от огорчения; наконец, взобравшись на вершину последнего поросшего травою холма, она вынуждена была остановиться и со стыдом признаться мне в своем поражении:
— Боюсь… мистер Шеннон… — Но самолюбие ее было задето, и она не сдержалась: — Нет, это просто непостижимо!
— Они, наверно, спрятались от нас — на деревьях.
Она покачала головой, не желая замечать юмора в моих словах.
— Такие прелестные животные! Белые как снег и с такими красивыми, изогнутыми рогами. Должно быть, их загнали на зиму. Я покажу вам их как-нибудь в другой раз.
— Отлично, — сказал я. — А пока давайте посидим.
День выдался на редкость тихий и теплый для этого времени года; солнце, окутанное легкой дымкой, заливало все янтарным светом, отчего окрестность казалась погруженной в первозданную тишину еще не открытых миров. Внизу, у нас под ногами, безмолвствующий лес убегал вдаль, скрывая от глаз ручеек, который, подчиняясь общему настроению, тихонько журчал, переливаясь из одной лужицы в другую и словно боясь громко вздохнуть, — все это располагало и нас к молчанию.
Мисс Джин, покусывая бурую травинку и глядя прямо перед собой, сидела, выпрямившись, подле меня, — она все еще переживала свою неудачу, а я, опершись на локоть, невольно принялся изучать ее, решив от нечего делать попытаться понять это существо. Я, конечно, не мог отказаться от давно сложившегося у меня мнения о ее наивности, однако я был вынужден признать, что из тех немногих молодых женщин, которых я знал, она была самой естественной. Особенно здесь, среди природы, она выглядела на редкость юной и свежей! Ее карие глаза, каштановые волосы и загорелая кожа удивительно гармонировали с окрестными лесами, равно как и упругая шея и округлый подбородок. Зубы ее, покусывавшие жесткую травинку, были белые и крепкие. Глядя на нее снизу, я почти видел, как горячая кровь приливает к ее пухлой верхней губке. А главное, от всего ее облика веяло необычайной чистотой. У меня мелькнула мысль, что, поскольку это качество считается почти столь же важным, как благочестие, она, наверно, тщательно моется виндзорским мылом утром и вечером с головы до ног. Все в ней — как доступное взгляду, так и недоступное — было, я уверен, безукоризненно опрятным и аккуратным.
В то время как я критически изучал ее, она вдруг повернула голову и неожиданно поймала мой испытующий взгляд. С минуту она со своей обычной бесстрашной честностью выдерживала его, потом застенчиво потупилась, и легкий румянец медленно разлился по ее щекам. В этой паузе, в молчании, как бы являвшемся следствием окружающей тишины, в которую была погружена природа, и насыщенном почти мучительным ожиданием какого-то слова или действия с моей стороны, которого, однако, так и не последовало, — было что-то напряженное. Тогда, чуть ли не со злостью, словно не желая поддаваться смущению, она взглянула на свои круглые серебряные часики и поспешно вскочила на ноги.
— Нам пора домой. — И тихо добавила тоном, которому постаралась придать деловитость: — Вы, наверно, страшно проголодались и ждете не дождетесь ужина.
Когда мы вернулись в «Силоамскую купель», все семейство уже ждало нас в безукоризненно чистенькой столовой: миссис Лоу надела свое «парадное» голубовато-серое шелковое платье, а мистер Лоу и Люк нарядились в полотняные рубашки и черные суконные костюмы. Кроме них, к моему удивлению, был еще один гость, которого представили мне как мистера Ходдена, иначе — Малкольма; он с приятной улыбкой отзывался на это имя, тотчас занялся Джин и вообще вел себя здесь, как свой.
Это был любезный, с виду положительный молодой человек лет двадцати пяти, хорошо сложенный, с открытым, несколько чересчур серьезным лицом, волевым ртом и довольно крупной квадратной головой; одет он был с педантичной аккуратностью: коричневый шерстяной костюм, высокий крахмальный воротничок. Склонный завидовать качествам, прямо противоположным моим собственным, я почувствовал, что слегка тускнею в его присутствии, — уж очень он был спокоен и уверен в себе, точно ежедневно выступал с проповедями в Ассоциации молодых христиан, да и держался он с бесстрашной прямолинейностью, словно, преисполненный сознания собственной правоты, был убежден, что встретит в своем собрате такие же качества. Из его правого нагрудного кармашка торчали камертон и несколько отточенных карандашей, которые, по-видимому, нужны были ему для занятий, — как вскоре выяснилось, он преподавал в блейрхиллской начальной школе.
Он дружелюбно протянул мне руку, и миссис Лоу скрепила наше знакомство.
— У вас, молодые люди, должно быть много общего. Малкольм у нас как родной, мистер Шеннон. Он преподает в нашей воскресной школе. Настоящий труженик, вот что я вам скажу.
Поскольку ужин был уже готов, мы сели за стол, и Дэниел торжественно произнес длинную молитву, в которой, взглянув украдкой на фотографию воспитательницы, красовавшуюся на каминной доске, трогательно упомянул о своей отсутствующей дочери Эгнес, «ныне ратующей в заморских краях». Затем миссис Лоу щедро принялась разрезать на большие куски стоявшую перед ней отварную лососину.
Изрядно проголодавшийся, я набросился на рыбу с аппетитом, какого и следовало ожидать от постояльца барышень Дири. Помимо большого количества рыбы, на столе было еще множество всякой снеди — отварной картофель в мундире, горошек, холодная ветчина и язык, маринады, домашние соленья, — словом, этот простой добротный ужин мог бы привести в восторг куда более изощренный вкус, чем мой. По случаю моего приезда пекарь специально испек бисквит с марципанами, украшенный замороженными вишнями. Но больше всего мне понравился хлеб. Легкий, хорошо подошедший, с тонкой хрустящей корочкой, он издавал чудесный аромат и таял во рту. Лоу был очень доволен, когда я отважился похвалить его продукцию. Он взял с блюда кусочек, помял его, слегка понюхал, потом с видом человека, совершающего священнодействие, растер между пальцами. Взглянув через стол на сына, он со знанием дела заметил:
— Немножко недопекли сегодня, Люк… но плохим его не назовешь. — Затем, повернувшись ко мне, он просто сказал: — Мы серьезно, относимся к нашему делу, сэр. Для многих бедных людей нашей округи — вся жизнь в этом хлебе. Они почти ничего другого не видят, все эти шахтеры, пахари, рабочие на фермах; у всех большие семьи, а получают они шиллингов тридцать пять в неделю. Вот почему мы делаем наш хлеб из самой что ни на есть лучшей муки, заквашиваем на самых сладких дрожжах и замешиваем только вручную.
— Лучший хлеб во всей округе, — вставил Малкольм, обращаясь ко мне. Он сидел рядом с Джин и со спокойной, довольной улыбкой передавал блюда.
Дэниел улыбнулся:
— Угу, иные приходят за целых пять миль к нашему фургону, чтоб купить хлебца. — Он помолчал и, выпрямившись, с достоинством продолжал: — Вы, конечно, знаете, мистер Шеннон, что говорится в библии о хлебе насущном. Помните, как спаситель пятью хлебами накормил тысячи и как он преломил хлеб со своими учениками на тайной вечере?
Я пробормотал что-то невнятное, но тут мне на помощь пришел Люк: передавая клубничный джем, он слегка подмигнул мне левым глазом, и я поспешил потихоньку завести с ним разговор о достоинствах его мотоцикла. Однако от Дэниела не так-то легко было отделаться. Глава семьи, выступавший с проповедями на собраниях своей общины, он привык разглагольствовать, и сейчас, глядя на меня своим лучистым, серьезным и благожелательным взглядом, он, казалось, твердо решил выяснить, что я собой представляю.
— Конечно, доктор, у вас тоже благородная профессия. Лечить больных, возвращать к жизни калек, ставить на ноги хромых — что может быть похвальнее? Я был горд и счастлив, сэр, когда моя дочь решила посвятить себя этому великому и замечательному делу.
Я молчал, ибо все равно едва ли сумел бы растолковать ему, что вовсе не собираюсь быть врачом-практиком, а хочу всецело посвятить себя чистой науке.
Нимало не смущаясь моей замкнутостью, Дэниел с достоинством и смирением, непонятным образом уживавшимися в его натуре, вернулся к прежней теме; сказав несколько слов о всеобщем братстве людей и о христианском принципе «помогай ближнему», он с этих позиций двинулся на меня в лобовую атаку:
— Могу я спросить вас, сэр: а каковы ваши убеждения?
Я медленно потягивал чай. Все, кроме Ходдена, чей взгляд выдавал некоторую настороженность, добросердечно и внимательно смотрели на меня, с живым интересом ожидая моего ответа, точно это было самым главным, тем камнем, которого только и недоставало, чтобы увенчать прочное здание их общего одобрения. А мисс Джин, слегка раскрасневшаяся от горячего крепкого чая, так и уставилась на меня блестящими глазами, слегка приоткрыв рот.
Что же мне, черт подери, сказать им? Я достаточно хорошо знал, какая вражда существует в маленьких городках между людьми разных религиозных убеждений, и понимал, какое я могу вызвать смятение, поведав им правду о том, что я католик, случайно забредший в менее мрачные коридоры скептицизма, но в глубине души все еще придерживающийся своей первоначальной веры. Эта мысль заставила меня прибегнуть к той же версии, которую я сочинил для мисс Лоу. В конце-то концов какое это имеет значение? Я никогда больше не увижу это достойное семейство, и не к чему нарушать установившееся между нами согласие; к тому же, если я буду достаточно ловок, мне и не придется лгать.
— Видите ли, сэр, — начал я, да так бойко, что сам поразился: казалось, эти добродетельные люди вызвали к жизни самые скверные и коварные стороны моей натуры, — по правде говоря, моя работа в качестве-биолога не оставляла мне много времени для посещения церкви. Однако воспитывался я в Ливенфорде, в семье необычайно строгих пуританских взглядов. Вообще, — тут я снова вспомнил свое детство, проходившее под знаком двух противоборствующих влияний, и лишь скромно подправил наименее правдоподобную из сказок, которыми похвалялась бабушка, — мой прадед по материнской линии был одним из тех, кто пролил свою кровь в битве при Марстонмуре.[3]
Наступила пауза. Они медленно вникали в смысл моего ответа, и я заметил, что он произвел на них не только удовлетворительное, а в высшей степени благоприятное впечатление.
— Не может быть! — Дэниел с вполне понятным интересом наклонил голову. — При Марстонмуре! Да ведь все, кто там был, — мученики, святые. Вы должны гордиться таким предком, мистер Шеннон. И, — не без хитринки добавил он, — надеюсь, вы всегда будете помнить о таком хорошем примере.
Теперь, когда это препятствие было преодолено, атмосфера дружелюбия и согласия прочно воцарилась за столом. После того как Малкольм, пространно выразив свои сожаления, откланялся и ушел (он по вечерам преподавал в Блейрхиллском институте, и миссис Лоу поведала мне, что он взялся за эту дополнительную работу только ради своей овдовевшей матери), мы перешли в гостиную, и мисс Джин уговорили сыграть на пианино пьесу Грига. Затем потолковали об отсутствующей Эгнес. Ее последнее, очень бодрое письмо было с гордостью прочитано вслух. Затем одну за другой мне любовно показали фотографии, пожелтевшие и немного туманные; на них были изображены группы туземных ребятишек в белых передничках, тощих, большеглазых и каких-то удивительно трогательных, а с ними — заботливая, улыбающаяся воспитательница; несколько деревянных хижин, кусочек голого двора, и все это неизменно на фоне буйной растительности, диковинных деревьев, похожих на гигантские папоротники, ярких полос солнечного света, перемежающихся с густой, черной тенью.
Когда пробило восемь часов, я поднялся и, несмотря на протесты, стал прощаться, дружески обменявшись со всеми рукопожатием.
— Вы оказали нам большую честь, сэр, — сказал Дэниел, и глаза его неожиданно потеплели. — Может, в следующий раз приедете к нам с ночевкой?
— Да, конечно, и приезжайте поскорее. — Миссис Лоу сунула мне в руку пакет и тихонько шепнула: — Это немножко шотландского песочного печенья, чтоб было чем полакомиться в пансионе.
На улице было совсем темно, когда Люк и его сестра вышли вместе со мной, чтобы проводить меня на станцию. По дороге Люк великодушно предложил мне пользоваться его мотоциклом, когда мне вздумается. Поезд тронулся, и мисс Джин Лоу пошла рядом с моим окошком.
— Надеюсь, вы остались довольны своей поездкой, мистер Шеннон. Мы-то все очень довольны, я знаю, что очень.
В купе, кроме меня, никого не было, и я забился в угол: я устал от этого чрезмерного радушия и сейчас попытался проанализировать свои впечатления. По правде говоря, знакомство с этим простым трудолюбивым семейством преисполнило меня сильнейшим отвращением к себе. Какой я ничтожный и жалкий! Вообще говоря, я даже почему-то казался себе настоящим подлецом.
Внезапно перед моим мысленным взором всплыло лицо Джин Лоу, когда она сидела, потупившись, рядом со мной в Верхнем парке и вдруг, как девочка, залилась краской. Я не слишком был избалован женским вниманием и в этом отношении был лишен самомнения. Но сейчас некая мысль, словно стрела, пронзила меня. Я вздрогнул и, потрясенный, выпрямился.
— Нет! — громко воскликнул я в пустом вагоне. — Не могла же она… не может… Это нелепо!
6
Наступил февраль с сильными морозами и холодными, ясными, сверкающими днями, будоражившими кровь. Прошло больше месяца с тех пор, как я всецело отдался своей работе. И жизнь казалась мне поистине прекрасной.
Ломекс и Спенс, естественно, знали о моей деятельности, но Смит, хотя я время от времени и подмечал, как он посматривает на меня, покусывая кончики косматых усов, не мог догадаться, чем я занят. С тех пор как профессор Ашер уехал, он проводил большую часть дня в баре при «Университетском гербе».
Дело, за которое я взялся, было нелегким. Не думайте, что работа исследователя проходит в дивном поэтическом экстазе, — прежде чем увидишь просвет, надо пройти немало лабиринтов и, подобно Сизифу, без конца катить в гору камень.
Однако, перепробовав множество растворов и признав все их негодными для моей цели, я, наконец, вырастил на пептоновском бульоне такую культуру из дримовских проб, которая, по моим расчетам, содержала возбудитель эпидемической болезни. Я глядел на нежные желтоватые волокна, которые, сплетаясь в шафрановые нити, росли и набухали в светлом, как топаз, растворе, словно распускающийся крокус, а мне казались неизмеримо прекраснее самого редкого цветка, — и сердце мое колотилось от волнения. Это была неведомая мне культура, обещавшая нечто новое и необычное и подкреплявшая шаткое здание моих надежд.
По мере того как в моем распоряжении оставалось все меньше времени, я удваивал усилия, стремясь путем отбора вывести чистую и стойкую породу драгоценной бациллы. У меня был ключ от боковой двери, через которую я мог попасть в здание, когда все уйдут. Поужинав в пансионе барышень Дири, я возвращался в лабораторию и, связанный с внешним миром лишь тоненькой ниточкой сознания, погружался, словно пловец, сделавший затяжной прыжок в прохладную, озаренную зеленоватым светом лампы тишину, пока гулкий бой часов не прокатывался по пустынной территории университета, возвещая полночь. Это было самое продуктивное время суток.
Я был уверен, что сумею в основном завершить свою работу к субботе, которая приходилась на 1 февраля, и в тот же вечер уничтожу все следы проведенных мной опытов. Все было рассчитано до мелочей, как в тщательно подогнанной мозаике: профессор Ашер сообщал в своем письме, что вернется в понедельник, 3-го, — к его прибытию я уже буду сидеть за своим столом и делать его работу.
Наступила последняя неделя, и в среду вечером, вскоре после девяти часов, я наконец решил, что культура созрела для исследования; я подцепил ее платиновым крючочком и нанес на предметное стекло. Настал решающий момент. Затаив дыхание, я вставил стекло под линзу микроскопа и невольно вскрикнул, когда на ярко освещенном фоне вдруг появились темные червячки.
Все поле было усеяно крошечными, похожими на запятые бациллами — я никогда еще не видел таких.
Долгое время я сидел не двигаясь, глядя на мою находку, — от радостного возбуждения у меня слегка кружилась голова. Наконец, взяв себя в руки, я открыл блокнот и с присущей ученым методичностью принялся описывать организм, который, исходя из его очертаний, я условно назвал бациллой «С». Так прошло минут пятнадцать, как вдруг внимание мое привлек сноп света, упавший в комнату через стекло над дверью. Несколько секунд спустя я услышал шаги в коридоре, дверь распахнулась, и, похолодев от ужаса, я увидел профессора Ашера, входившего в лабораторию. Он был в сером костюме и наброшенном на плечи темном суконном плаще с капюшоном; его бледное жесткое лицо еще было покрыто дорожной пылью. В первую минуту мне показалось, что он мне привиделся. Потом я сообразил, что это в самом деле профессор и что явился он прямо с поезда.
— Добрый вечер, Шеннон. — Он неторопливо, размеренным шагом приближался ко мне. — Все еще сидите?
Не веря собственным глазам, я смотрел на него поверх колб с культурой. А он глядел на них.
— Я вижу, вы усиленно трудитесь. Что это такое?
Застигнутый врасплох, я растерялся и молчал. Почему, почему он приехал раньше времени?
И вдруг позади профессора Ашера я увидел эту зловещую птицу — Смита: он был без белого халата, в плохо сшитом костюме и, вытянув длинную шею, смотрел на меня своими глубоко запавшими глазами. Тогда я понял, что придется сказать все.
По мере того как я говорил, запинаясь и в то же время ревниво не раскрывая своего замысла до конца, Ашер становился все надменнее и суровее. А когда я кончил, лицо его приняло и вовсе ледяное выражение.
— Должен ли я понять, что вы намеренно отложили мою работу ради своей?
— Я возьмусь за расчеты на той неделе.
— А сколько вы сделали за время моего отсутствия?
Я помедлил.
— Ничего.
Его узкое лицо под налетом сажи посерело от ярости.
— Я ведь специально выражал вам свое пожелание, чтобы доклад был готов к концу месяца… для профессора Харрингтона… который оказал мне такое гостеприимство… это мой давний друг и коллега. И вот не успел я уехать… — Он слегка запнулся. — Почему, почему вы так поступили?
Я пристально разглядывал подкладку его капюшона. Она была темно-зеленая, шелковая.
— Я должен был разгадать эту загадку…
— В самом деле! — У него даже нос побелел. — Вот что, сэр, хватит препираться. Вы немедленно бросите эту работу.
Я почувствовал, как у меня дрогнуло сердце, но усилием воли сдержал расходившиеся нервы.
— Мое положение на кафедре все-таки дает мне право голоса в таких вопросах.
— Но я профессор кафедры экспериментальной патологии, и последнее слово принадлежит мне.
Меня нелегко было вывести из себя, по натуре я был человек застенчивый и смирный и искренне верил в людскую снисходительность, в святое правило: «Живи и жить давай другим», но сейчас красный туман поплыл у меня перед глазами.
— Я не могу бросить эту работу. Я считаю ее куда более важной, чем опыты с опсонином.
Слышно было, как стоявший позади Смит вдруг глотнул слюну, его острый кадык задвигался, словно он смаковал лакомый кусок. Ашер выпрямился во весь рост, губы его стали тонкими, как проволока.
— Вы на редкость наглый человек, Шеннон. Ваши дурные манеры, ваша одежда, совершенно непристойная для ученого, занимающего такое положение, возмутительная непочтительность, какую вы проявляете ко мне, — все говорит об этом. Я же привык иметь дело с джентльменами. До сих пор мне казалось, что при должном руководстве вы можете далеко пойти, и только потому я был к вам снисходителен. Однако, раз вам угодно вести себя по-хамски, мы будем действовать иначе. Если к понедельнику вы в письменном виде не извинитесь за это поистине непростительное поведение, я попрошу вас покинуть кафедру.
Последовало мертвое молчание.
Выждав некоторое время, Ашер вынул платок и вытер губы. Он увидел, что справился со мной, и тогда, по обыкновению, вспомнил о собственной выгоде:
— Серьезно, Шеннон, ради вашего же блага советую вам взять себя в руки. Несмотря на все, что случилось, мне бы не хотелось расставаться с вами. А сейчас прошу меня извинить: я еще не был дома.
И взмахнув, как матадор, своим плащом, он повернулся и вышел из комнаты. После его ухода Смит постоял еще с минуту, потом, тихонько насвистывая в свои косматые усы, направился к раковине Спенса и стал там что-то прибирать.
Он, конечно, ждал, что я заговорю, и я, как дурак, попался в ловушку.
— Ну-с, — с горечью заметил я, — вы, должно быть, считаете, что изрядно мне напакостили?
— Вы ведь слышали, что сказал шеф, сэр. Я обязан выполнять его приказания. У меня тоже есть свои обязанности.
Я знал, что это сущее лицемерие. Истина же заключалась в том, что по каким-то непонятным причинам Смит в душе питал ко мне смертельную неприязнь. Бедный юноша, такой же, как я, он в свое время тоже стремился достичь в науке высочайших вершин. И теперь, измученный неудачник, снедаемый завистью, он не мог смириться с тем, что мне, возможно, удастся преуспеть там, где он потерпел поражение.
— Я же не виноват, сэр. — И, протирая щеткой раковину, он вызывающе ухмыльнулся: — Я только выполнил свой долг.
— С чем вас и поздравляю.
Я убрал пробирки с культурами, передвинул рычажок регулятора в термостате на нужную температуру, а он в это время искоса, каким-то странным взглядом наблюдал за мной. Затем я взял кепку и вышел.
Бесконечно раздосадованный и злой, спускался я в темноте с Феннер-хилла.
На перекрестке, у стыка Пардайк-роуд и Керкхед-Террас, я зашел в трактир и, чтобы хоть немного прийти в себя, заказал стакан кофе. Взобравшись на высокий стул и положив локти на стойку, я потягивал густой темный напиток; вокруг кипела вечерняя жизнь бедного квартала: у трактиров и лавчонок торговцев жареной рыбой толпились завсегдатаи; лотошники, стоя под керосиновыми фонарями, предлагали свой товар; медленно прогуливались женщины; среди повозок и экипажей сновали мальчишки-газетчики, выкрикивая последние новости, — но я был глух и слеп ко всему.
Через некоторое время легкий удар зонтиком по плечу вывел меня из задумчивости, и, обернувшись, я увидел «Бэби», — он стоял подле меня, расплывшись в улыбке, преисполненный доброжелательства и любви ко всему роду человеческому.
— Добрый вечер, сэр.
Я хмуро поглядел на него, но он придвинул к стойке стул и, пыхтя, взгромоздил на него свои рыхлые телеса.
— Какая счастливая встреча! Я был в «Альгамбре» — второсортное заведение, конечно, но уж очень весело. — Он постучал зонтиком по стойке, чтобы привлечь внимание официанта. — Кофе, пожалуйста, и побольше сахару. И еще хорошую порцию фруктового торта. Только выберите, пожалуйста, кусочек получше.
Я повернулся к нему спиной. Но отвязаться от Чаттерджи было невозможно: шумно прихлебывая кофе и то и дело хихикая, он непременно решил поделиться со мной впечатлениями от проведенного вечера, в которых немалое место было уделено знаменитому шотландскому комику сэру Гарри Лаудеру.
— Хи-хи-хи… Чего только этот шустрый дворянчик не выкидывал… Я так хохотал, что чуть с балкона не свалился: я ведь сидел в первом ряду. Должен вам сказать, сэр, я до того влюблен в шотландскую музыку, что непременно желаю научиться играть на волынке. Вы не могли бы порекомендовать мне преподавателя, сэр?
— Да оставьте вы меня, ради бога, в покое!
— Нет, вы только подумайте, сэр, какое удовольствие получат мои калькуттские друзья, когда, вернувшись с дипломом, я надену юбочку шотландского горца и буду исполнять им шотландские песни! — И, размахивая в такт пухлым пальцем, он высоким фальцетом затянул: — Ай-яй-яй… ля-ля-ля… с девушкой пойду… к милому Клайду… Солнышко зайдет… мне радость принесет… по сумеречным далям… по сумеречным далям бродить мы не устанем. Извините меня, доктор Роберт Шеннон, но что все-таки означает слово «сумеречным»? Очевидно, это что-то вроде леса, чащи, ущелья или еще какого-нибудь укромного места, где можно заниматься любовью? Хи-хи-хи… Правильно я угадал, сэр?
Я порылся в кармане, вынул монету, положил ее на стойку в уплату за выпитый кофе и резко поднялся с места.
— Подождите-ка, подождите, подождите, доктор Роберт Шеннон. — И он попытался задержать меня, зацепив рукояткой зонтика. — Догадайтесь, сэр. Кого бы, вы думали, я видел сегодня в театре — ведь я сидел на балконе. Двух ваших друзей — доктора Адриена Ломекса и супругу доктора Спенса; они сидели вместе внизу и очень веселились. Да не уходите же, сэр, я сейчас пойду с вами.
Но я уже выскочил из трактира. Мной владел страх, погнавший меня чуть не бегом назад, на кафедру.
«Я обязан выполнять его приказания…»
Пока я торопливо шагал обратно, мне вспомнилось, каким не предвещавшим ничего хорошего блеском загорелись глаза лаборанта, когда я уходил.
Здание кафедры, когда я подошел к нему, было погружено в полную темноту. Я поспешно открыл боковую дверь и вошел в лабораторию. Не успев переступить порог, я сразу почувствовал, что чего-то не хватает: не слышно успокоительного гудения инкубатора. Сердце у меня упало; я включил свет над своим столом и открыл инкубатор. Теперь уже сомнений быть не могло. Смит вылил мои культуры: в штативе стояли пустые пробирки, и целый месяц напряженнейшей работы пропал зря.
7
На следующее утро я не пошел в университет, а направился после завтрака на Парковую сторону, где на тихой и неприметной улочке, выходящей к Келвингровским садам, поселился, уйдя на покой, профессор Чэллис. Я был убежден, что получу совет и помощь у этого доброго старика, который так часто поддерживал меня в прошлом. Когда я позвонил, дверь мне открыла Беатрис, его замужняя дочь — приятная молодая женщина в кокетливом ситцевом домашнем платье; из-за ее юбки выглядывали две востроглазые девчушки.
— Извините, что я потревожил вас так рано, Беатрис. Могу я видеть профессора?
— Но, Роберт, — воскликнула она своим грудным голосом и невольно улыбнулась, взглянув на мое встревоженное лицо, — разве вы не знаете? Он же в отъезде.
Должно быть, разочарование мое было слишком явным, потому что она тотчас перешла на серьезный тон и принялась объяснять, что друзья увезли ее отца, который жестоко страдал от артрита, в Египет для поправления здоровья. Его не будет всю зиму.
— Не зайдете ли на минутку, — любезно добавила она. — Мы с детьми как раз завтракаем, я могу вас угостить горячим какао с бисквитом.
— Нет, спасибо, Беатрис. — И я попытался на прощанье изобразить улыбку.
Большую часть дня, серого и облачного, я бесцельно бродил по городу, глядя невидящими глазами на витрины больших магазинов на Синклер— и Мэнсфилд-стрит, а под конец направился к докам, где, окутанные холодным туманом, стояли борт о борт пришвартованные здесь на зиму речные, черные с белым, пароходы. Оттуда я вернулся в пансион и больше по привычке, чем по какой-либо иной причине, спустился вниз к чаю.
Краешком глаза я увидел, что мисс Джин Лоу, которая последние три дня отсутствовала — куда она отлучалась, я не знал, — снова сидит на своем месте. Мне показалось, что вид у нее какой-то странный, даже больной: она была бледна, а нос и глаза у нее распухли и слегка покраснели, точно от сильного насморка, но я был слишком занят своими мрачными мыслями и лишь мельком взглянул на нее. Она быстро поела и ушла.
Однако, когда минут через десять я поднялся наверх, она стояла в коридоре, прислонившись спиной к моей двери.
— Мистер Шеннон, мне хотелось бы поговорить с вами, — сказала она каким-то неестественно-натянутым тоном.
— Только не сейчас, — ответил я. — Я устал. Я занят. И к тому же у меня в комнате не прибрано.
— Тогда зайдемте в мою. — Она решительно поджала губы.
Она открыла свою дверь, и не успел я что-либо возразить, как уже стоял в ее маленькой комнатке, которая по сравнению с моей неопрятной захламленной каморкой могла служить образцом чистоты и порядка. Я впервые был у нее, и сейчас, глядя на ее узкую, аккуратно «заправленную» белоснежную постель, на вязаный, ручной работы, коврик, на фотографию ее родителей в блестящей серебряной рамке, стоявшую на маленьком столике рядом с аккуратно разложенными гребенкой и щеткой, я смутно припомнил, как она однажды сказала, что, желая помочь мисс Эйли, прибирает свою комнату сама.
— Присаживайтесь, мистер Шеннон. — И, заметив, что я собираюсь примоститься на подоконнике, она добавила с легким оттенком иронии: — Нет, нет, не там… возьмите, пожалуйста, стул… такому джентльмену, как вы, не пристало сидеть на подоконниках.
Я испытующе взглянул на нее. Она порывисто дышала и была бледнее обычного — от этой бледности ее темные глаза под припухшими веками казались еще темнее, а круги под глазами стали совсем черными. Кроме того, я с удивлением заметил, что она дрожит. Но заговорила она твердым голосом, презрительно скривив рот и не сводя с меня глаз:
— Я очень многим обязана вам, мистер Шеннон. Право же удивительно, как это вы, человек столь высокопоставленный, могли снизойти до такого бедного создания, как я, дочь какого-то пекаря!
Я невольно слушал ее, хоть и угрюмо, но внимательно.
— Вы, очевидно, заметили, что я отсутствовала несколько дней. Не хотите ли знать, где я была?
— Нет, — сказал я. — Не хочу.
— И все-таки я расскажу вам, мистер Шеннон. — Темные глаза ее сверкнули. — Я была в ваших родных местах. Каждый год наша община разбивает где-нибудь лагерь, и мой отец выступает на молитвенном собрании под открытым небом. Вам это, возможно, покажется забавным, но я езжу с ним. В этом году наш лагерь был разбит в Ливенфорде.
Я начал смутно догадываться, к чему она клонит, и настроение мое стало еще мрачнее.
— Надеюсь, палатка не обрушилась на вас.
— Нет, не обрушилась, — запальчиво ответила она, — хотя я уверена, что вам бы этого очень хотелось.
— Нисколько. Я люблю цирковые представления. Так что же вы там делали? Прыгали сквозь обручи?
— Нет, мистер Шеннон. — Голос ее дрогнул. — Мы замечательно, плодотворно выполнили свою миссию. В Ливенфорде, видите ли, есть немало хороших людей. Я познакомилась кое с кем из них после нашего первого собрания. Там была одна чудесная старушка… некая миссис Лекки.
Хоть я и крепко держал себя в руках, а все-таки вздрогнул. Правда, я больше года не видел ее, но разве мог я забыть эту упрямую женщину, которая была и опорой и бичом моего детства, эту неповторимую особу, носившую шесть нижних юбок и ботинки с резинкой сбоку, чье ложе я разделял в возрасте семи лет, любительницу молитвенных собраний под открытым небом, ревеня и мятных лепешек, которой сейчас — как я быстро прикинул в уме — должно быть, уже восемьдесят четыре года! Это ведь была моя бабушка.
Глаза стоявшей передо мною мисс Лоу метали молнии — она увидела, что задела меня за живое. Внезапно она затряслась, словно в ознобе.
— Поскольку это ваши родные места, мы, естественно, заговорили о вас. По правде сказать, мой отец спросил, нельзя ли уговорить кого-нибудь из ваших богатых родственников присоединиться к нашей общине. Она сначала уставилась на нас, а потом принялась хохотать. Да, мистер Шеннон, хохотать во все горло.
Я почувствовал, что краснею: перед моими глазами возникло желтое, сморщенное, усмехающееся лицо, но моя мучительница безжалостно продолжала наносить удары:
— Да, она рассказала нам про вас все. Сначала мы не хотели верить. «Тут какая-то ошибка, — сказал папа. — У этого молодого человека весьма высокопоставленные родственники». Тогда она повела нас через общественный сад.
— Хватит! — в ярости рявкнул я. — Меня не интересует, что она делала.
— Она повела нас через общественный сад и показала нам ваше поместье. — Бледная и дрожащая, мисс Джин Лоу, задыхаясь, с трудом выговаривала слова: — Мрачный убогий домишко, соединенный общей стеною с другим таким же, вокруг все заросло бурьяном, на веревках висит белье. И все ваши гнусные выдумки выплыли наружу одна за другой. Она сказала нам, что в войну вы вовсе не терпели крушения и не спасались на плоту. «Такой не утонет, — сказала она, — он весь пошел в своего беспутного деда». Да, она даже сказала нам… — тут, когда дело дошло до моего самого страшного греха, голос изменил мисс Джин: — …в какую церковь вы ходите.
Я в бешенстве вскочил на ноги. Это было последней каплей в чаше моих бед.
— Да какое вы имеете право читать мне мораль? Я пошутил с вами тогда — и все тут.
— Пошутили?! Это уж совсем стыдно.
— Замолчите вы наконец! — гаркнул я. — Никогда бы я вам всего этого не наговорил, если б вы не бегали за мной, не донимали меня своими проклятыми медицинскими сочинениями и… своими дурацкими белыми коровами.
— Ах, вот оно что! — Она изо всех сил закусила губу, но не смогла сдержать слез. — Вот она где правда. Эх, вы — благородный джентльмен, герой, аристократ! Вы — презренный Анания[4], вот вы кто. Поделом бы вам было, если б и вас покарали силы небесные. — Она то бледнела, то краснела, потом судорожно глотнула и вдруг бурно, неудержимо разрыдалась. — Я не желаю вас больше видеть — никогда, никогда в жизни.
— Это меня вполне устраивает. У меня вообще никогда не было желания вас видеть. По мне, так можете уезжать хоть в Блейрхилл, хоть в Западную Африку, хоть в Тимбукту. Вообще можете убираться к черту. Прощайте.
Я вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь.
8
Почти всю ночь я не спал, раздумывая над своим неопределенным будущим. В комнате было холодно. Сквозь раскрытое окно, которое я никогда не закрывал, до меня долетал грохот трамваев с Пардайк-роуд. От него у меня гудело в голове. Время от времени со стороны доков доносился протяжный вой сирены — это какое-нибудь судно, воспользовавшись приливом, спускалось по реке. Из-за стенки не слышно было ни звука — ни единого. Я лежал на спине, заложив руки за голову, и терзался горестными думами.
Ашер не понимал того, что некая внутренняя необходимость — если хотите, вдохновение — побуждала меня заниматься моим» исследованием. Как мог я забросить свою работу, ведь это означало бы пойти наперекор совести ученого, все равно, что продать себя в рабство! Желание разгадать причину эпидемии, найти эту странную бациллу было неодолимо. Я просто не мог от этого отказаться.
Настало утро; сделав над собой усилие, я поднялся. Одеваясь, я разорвал вязаный свитер, который носил под курткой, — старенький свитер, прослуживший мне всю войну и ставший положительно незаменимым. Раздосадованный, я стал бриться и порезался. Проглотив чашку чаю, я выкурил сигарету и затем отправился в университет.
Утро было холодное, ясное — казалось, все, кто попадался мне на пути, были в отличнейшем настроении. Я обогнал несколько девушек в платках — смеясь и болтая, они шли на работу в Гилморскую прачечную. На углу владелец табачной лавки протирал в своем заведении стекла.
На душе у меня было по-прежнему горько и тяжело, и чем ближе я подходил к зданиям кафедры патологии, тем больше волновался, ибо с честью выйти в критическую минуту из положения было — увы! — выше моих возможностей. Войдя в лабораторию, я увидел, что все в сборе, и побледнел.
Все смотрели на меня. Я прошел к своему столу, вытащил ящики и принялся вынимать из них бумаги и книги. Тут профессор Ашер подошел ко мне.
— Очищаете место для новых занятий, Шеннон? — мимоходом спросил он, словно я уже покорился ему. — Когда вы освободитесь, я хотел бы обсудить с вами план нашей работы.