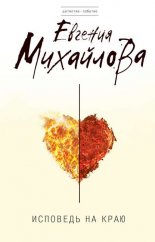Юные годы. Путь Шеннона Кронин Арчибальд
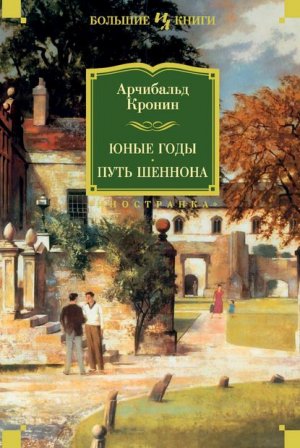
«Дорогой мистер Шеннон!
Узнав совершенно случайно, что брат едет к Вам по какому-то делу, я решила воспользоваться возможностью и написать несколько строк.
Дело в том, что мне нужно кое-что сказать Вам — это не касается ни Вас, ни меня и не имеет особого значения, но если б Вы случайно оказались в среду в Уинтоне, то не согласились ли бы Вы выпить со мной чаю у Гранта на Ботанической дороге, часов в пять? Возможно, конечно, у Вас найдутся и более интересные занятия. А возможно, Вы и вообще забыли обо мне. Словом, я не обижусь, если Вы не явитесь. Извините за навязчивость.
Всегда Ваша, Джин Лоу.
P.S. В субботу я гуляла одна в Верхнем парке и выяснила, почему мы тогда не нашли белых коров. На стадо напала какая-то болезнь, и многие из них подохли. Ну, не безобразие ли?
P.P.S. Я знаю, что у меня много недостатков, но я по крайней мере всегда говорю правду».
Я сложил записку и пристально посмотрел в лукавое и вопрошающее лицо юного Лоу: уж не Джин ли все это подстроила — и приезд Люка, и предложение пользоваться мотоциклом, и приглашение к чаю на будущей неделе — с вполне безобидной, но определенной целью? Мое дурное настроение как рукой сняло: я весь трепетал от радостного возбуждения.
— Поедете? — спросил Люк.
— Думаю, что да, — ответил я как можно более прозаическим и обыденным тоном, хотя у самого сердце так и колотилось.
— Хлопот с этими бабами не оберешься, правда? — заметил Люк с внезапно пробудившейся ко мне симпатией.
Я рассмеялся и, поддавшись внезапному порыву, стал уговаривать его остаться поужинать со мной. Мы отлично поели, затем принялись за кофе и, покуривая сигареты, расстегнув воротнички, начали рассуждать, как и подобает существам высшей породы, про гоночные мотоциклы, аэропланы, братство всех людей на земле, электрические тестомешалки и необъяснимое непостоянство слабого пола.
3
Уинтон был довольно скучный городишко, серый, окруженный кольцом вечно дымящих труб, поливаемый дождями и производящий гнетущее впечатление своей монументальной архитектурой и уродливыми скульптурами; однако славу его — если он мог претендовать на славу — составляли кафе. Десятки этих маленьких оазисов, где можно было отдохнуть и подкрепиться, оживляли унылые улицы; сюда, пройдя через небольшое помещение, отведенное под продажу пирожных, пирожков и печений, стекались в любой час дня граждане Уинтона (клерки, машинистки, продавщицы, студенты и даже степенные торговцы и дельцы), чтобы у столика, накрытого белой скатертью и уставленного вазочками с пирожками, песочным печеньем и разнообразнейшими пирожными, отвести душу за чашкой кофе или чая.
Из всех этих заведений университетская публика больше всего любила кафе Гранта, которое славилось не только своими булочками с кремом, но и атмосферой «хорошего тона»: стены здесь были обшиты темными дубовыми панелями, а над ними вперемежку с перекрещенными палашами и кинжалами висели подлинники картин, писанные членами Шотландской академии художеств.
Итак, в среду, обуреваемый нетерпением и в то же время страхом, я прибыл к Гранту. Я решил отпроситься из больницы на всю вторую половину дня, так как мне надо было еще уладить одно дело, связанное с моей научной работой. Я приехал раньше назначенного времени, но мисс Лоу явилась еще раньше меня. Не успел я войти в переполненное кафе, где стоял гул и слышалось позвякиванье ложечек в чашках, как из-за столика, над которым перекрещивались самые внушительные палаши, приподнялась маленькая фигурка и взволнованно замахала мне, приглашая скорее занять свободное место, которое ввиду большого скопления публики ей нелегко было для меня держать. И только… Никакого другого приветствия не последовало; я пробрался сквозь толпу и молча сел рядом с Джин; еще издали я заметил, что на ней теперь уже не «кругляш» и свитер, как в былые дни, а строгий темно-серый костюм и скромная черная шляпа. К тому же она заметно похудела, была бледна — очень бледна — и, хотя всячески старалась скрыть это, мучительно взволнована.
Некоторое время царило натянутое молчание, пока она, подняв указательный палец, старалась привлечь внимание официантки.
— Чай с лимоном или со сливками?
Это были ее первые слова, и произнесла она их очень тихо, не смея взглянуть на меня, тогда как официантка уже стояла у нашего столика, нетерпеливо вертя в пальцах карандаш.
Я заказал чай с лимоном.
— А булочек с кремом хотите?
Я сказал, что хочу, и добавил:
— Угощаю, конечно, я.
— Нет, — упрямо возразила она, однако губы ее дрожали. — Это я пригласила вас.
Мы сидели молча, пока не вернулась официантка, и все так же молча начали пить чай.
— Как много здесь народу, правда? — отважился наконец заметить я. — Популярное место.
— Да. — Она помолчала. — Очень популярное. И вполне заслуженно.
— О, безусловно. Чудесные булочки!
— Правда? Я очень рада.
— Не хотите ли отведать?
— Нет, благодарю вас. Я не голодна.
— Я очень огорчился, когда узнал из вашего письма о том, что случилось с белыми коровами.
— Да, бедняжки… они очень пострадали.
Снова молчание.
— Сырое стоит лето, правда?
— Очень сырое. Просто непонятно, что происходит с погодой.
Продолжительное молчание. Затем, подбодрив себя глотком чая — я заметил, что рука ее дрожала, когда она ставила чашку, — она повернулась и серьезно и пристально посмотрела на меня.
— Мистер Шеннон, — одним духом выпалила она, — я все думаю: могли бы мы остаться по-прежнему друзьями?
Я смотрел на нее в замешательстве, не зная, что сказать, а она, то краснея, то бледнея, прерывающимся голосом, но стараясь говорить возможно спокойнее и рассудительнее, продолжала:
— Когда я сказала «друзьями», я только это и имела в виду — ни больше, ни меньше. Дружба — это такая чудесная вещь. И она так редко встречается. Я имею в виду настоящую дружбу. Конечно, вам, может, вовсе не хочется дружить со мной. Я ведь ничего собой не представляю. И к тому же, сознаюсь, глупо было с моей стороны принимать некоторые вещи так близко к сердцу и ссориться с вами. Я поняла теперь, что вы просто шутили, а я как-то по-детски поверила вам. В конце концов мы ведь разумные взрослые люди, не так ли? Мы действительно принадлежим к разным вероисповеданиям, и хотя это очень серьезно, но ведь это же не преступление — во всяком случае, не такое препятствие, которое не позволяло бы нам иногда встречаться за чашкой чая. Будет очень жаль, если наша дружба оборвется просто так, ни с того ни с сего… и мы разойдемся в разные стороны… как корабли, что разминулись в ночи… я хочу сказать, если мы больше не будем видеться… а ведь, если смотреть на это здраво, мы могли бы встречаться часто, то есть время от времени… как друзья…
Она умолкла, поигрывая ложечкой; щеки ее ярко горели — так же ярко, как и карие глаза, которые с испугом, но все же решительно искали моего взгляда.
— Видите ли, — с сомнением сказал я, — трудновато это будет, правда? Я работаю. А вам надо много заниматься перед экзаменами.
— Да, я знаю, что у вас нет свободного времени. И мне, по-видимому, придется усердно заниматься. — Странно все-таки, что девушка, когда-то так рьяно изучавшая патологию, сказала это без малейшего энтузиазма, но она тут же поспешно добавила, как бы призывая разумно подходить к проблеме приобретения знаний: — Однако иногда нужна и передышка. Я хочу сказать: нельзя же работать все время.
Наступило молчание. Словно застеснявшись своего яркого румянца. Джин наконец опустила глаза и глубже села в кресло, стремясь укрыться от любопытных взглядов посетителей кафе. Я украдкой поглядывал на нее и просто не мог понять, почему до сих пор пренебрегал ею. Этот румянец, эти опущенные ресницы, отбрасывавшие легкую тень на ее свежие щечки, делали ее такой нежной и — конечно же! — похожей на ангела. Ничто: ни ее простые черные замшевые перчатки, ни старомодные круглые золотые часики, которые она носила на руке, ни даже нелепая скромная шляпка — ничто не могло испортить ее очарования и красоты.
И вдруг, к своему удивлению, я почувствовал, как теплая волна захлестывает меня, и услышал собственный голос.
— Я полагаю, — вполне резонно и решительно заявил я, — что нет такого закона, который запрещал бы это. Мне кажется, мы могли бы время от времени встречаться.
Она так и просияла. На губах ее появилась робкая счастливая улыбка, и, нагнувшись поближе, она воскликнула, и в тоне ее прозвучало преклонение перед моей высокой мудростью:
— Как я рада! А я-то боялась… Я хочу сказать, что это очень разумно.
— Отлично. — Я милостиво кивнул, принимая как должное ее похвалу, и, подстрекаемый непонятным побуждением, заглянул в ее сияющие глаза. — Что вы делаете сегодня вечером?
— Видите ли… Я собираюсь повидать барышень Дири: вы же знаете, как они были добры ко мне. А потом в половине седьмого я сяду на поезд и поеду в Блейрхилл.
Я расхрабрился и с самым невозмутимым видом предложил:
— Пойдемте-ка лучше со мной в театр.
Она заметно вздрогнула, и во взгляде ее снова появился легкий испуг, который все увеличивался, по мере того как я говорил:
— Мне надо еще кое-что сделать, это займет около часа. Давайте встретимся в семь у Королевского театра. Мартин Харвей играет там в «Единственном пути». Пьеса должна вам понравиться.
Она продолжала молча смотреть на меня, потрясенная и подавленная, точно в моем приглашении таились все ужасы и опасности, какие только существуют на свете. Потом она судорожно глотнула воздух.
— Боюсь, мистер Шеннон, что вы сказали это, не подумав. Я ведь никогда в жизни не была в театре.
— Не может быть! — Я едва верил своим ушам, хотя, казалось бы, этого можно было ожидать. — Но почему?
— Ну вы же знаете, как у нас строго дома.
Потупив глаза, она принялась пальчиком рисовать что-то на скатерти.
— В нашей общине не принято играть в карты, танцевать или ходить в театр. Конечно, отец нам не запрещал этого… но нам просто в голову не приходило поступать иначе.
Я в изумлении уставился на нее.
— В таком случае пора бы пересмотреть эти взгляды. Ведь театр, — назидательно начал я, — является одним из величайших очагов культуры. Вообще говоря, я не слишком высокого мнения о «Единственном пути». Но для начала сойдет.
Она молчала, продолжая в мучительном раздумье чертить что-то на скатерти.
Затем пуританская закваска пересилила, она медленно подняла голову и прерывающимся голосом сказала:
— Боюсь, что я не смогу пойти с вами, мистер Шеннон.
— Но почему же?
Она не отвечала, но в ее робком взгляде сквозило смятение. Ее природные склонности, ее живая и страстная натура вступили в единоборство со всем тем печальным и мрачным, чему ее учили в детстве, сурово предостерегая против искушений света и пугая апокалиптическими пророчествами, — и все это сейчас одержало над нею верх.
— Ну, знаете ли! — с досадой воскликнул я. — Это уж слишком. Вы тратите добрых полдня, убеждая меня, что мы должны бывать вместе. А когда я предлагаю вам пойти в театр и посмотреть абсолютно невинную пьесу, собственно говоря, классическую пьесу, написанную по знаменитому роману Чарльза Диккенса, вы наотрез отказываетесь идти.
— Ах, по Диккенсу… — еле слышно пробормотала она, словно это меняло дело. — По Чарльзу Диккенсу. Это очень достойный писатель.
Но я уже разозлился и, застегнув куртку, стал искать глазами официантку, чтобы расплатиться.
Заметив, что я рассержен, она вся сжалась и с возрастающим волнением наблюдала за моими приготовлениями к уходу, — грудь ее бурно вздымалась и опускалась; наконец, тяжело вздохнув, она с трепетом сдалась.
— Хорошо, — беспомощно прошептала она. — Я пойду.
Несмотря на ее молящий взгляд, я не сразу простил ее. Сначала я расплатился по счету — по поводу чего она уже не посмела вступать со мной в спор — и вывел ее на улицу. Тут я повернулся к ней и, перед тем как проститься, сказал дружелюбно, но не без скрытой угрозы:
— Итак, в семь часов у театра. Не опаздывайте.
— Хорошо, мистер Шеннон, — покорно пробормотала она и, бросив на меня последний трепетный взгляд, повернулась и пошла прочь.
Постояв с минуту, я направился на кафедру патологии, где меня должен был ждать Спенс, которого я заранее предупредил письмом о своем приезде.
Было четверть седьмого, когда я подошел к зданию кафедры, и так как мне меньше всего на свете хотелось встречаться с Ашером или Смитом, я сначала тщательно обследовал коридоры, а уж затем вошел в лабораторию. Там, как я и ожидал, сидел, низко склонившись над столом, один Спенс.
Поскольку я ступал тихо, он заметил меня, лишь когда я уже стоял подле него. И тут я с некоторым недоумением увидел, что он вовсе не работает, а задумчиво рассматривает какую-то фотографию.
— А, Роберт! — Он затуманенным взглядом посмотрел на меня. — Я по вас соскучился. Как работается в Далнейре?
— Недурно, — весело ответил я. — Поцапался с начальницей. Зато снова вырастил мою бациллу — в чистом виде.
— Прекрасно. И уже установили, что она собой представляет?
— Нет еще, но установлю. Я как раз над этим сейчас работаю.
Он кивнул.
— Я бы тоже с удовольствием ушел отсюда, Роберт. Если бы я только мог устроиться преподавателем в каком-нибудь небольшом учебном заведении… например, в Эбердине или в колледже святого Эндрью.
— Ну и устроитесь, — ободряюще заметил я.
— Да, — как-то задумчиво произнес он. — Все эти четыре года я работал как проклятый… ради Мьюриэл. Ей должно понравиться в колледже святого Эндрью.
— А как поживает Ломекс? — спросил я.
Спенс посмотрел на меня отсутствующим взглядом. И ответил не сразу:
— Все так же красив и преуспевает, как всегда. Вполне доволен жизнью… и собой.
— Я не видел его целую вечность.
— Он последнее время был, кажется, порядком занят. Ну что ж, приятно, что вы делаете успехи. Я получил ваше письмо. И могу дать вам сколько угодно чистого глицерина.
— Спасибо, Спенс. Я знал, что могу на вас рассчитывать.
Он протестующе махнул рукой. Наступило неловкое молчание. Смущенно я отвел глаза в сторону и увидел фотографию, лежавшую перед Спенсом. Он проследил за моим взглядом.
— Посмотрите, посмотрите, — сказал он и протянул мне фотографию. На ней был изображен симпатичный юноша с правильными чертами лица, хорошо сложенный и пышущий здоровьем.
— Очень приятный молодой человек, — заметил я. — Кто это?
Он рассмеялся — звук этот резанул мой слух, ибо, хотя Спенс и часто улыбался своей кривой усмешкой, я до сих пор почти не слышал его смеха.
— Представьте себе, — сказал он, — это я.
Я пробормотал что-то нечленораздельное. Я просто не знал, что сказать, и в замешательстве взглянул на Спенса. Обычно мягкий и спокойный, сейчас он был просто неузнаваем.
— Да, таким я был в восемнадцать лет. Удивительное дело, какую огромную роль играет лицо… я имею в виду не только красивое, а обычное, даже уродливое лицо. Знаете, как пишут в романах: «В его уродливом лице было какое-то необъяснимое обаяние». Но нельзя воспеть лицо, если от него осталась одна половина. Это невозможно. Колизей — грандиозное зрелище. Но только при лунном свете и если любоваться им полчаса. Кому захочется смотреть все время на развалины? Если бы спросили меня, Шеннон, я бы сказал, что под конец это начинает чертовски действовать на нервы.
Нет, никогда еще я не видел Спенса в таком болезненно возбужденном, мрачном настроении. Он был всегда так спокоен и сдержан, что собеседник невольно забывал о том, какая ему нужна железная воля, чтобы не поддаться чувству жалости к себе. Глубоко взволнованный, почему-то смущенный, я молчал, не зная, что говорить, да и надо ли говорить вообще. Казалось, Спенс сейчас разрыдается, но он вдруг овладел собой и, поспешно вскочив со стула, направился к шкафу.
— Идите сюда, — резко позвал он. — Давайте упаковывать глицерин.
Я неторопливо подошел к нему.
Мы вместе отобрали дюжину поллитровых склянок с раствором, запаковали их в солому и поставили в прочную плетеную корзину с крышкой. И, еще раз горячо поблагодарив Спенса, я ушел. Странная вспышка, которой я был свидетелем, глубоко потрясла меня.
4
У подножия холма я сел в красный трамвай, который привез меня на Центральный вокзал, где я сдал свою корзину в камеру хранения багажа. Затем я зашел в буфет и наспех подкрепился бутербродом с холодными сосисками и стаканом пива. Я начал опасаться за исход сегодняшнего вечера: а вдруг излишне щепетильная совесть мисс Джин станет непреодолимым барьером на пути к нашему увеселению?
Однако, когда мы с Джин встретились у театра, я не заметил на ее лице и тени колебания: она с нетерпением ждала предстоящего события, и ее темные глаза возбужденно блестели.
— Я видела афиши, — сообщила она мне, когда мы входили в фойе, — в них нет ничего предосудительного.
Места у нас были хоть и не дорогие, но вполне приличные — два кресла в третьем ряду, и когда мы садились, оркестр как раз начал настраиваться. Моя спутница бросила на меня выразительный взгляд и уткнулась в программу, которую я ей вручил. Затем, словно желая избавиться от каких бы то ни было помех, она сняла с руки часы-браслет и отдала мне.
— Спрячьте это, пожалуйста. Браслет мне велик. И я сегодня весь день боялась, как бы его не потерять.
Свет скоро потух, и после краткой увертюры занавес взвился: перед зрителями предстал Париж восемнадцатого века, и начала медленно разворачиваться душераздирающая мелодрама времен Французской революции, где неразделенная любовь переплетается с героическим самопожертвованием.
Это была неумирающая пьеса по «Повести о двух городах», в которой блистательный актер Мартин Харвей, доблестно отдавая себя из вечера в вечер (а по средам — и днем) служению рампе, лет двадцать покорял провинциальную публику.
Сначала моя спутница, видимо из осторожности, не выказывала своего отношения к происходящему, но постепенно она увлеклась, ее ясные глазки засверкали от удовольствия и восторга. Не отрывая взгляда от сцены, она взволнованно прошептала:
— Какая чудесная пьеса!..
Она была поистине очарована бледным чернооким красавцем Сиднеем Картоном и хрупкой, точно сильфида, прелестной Люси Манет.
Наступил первый антракт. Джин медленно вздохнула и, обмахивая разгоревшиеся щеки программкой, с благодарностью взглянула на меня.
— Изумительно, мистер Шеннон! Этого я никак не ожидала. Даже выразить не могу, как мне все это нравится.
— Хотите мороженого?
— Ах нет, что вы, как можно! После того, что мы видели, это было бы святотатством.
— Пьеса, конечно, не первоклассная.
— Ах что вы, что вы! — запротестовала она. — Пьеса прелестная. Мне так жаль бедненького Сиднея Картона. Ведь он так любит Люси, а она… Ах, как это, должно быть, ужасно, мистер Шеннон, безумно любить кого-то, кто не любит тебя.
— Безусловно, — с самым серьезным видом согласился я. — Но они ведь большие друзья. А дружба — это такая чудесная вещь.
Она уткнулась в программку, чтобы скрыть вдруг вспыхнувший румянец.
— Мне они все очень нравятся, — сказала она. — Девушка, которая играет Люси, просто очаровательна: у нее такие красивые длинные волосы, и такие светлые. Ее зовут мисс Н. де Сильва.
— В жизни, — заметил я, — она жена Мартина Харвея.
— Не может быть! — воскликнула она, в волнении подняв на меня глаза. — Как интересно!
— Ей, наверно, лет сорок пять, и эти светлые волосы — не ее собственные, а парик.
— Прошу вас, мистер Шеннон, не надо! — воскликнула возмущенная Джин. — Как можно так шутить! Мне все это очень нравится, решительно все. Те! Занавес поднимается.
Второй акт начался с зеленых световых эффектов и нежной грустной музыки. И чем дальше развивалось действие, тем сильнее переживала все его перипетии моя чувствительная спутница. Глубоко взволнованная, она в перерыве почти не проронила ни слова. А в середине последнего акта, когда события на сцене снова всецело захватили ее, произошло нечто совсем уж удивительное: не знаю как, но вдруг рука ее, маленькая и влажная, очутилась в моей. И до того приятно было чувствовать жаркий ток ее крови, что я не стал отнимать свою руку. Так мы и сидели, сплетя пальцы, словно черпая друг в друге поддержку, в то время как перед нами разворачивалась трагедия самопожертвования Картона, уже подходившая к своему душераздирающему концу. Когда благородный малый, решившись на самую большую жертву, твердо взошел на помост гильотины — бледный, черные кудри старательно взъерошены — и грустно обвел своими выразительными глазами галерею и партер, я почувствовал, как дрожь пробежала по телу моей спутницы, которая сидела теперь, прижавшись ко мне, а потом, точно капли дождя весною, мне на руку закапали одна за другой ее горячие слезинки.
Но вот и конец: весь театр аплодирует, снова и снова вызывая мисс де Сильва и Мартина Харвея, чудесно воскрешенного из могилы, такого теперь счастливого и красивого, в шелковой рубашке и высоких лакированных сапогах. Однако мисс Джин Лоу слишком взволнована, чтобы присоединиться к банальным аплодисментам. Молча, словно придавленная бременем чувств, которые она не в силах выразить словами. Джин встала и вместе со мной направилась к выходу. И только когда мы уже были на улице, она повернулась ко мне.
— Ах, Роберт, Роберт, — прошептала она, глядя на меня глазами, полными слез, — вы и представить себе не можете, какое я получила удовольствие.
Никогда прежде она не называла меня по имени.
Мы молча дошли до Центрального вокзала, и, поскольку поезд, последний в этот день, отходил только через четверть часа, мы несколько смущенно остановились у книжного киоска, под часами.
Внезапно, словно очнувшись от грез и что-то вспомнив, мисс Джин вздрогнула.
— А мои часы? — воскликнула она. — Я чуть не забыла про них.
— Да, в самом деле, — улыбнулся я. — Я тоже совсем забыл про них. — И я принялся шарить в кармане пиджака, ища доверенный мне браслет.
Но я его не обнаружил. Тщетно обыскал я все карманы пиджака, внутренние и наружные. Затем с возрастающей тревогой начал рыться в карманах жилета.
— Боже правый, — пробормотал я, — почему-то их нет.
— Но они должны быть у вас. — Голос ее звучал как-то подозрительно и натянуто. — Ведь я же отдала их вам.
— Я знаю, что отдали. Но я такой рассеянный. Положу, куда-нибудь, а потом забуду.
Теперь я уже в отчаянии шарил по карманам брюк, но безуспешно; внезапно, подняв глаза, я увидел лицо мисс Джин, взиравшей на меня с видом непорочной девы, в конце концов обнаружившей, что она имеет дело с мерзавцем, который обманывает ее, надувает и водит за нос, — на лице этом было выражение такой боли и ужаса, что я, оторопев, прекратил поиски.
— Что случилось?
— Да ведь часы-то не мои. — Губы ее побелели, как у мертвеца, а голос был еле слышен. — Это мамины часы, их подарил ей папа. Я попросила их у нее, чтобы похвастать перед вами. Ах, боже мой, боже мой! — Неиссякаемый родник слез забил с новой силой. — И это после такого чудесного вечера… когда я вам так доверилась… и так полюбила вас…
— Великий боже, — воскликнул я, — да вы что, думаете, я украл ваши проклятые часы, что ли?
Вместо ответа она громко разрыдалась. И в поисках уже и без того промокшего платка открыла сумочку, — под мрачными сводами вокзала ярко блеснуло золото. Она вздрогнула, а я вспомнил, что, когда она сидела, как зачарованная, рядом со мной, я, боясь и в самом деле потерять вещицу, сунул часы для верности ей в сумочку.
— О боже мой, боже мой! — ужаснулась она. В испуге и раскаянии она уставилась на меня и, запинаясь, пробормотала: — Да как же я могла… простите ли вы меня когда-нибудь… ведь я усомнилась в вас!
Мертвое молчание с моей стороны.
Позади раздался пронзительный свисток кондуктора, а затем — прощальный гудок паровоза.
— Роберт! — не своим голосом воскликнула она. — Ну что я могу сказать?.. Ох, дорогой мой, что мне сделать, чтобы вы простили меня?
Я холодно смотрел на нее. Снова раздался гудок паровоза.
— Советую вам поскорее сесть в поезд, если вы не хотите провести ночь на уинтонской мостовой.
Она перевела обезумевший взгляд на платформу, от которой, со свистом выпуская пар, медленно отходил поезд. Секунду она колебалась, потом, всхлипнув, повернулась и бросилась бежать.
Увидев, что она благополучно села, я отправился в камеру хранения, взял оттуда мою корзинку и через несколько минут, весьма довольный собою, сел в последний поезд, отправлявшийся в Далнейр. Я сознавал, что вел себя не очень-то благородно, зато, точно Сидней Картон, я теперь был окружен ореолом в глазах Джин, и мне это даже нравилось.
5
В больницу я вернулся незадолго до полуночи и, к своему удивлению, заметил, что в окне мисс Траджен еще горит свет. Взглянув на доску в холле, я увидел, что никаких новых больных не поступало, закрыл дверь на ключ и решил немедленно ложиться спать. Но не успел я войти к себе в комнату, как услышал в коридоре вкрадчивый голос, который мог принадлежать только сестре Пик:
— Доктор… доктор Шеннон!
Я открыл дверь.
— Доктор, — произнесла она со своей смиренной улыбкой, не поднимая глаз. — Начальница хочет вас видеть.
— Что?!
— Да, доктор, немедленно. Она ждет вас у себя в кабинете.
Этот властный вызов через другое лицо да еще в такой час показался мне дерзостью. Желая сохранить мир, я в первую минуту решил подчиниться. Но потом подумал, что это уж слишком.
— Передайте начальнице мое почтение. И скажите ей, что, если она хочет со мной говорить, она знает, где меня найти.
Сестра Пик в ужасе закатила глаза, но по тому, как она поторопилась выполнить мое поручение, я понял, что она с удовольствием сыграет роль добросовестного посредника и уж постарается углубить разногласия между начальницей и мной. Должно быть, она действительно поспешила передать мои слова, ибо не прошло и минуты, как мисс Траджен влетела ко мне — в темном форменном платье, но без наколки, манжет и воротничка. Ее лицо без этого белого обрамления казалось сейчас совсем желтым.
— Доктор Шеннон! Сегодня я производила ежемесячный обход больницы и зашла в лабораторию. Я обнаружила там ужасающий беспорядок: помещение захламлено, неприбрано — настоящая свалка.
— Ну и что же?
— Это все вы натворили?
— Да.
— Вы не имели права, никакого права это делать. Вы должны были сначала спросить у меня разрешение.
— Это еще почему?
— Потому что я здесь распоряжаюсь.
— Может, вы и всей больницей распоряжаетесь? — Я почувствовал, что начинаю кипятиться. — Вы хотите всем здесь командовать. Вы лишь тогда довольны, когда окружающие ползают на коленях перед вами. Вообще вы держите себя здесь так, точно эта больница — ваша собственность. А она не ваша. У меня здесь тоже кое-какие права. Я сейчас веду важную научную работу. Для этого мне и понадобилась лаборатория.
— В таком случае я попрошу вас освободить ее.
— Иными словами, вы предлагаете мне прекратить мою работу?
— Мне безразлично, чем вы занимаетесь, лишь бы вы выполняли свои обязанности. А вот лабораторию извольте освободить: я хочу, чтобы в ней снова было чисто и прибрано.
— Но зачем она вам? Ею же никто не пользуется.
Она отрывисто рассмеялась.
— Вот тут-то вы и ошибаетесь. В это время года она всегда бывает занята. В ней читают лекции для сестер. Разве вы не заметили там парт? Курс лекций начинается в субботу.
— Но ведь это можно устроить и в другой комнате, — возразил я, чувствуя, что почва уходит у меня из-под ног.
Она медленно покачала головой.
— У нас нет других подходящих комнат. Разве что изолятор. Но там очень сыро и скверно. А я, не говоря уже о сестрах, не хочу, чтобы вам было неудобно, доктор. Ведь лекции-то, — и она с ядовитой усмешкой метнула в меня свою последнюю стрелу, — читать должны вы.
Она, конечно, ловко меня обошла — буквально загнала в угол, — и мне оставалось лишь молча сверлить ее ненавидящим взглядом. А в ее глазах, когда она направилась к двери, светилась ироническая усмешка: уж очень она была довольна, что поквиталась со мной и поставила меня на место.
Я лег в постель, раздумывая над тем, как выбраться из этой новой беды, которая свалилась на меня. Закаленная жизнью, изобилующей ссорами и скандалами, привыкшая к бесконечным препирательствам со слугами, поставщиками, сиделками и сестрами милосердия, мисс Траджен победоносно шла своим путем, не оглядываясь на покоренных ею врачей, и была из тех, с кем не так-то легко справиться. Поэтому как бы я ни злился, но сейчас я вынужден был стратегически отступить.
На следующий день за вторым завтраком я объявил ей после некоторого молчания, что освобожу лабораторию.
В награду за мою капитуляцию она одарила меня мрачной улыбкой.
— Я была уверена, что вы одумаетесь, доктор. Передайте мне, пожалуйста, соус. Помнится, когда я была в Богре…
Мне казалось, что я сейчас ударю ее бутылкой по голове. Вместо этого я с такой же мрачной улыбкой передал ей соус.
Через час, в половине третьего, я отправился на прогулку и как бы ненароком очутился возле изолятора, где раньше держали больных оспой; дойдя до него, я нырнул в растущие вокруг кусты. Мисс Траджен была занята в бельевой, но я все-таки решил соблюдать осторожность.
Изолятор был настоящей развалиной — иначе его не назовешь; проникнуть в него мне удалось, лишь сломав проржавевшую железную дверцу. Окна были закрыты ставнями, и внутри было темно, холодно, как в могиле, и совсем пусто, если не считать пыли и паутины, — помещение, видно, годами не проветривалось. Обжигая себе пальцы, я чиркал спички, чтобы разглядеть эту заброшенную лачугу. В дощатом полу зияла дыра там, где раньше стояла печка. Эмалированная раковина с отбитыми краями, пожелтевшая от ржавчины и покоробившаяся, валялась в углу. Даже вода и та была отключена, и водопроводный кран совсем заржавел.
В полном расстройстве вышел я из домика, отыскал в гараже Пима и рассказал ему про свое горе.
— Придется перебраться в бывший изолятор для оспенных.
Он недоверчиво рассмеялся:
— В изолятор? Да ведь он ни на что не годен.
— А мы его отремонтируем.
— Никогда нам этого не сделать.
Он упрямо стоял на своем и, лишь когда я сунул ему в руку десять шиллингов, наконец согласился, хоть и весьма неохотно, с моим планом.
В тот же вечер, когда стемнело, мы перетащили весь мой инвентарь из лаборатории в ветхий домишко. Затем Пим, не переставая ворчать, начал приводить помещение в элементарный порядок: он сделал новый водопроводный кран, соединил перерезанные электрические провода, подправил половицы, рамы, двери — там, где они совсем прогнили. Грязные и усталые, мы в десять часов прекратили работу, так как ему надо было ехать на станцию встречать кого-то из сестер.
Потребовалось еще два вечера, чтобы закончить все поделки, причем результат получился весьма малоутешительный. И все-таки у меня теперь был свой уголок. Правда, в помещении гуляли сквозняки и оно не отапливалось, зато к моим услугам имелся крепкий рабочий стол, вода, электричество, четыре стены и крыша. Сестра Кеймерон из скарлатинного отделения смастерила мне три красные фланелевые занавески из старых пижам, и теперь, сдвинув их и закрыв ставни, я мог не опасаться, что даже слабый луч света пробьется наружу. Новый замок на двери давал мне одному право входа и выхода. А хитроумное сооружение, которое придумал Пим, подсоединив с помощью проволоки звонок на дверях моей комнаты к зуммеру в изоляторе, позволяло мне знать, когда я требуюсь. Словом, в моем распоряжении была теперь секретная лаборатория — форт, арсенал для научной работы, откуда уже никто не мог меня выгнать. Каждый вечер после обхода палат я отправлялся на прогулку и, подойдя в сгущающейся темноте к лавровым кустам, продирался сквозь них в свое святилище. В девять часов я уже усердно трудился.
Взбадривая себя черным кофе, который я варил сам, я работал обычно до часу ночи, а иногда, увлекшись, сидел до зари и вовсе не ложился спать в расчете на то, что холодный душ и растирание махровым полотенцем перед завтраком освежат меня и позволят справиться с обязанностями наступающего дня.
Я быстро продвигался в своей работе, но постоянное напряжение стало сказываться на моих нервах, и я начал под вечер совершать прогулки на мотоцикле Люка. Ничто так не успокаивало, как быстрая езда по пустынным сельским дорогам, когда ветер свистит в ушах и скорость притупляет все чувства. Мотоцикл, словно притягиваемый к родным местам, неизменно привозил меня в окрестности Блейрхилла, и я с ревом и треском проносился мимо ворот «Силоамской купели».
Как-то раз, вместо того чтобы промчаться мимо, я притормозил, свернул на боковую дорожку и остановился у стены, окружавшей сад. Стена была каменная, но невысокая, и я без особого труда взобрался на нее. И там, чуть ли не у своих ног, в решетчатой беседке, я увидел дочь блейрхиллского пекаря.
Подперев подбородок ладонью, без шляпы, в короткой жакетке она сидела у грубо сколоченного стола, на котором лежали медицинский учебник и кулек со сливами, и, не подозревая о моем присутствии, конечно, занималась. Однако вид у нее был до того задумчивый, взгляд до того отсутствующий и она таким рассеянным жестом и настолько часто запускала пальчики в лежавший перед нею кулек, что я усомнился, так ли уж прилежно изучает она «Медицинскую практику» Ослера, как это могло показаться. В самом деле, пока я стоял возле нее, она ни разу не перевернула страницы, зато с меланхоличным видом положила себе в рот уже три спелые сливы, а сейчас, выбрав с тяжким вздохом четвертую, вонзила в ее сочную мякоть свои белые зубки, так что капельки красноватого сока потекли у нее по подбородку; тут она неожиданно взглянула вверх и увидела меня на стене. Она вздрогнула и чуть не подавилась косточкой.
— Не бойтесь, пожалуйста, — сказал я. — Я ничего не собираюсь у вас красть.