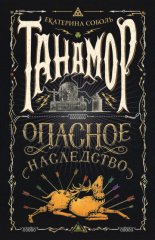Острие скальпеля. Истории, раскрывающие сердце и разум кардиохирурга Уэстаби Стивен

Сидя у койки Стива, его жена Хилари занялась поиском кое-какой информации в интернете. Какова ожидаемая смертность от расслоения аорты? В международном реестре ведущих кардиоцентров Европы и США говорилось, что двадцать пять процентов. Какова самая низкая зафиксированная смертность среди пациентов одного врача? Шесть процентов. Кто оперировал этих пациентов? Хирург из Оксфорда. Так кто бы дал Стиву наилучшие шансы пережить эту катастрофу? Я без колебаний был готов сделать все возможное, чтобы спасти своего товарища. Как говорится, для этого и нужны друзья.
Затем Сара спросила, ел ли я что-нибудь. Мне потребовалось время обдумать вопрос. Я вспомнил сэндвич с беконом, который съел на рассвете. Я сказал ей, что куплю в автомате пакетик чипсов, прежде чем приступлю к ночной работе. Однако на тот момент еда беспокоила меня меньше всего. Мне требовался опытный первый ассистент, который уже оперировал со мной пациентов с расслоением аорты, а не сторонний человек из агентства, присланный на пару ночных смен. Когда ситуация становится особенно сложной, сплоченная бригада имеет огромное значение. Простая укомплектованность персоналом – это не то же самое. Амир в тот день не дежурил, поэтому я позвонил ему и спросил, занят ли он. Я был уверен, что он не выпивает. Он выразил бурное желание помочь. Он считал за честь тащиться среди ночи в больницу, чтобы помочь начальнику со сложной операцией. Я знал, что он способен стоять у стола часами, когда мне требовался кто-то, чтобы остановить кровотечение, а затем зашить пациента.
Стив и Хилари были гостями на нашей свадьбе с первой женой Джейн. Окончив медицинскую школу, мы были молодыми интернами в больнице Чаринг-Кросс; мы играли в регби и никогда не относились к жизни слишком серьезно. Ходили слухи, что Стив пришил пенис трупа к ширинке джинсов, а затем ходил по прозекторской и «светил» им, распахивая белый халат. Я подозреваю, что это выдумка. Однако именно со Стивом мы заключили пари, в результате которого мне пришлось голым пробежать вдоль Пембридж-Гарденс до станции метро Ноттинг-Хилл-Гейт в час пик. Нас обоих выловили из фонтана на Трафальгарской площади после вечеринки регбийного клуба на Флит-стрит, после чего мы провели холодную ночь в полицейском участке на Боу-стрит. Я не сдал анатомию в том семестре. Приключения давно остались в прошлом, и от них остались лишь фрагменты воспоминаний. Теперь Стив, неожиданно оказавшийся на грани жизни и смерти, ехал ко мне парализованный в полусознательном состоянии. Некогда хорошие друзья превратились в хирурга и пациента. Я не ожидал, что так будет, и, конечно, не хотел этого.
Ситуация может стать особенно сложной, если нет сплоченной команды, и простая укомплектованность персоналом тут не поможет.
Чтобы скоротать время, я слонялся по тихим больничным коридорам, сознательно обходя стороной кардиологический блок интенсивной терапии. Я бы разрешил Пиготту сообщить им, что у нас пациент в тяжелом состоянии, когда мы уже оказались бы в операционной. Или, возможно, я бы попросил об этом Амира, который присоединился ко мне в общем отделении интенсивной терапии, куда мы пришли проведать женщину, пострадавшую от рыбьей кости. Спасенная пациентка, чье имя осталось для меня неизвестным, начала приходить в сознание. Ее окружали взволнованные дочери, которые сжимали холодные руки своей матери под одеялом с подогревом. Как и ожидалось, после гипотермической остановки кровообращения температура ее тела была всего 34 °C, из-за чего она сильно дрожала. Из-за дрожи и вазоконстрикции[18] в ответ на холод ее кровяное давление взлетело до астрономических показателей, что могло привести к разрыву наложенных на аорту швов.
Кардиохирурги обычно не отличаются скромностью и желанием оставаться в тени.
Девушка-ординатор с отстраненным видом подошла к нам. Она явно не знала, к кому собирается обратиться.
– Я могу вам помочь? – спросила она безразличным голосом, предполагая, что неопрятный посетитель в синем хирургическом костюме был санитаром или кем-то вроде того. Мой ответ, должно быть, удивил ее.
– Нет, но вы можете помочь этой женщине, если снизите ее кровяное давление, прежде чем ее чертов трансплантат оторвется. Обездвижьте ее и усыпите до утра.
Дочери выпучили глаза. Они не поняли, что именно я говорил, но ощутили напряжение между двумя сторонами.
– Дайте ей дозу пропранолола немедленно, – уверенно сказал Амир.
Девушка-ординатор разволновалась и приготовилась обороняться. Она практически испытывала шок. Она была немногим старше моей именинницы, и я сразу пожалел, что был груб с ней. Возможно, все стоило сделать иначе. Мне следовало потратить время, чтобы представиться и нескромно взять на себя ответственность за спасение этой женщины, после чего родственники должны были склониться передо мной и начать меня боготворить за такое странное и героическое спасение. Однако это была пациентка Ника. Он уже объяснил все родственникам. Я не стремился вмешиваться, но мне определенно не хотелось, чтобы трансплантат оторвался после всех приложенных усилий. Отдав распоряжения, мы пожелали всем спокойной ночи и пошли дальше. Врачи из отделения интенсивной терапии всегда такие чувствительные.
22:00. Мы с Амиром тихо проскользнули в детское отделение интенсивной терапии, чтобы взглянуть на прооперированную утром девочку. Однако в первую очередь я подошел к матери больного менингитом ребенка. Его черные гангренозные ручки теперь заменили рулоны белоснежного крепового бинта. Пугающий контраст. Была ли мать рада, что маленькие мумифицированные руки ампутировали, или же ее это огорчало? Я задумался: попросил бы я их оставить, если бы это был мой ребенок? Отогнав от себя эту страшную мысль, я просто спросил, как прошла операция. Была ли она, мать, в порядке? Мог ли я помочь ей чем-нибудь? Принести кофе? Она просто посмотрела на меня со слезами на глазах и ничего не ответила. Медсестра знала меня достаточно хорошо и покачала головой. Я направился к собственной маленькой пациентке.
Теперь дренажные трубки, идущие из груди, были сухими. Пульс и кровяное давление стабилизировались. Медсестра сообщила мне, что доктор Арчер сделал эхокардиографию и остался очень доволен: ни клапаны, ни заплаты не подтекали. Сердце исправили на всю жизнь. Родители девочки отошли от шока, вызванного внезапной повторной операцией, и ушли в палату, чтобы немного отдохнуть. Они осознали, с какими трудностями мы столкнулись, и это было очень важно. Не каждый день приходится бороться за возможность отвезти пациента в операционную и неоднократно ругаться из-за койки в отделении интенсивной терапии. Когда наступала ночь, мы всегда надеялись на стабильных пациентов, радостных родителей, счастливых супругов и светлое будущее для всех них. Когда все легли спать, я прошел по длинному темному коридору к дверям отделения неотложной помощи.
Оказавшись на свежем воздухе впервые за шестнадцать часов, я стал рассматривать звездное небо и ждать машину скорой помощи. Операционная была готова, аппарат искусственного кровообращения привезен, а бригада смотрела новости в кафетерии, зевая от скуки и пытаясь смириться с тем, что им придется провести в больнице всю ночь. Мои мысли переключились на Джемму и на то, что я в очередной раз ее разочаровал. Но, возможно, я ошибался. Может, без меня ей было гораздо веселее.
23:50. Скорая помощь с логотипом Службы здравоохранения Восточной Англии и включенными синими мигающими огнями наконец прибыла. Парамедики распахнули задние двери, и Люси, дежурство которой давно закончилось, вышла из машины. Я сразу понял, что это она. Как в сцене из «Касабланки», она направилась к дверям отделения неотложной помощи, держа кипу медицинских записей. В тот момент я подумал о том, как она прекрасна.
«Вы ведь профессор? – сказала она. – Миссис Нортон рассказывала мне о вас. Я училась в Кембридже, и там до сих пор о вас говорят». Я предположил, что ничего хорошего там обо мне не говорили.
К нам подвезли каталку с лежавшим на ней Стивом, мозг и тело которого сильно пострадали. В последний раз мы виделись шесть месяцев назад на встрече выпускников медицинской школы. Он произнес очень забавную речь о том, что все присутствующие до сих пор живы, несмотря на его операцию на открытом сердце. Я пошутил, что все могло получиться иначе, если бы его оперировал я. Теперь он был в Оксфорде в тяжелом состоянии, а его семья все еще находилась где-то на М25. Не такой следующей встречи мы все ждали. Я взял его левую руку, которая крепко сжала мою. Эта сторона его тела все еще могла двигаться. Затем мы с Люси и процессией прошли по коридору отделения неотложной помощи и сразу направились в операционный блок. Беглый взгляд на снимки компьютерного томографа подтвердил смертельно опасный диагноз.
Когда наступала ночь, мы всегда надеялись на стабильных пациентов, радостных родителей, счастливых супругов и светлое будущее для всех них.
Мы не имеем права оперировать без согласия, но он был один, и я не хотел быть слишком многословным. Я просто сказал ему, что устраню расслоение и, если повезет, его мозг восстановится. Он с трудом ответил мне, что хотел бы увидеть Хилари и детей, прежде чем ему сделают анестезию. У Люси был номер Хилари, поэтому я позвонил ей. Они находились минимум в сорока пяти минутах езды. Шансы на неврологическое восстановление снижались с каждой минутой, а мы и так впустую потратили слишком много часов. Когда я пообещал не дать ему умереть, Стив левой рукой поставил крестик на листе информированного согласия. Я подписался чуть ниже, а Дейв Пиготт усыпил Стива безопасным для мозга барбитуратом.
Мы свели разговоры друг с другом к минимуму, потому что хирургия должна оставаться беспристрастной, даже анонимной. В данном случае это было легко, потому что Стив не мог говорить, а я просто не находил в себе сил озвучить реальный риск другу, который точно умер бы, если бы никто не взялся его оперировать. Он тоже был врачом и все понимал. Мне не хотелось тревожить его еще больше в последние минуты, проведенные им в сознании.
Я сидел в кафетерии до тех пор, пока лилово-белое тело не окрасили раствором йода в коричневый цвет и не задрапировали. Мне не хотелось видеть его дряблый торс. Я предпочитал вспоминать его таким, каким он был раньше: прекрасно сложенным парнем, который, переполненный адреналином и готовый к схватке, выходил на поле зимним днем. Раньше мы были очень близки, а сейчас стали совершенно разными. Стив обычно сидел в своем кабинете, дружелюбно болтая с пациентами и раздавая таблетки. Правильный врач. Я же находился в больнице ночью после дня, наполненного конфликтами и разочарованиями, готовый разрезать Стива ножом и провести по его груди осциллирующей пилой. Однако адреналин рассеял мою усталость и заставил забыть о времени. Игра началась.
Мой друг умер бы наверняка, если бы никто не взялся за его сложный случай. Но озвучить ему этот риск у меня не было сил.
В ходе предыдущей операции Стив лишился перикарда и вилочковой железы между задней поверхностью грудины и передней поверхностью сердца. С расширенной и тонкой, как бумага, аортой непосредственно внизу повторное вскрытие грудной клетки осциллирующей пилой было чрезвычайно рискованным. Чтобы снизить риск опасного для жизни кровотечения, я обнажил главные артерию и вену ноги и соединил их с аппаратом искусственного кровообращения. Если бы пила повредила сердце или аорту, я смог бы оперативно включить аппарат, снять давление с сосудов, а затем быстро откачать кровь с поврежденного участка. В большинстве случаев это работало. Иногда нет. Если бы кардиохирургия была легкой, все бы ей занимались.
Операция Стива напоминала замену труб в викторианском доме. Все главные трубы были искорежены, а те, что выходили из бойлера, требовалось заменить, потому что они были ржавыми и могли разорваться на кусочки в любой момент. Из-за этого я не мог работать, пока по ним текла горячая вода. Мне пришлось сделать то же самое, что мы сделали с пациенткой, проглотившей кость: охладить мозг и слить всю кровь в аппарат. Дейв поместил электроды электроэнцефалографа на скальп, чтобы отслеживать мозговые волны, которые, и так сильно искаженные после инсульта, постепенно исчезали, пока температура Стива падала. Амир начал разрезать кожу прямо вдоль шрама от предыдущей операции, а затем взял электрокаутер, чтобы рассечь жир до кости. После этого он кусачками рассек старые костные швы из нержавеющей стали и вырвал их. Я всегда вскрывал грудину самостоятельно. Нужно обладать опытом, чтобы опустить осциллирующую пилу на нужную глубину. Вы должны почувствовать, как она нежно проходит через заднюю часть грудины, а затем приподнять ее на случай, если кость и мышца правого желудочка срослись.
Расслоенная аорта имела пугающий вид спелого баклажана, фиолетового и злого. Я видел кровь, которая бурлила под опасно тонким внешним слоем. Дейв поместил эходатчик в пищевод непосредственно под сердцем. Он показал первоначальный разрыв в стенке аорты примерно в сантиметре от основания коронарных артерий, жизненно важных ветвей, которые питают само сердце. Моя задача заключалась в том, чтобы заменить разорванную часть и восстановить приток крови туда, где он был предусмотрен природой. Я надеялся наладить приток крови к мозгу Стива и его почечным артериям. Пострадавшая почка, несомненно, выжила бы, но травмированный мозг – вряд ли. Он слишком долго был лишен притока крови и кислорода, хотя барбитураты и охлаждение могли помочь.
Я велел перфузионисту Брайану подключить пациента к аппарату искусственного кровообращения и охладить его до 18 °C. Сливать кровь из всего живого тела довольно интересно. Только вампиры и немногочисленные кардиохирурги, которые устраняют врожденные пороки сердца и обширные аневризмы аорты, делают это. Я специализировался на обеих операциях, поэтому опустошал людей регулярно. Однажды я прочитал шуточную лекцию о халяльных людях в замке Дракулы в Румынии. Я чувствовал себя там как дома. У нас с графом было много общего.
Я всегда вскрывал грудину самостоятельно. Необходимо чувствовать, как пила нежно проходит через ее заднюю часть.
Обычно я довольно расслабленно работал с большой скоростью, даже когда к мозгу не было притока крови. Я не терял времени, размышляя о мозговых клетках, пока они умирали, но и не торопился слишком сильно. В 01:30 я велел Брайану отключить аппарат искусственного кровообращения и дренаж (я делал это во второй раз за последние двадцать четыре часа). Холодная антикоагулированная кровь Стива находилась в резервуаре, подобно морсу в кувшине, до того момента, пока не придет время возвращать ее в тело. Я обрубал пустую расслоившуюся аорту до тех пор, пока не увидел внутреннюю поверхность тех жизненно важных ответвлений, которые шли к голове и рукам.
Первым шагом было соединить отделившиеся друг от друга слои сосуда с помощью специального клея для тканей. Я был одним из первых хирургов в мире, начавших использовать клей, что, несомненно, улучшило статистику выживаемости моих пациентов. Затем с заботой, граничащей с одержимостью, я вшил сосудистый трансплантат, укрепив его полосками тефлоновой ткани, чтобы швы не разорвали нежную ткань сосуда. Выживание каждого пациента зависело от связи коры моего головного мозга с кончиками пальцев, но это имело особое значение в операциях по устранению расслоения аорты. Амир внимательно наблюдал за каждым моим движением. Он хотел научиться всем тонкостям техники и именно поэтому с готовностью согласился ассистировать. Я знал, что однажды Амир непременно добьется успеха.
Восстановление аорты и вшивание трансплантата без кровоснабжения заняло тридцать четыре минуты. На нормальном мозге это не отразилось бы, но мозг Стива не был нормальным. Мы осторожно наполнили сосудистое дерево кровью и устранили воздух из сосудов головы. Как только заработал аппарат искусственного кровообращения, кровь засочилась сквозь отверстия от иглы. Кровотечение должно было продолжаться до окончания действия антикоагулянтов, которые не давали крови сворачиваться на инородной поверхности резервуара. Приходилось помнить о множестве мелких шагов, но вся их последовательность укоренилась в моих нейронных сетях. Я все делал на автопилоте даже рано утром.
Сливать кровь из живого тела довольно интересно. Только вампиры и немногочисленные кардиохирурги, устраняющие врожденные пороки сердца и обширные аневризмы аорты, делают это.
Пришло время разогревать тело Стива до нормальной температуры. Когда теплая кровь поступила в коронарные артерии, сердечная мышца снова ожила. Сначала сердце принялось извиваться, поскольку развилась фибрилляция желудочков, которая внезапно сменилась дефибрилляцией; затем начались медленные сокращения, скорость которых росла с повышением температуры тела. Вскоре электроэнцефалограф снова зафиксировал мозговые волны. Дейв заметил, что они выглядели уже немного лучше.
Подобные реанимационные мероприятия нам пришлось осуществлять лишь однажды: когда мы пытались спасти детей, которые провалились под лед и утонули в пруду. В Канаде было зафиксировано несколько случаев выживания подобных пациентов. Наши оксфордские врачи-травматологи заставили нас разогреть безжизненные тела детей, и хотя нам удалось спасти их сердца, легкие, печень и почки, их мозг был смертельно поврежден. Сначала мы дали надежду их родителям, а затем снова забрали ее.
В 03:00 я оставил Амира у операционного стола. Разогревание тела должно было занять полчаса, и мне сказали, что Хилари и несколько других посетителей сидят в зале ожидания отделения интенсивной терапии. Хорошо, что их появление растопило лед между нами и медсестрами, и теперь я хотя бы знал, что Стива ожидает свободная койка. Когда я появился в дверях, они вскочили. Это был рефлекс, а не знак уважения. Можно сказать, что в зале ожидания состоялась встреча выпускников медицинской школы, так популярен был Стив. Стэн был профессором онкологии, Джек – анестезиологом, а Пит – врачом общей практики. Все они пришли, чтобы поддержать Хилари и ее детей.
Прежде чем поприветствовать их, я сообщил им новость, которую они хотели услышать. Я сказал, что Стив в порядке, что я восстановил аорту и нормализовал приток крови в мозг. Операция прошла успешно. Это простое предложение сбросило камень с их груди. Новости, плохие или хорошие, всегда избавляют от мучительного страха перед неизвестностью. Пока они стояли там посреди ночи вдали от дома, их старый товарищ предстал перед ними в другом свете. Я уже не был неравнодушным к выпивке шутом из Сканторпа.
Затем последовали объятия, поцелуи и слова облегчения. В ответ на обычный вопрос о том, могут ли они его увидеть, мне пришлось объяснить, что Стив все еще лежит на столе с широко раскрытой грудью и разогревается с помощью аппарата искусственного кровообращения. Я сказал, что хотя он еще не был в полной безопасности, все пока шло по плану, и добавил, что нам потребуется еще пара часов, чтобы остановить кровотечение и зашить грудную клетку. После этого я ушел, собираясь извиниться перед дежурной медсестрой за то, что все упало на ее плечи. Оказалось, однако, что медсестер в отделении было достаточно: у недавно поступившего пациента с сердечным приступом разорвался левый желудочек, и его не смогли спасти. Конвейерная лента оборвалась.
Новости, плохие или хорошие, всегда избавляют от мучительного страха перед неизвестностью.
Я устало побрел обратно в операционную и сел возле головы Стива рядом с двумя анестезистами. Амир радовался, что его оставили за главного. Температура Стива повысилась до 37°C, и его сердце, хотя еще пустое, выглядело довольно бодро. Я попросил Брайана оставить в сердце немного крови, чтобы оставшийся в нем воздух не попал в трансплантат. Я слышал, как искусственный аортальный клапан Стива уверенно щелкнул, и, благодаря эходатчику, расположенному за сердцем, мы увидели крошечные пузырьки, которые пронеслись сквозь него, как снежная буря. Мне ни о чем не пришлось просить. Амир уже держал наготове иглу. Пузырьки постепенно исчезли. Теперь можно было отключать аппарат искусственного кровообращения. Я попросил Брайана начать вентилировать легкие, а затем услышал, как он отключил аппарат. Амир и внештатный резидент напоминали зрителей на футбольном матче, наблюдая за тем, как я раздаю указания, сидя на табуретке. Я внимательно изучал внутреннюю поверхность сердца и аорты на мониторе, пока они смотрели на их внешнюю поверхность.
– Как там все выглядит? – спросил я Амира. – Кровотечение есть?
– Все выглядит отлично. Кровь немного сочится вокруг трансплантата. Ничего серьезного.
– Что ты сделаешь сейчас?
Ответа не последовало. Он устал.
– Введите протамин, – велел я Дэвиду. Сульфат протамина, получаемый из молок рыб, нейтрализует антикоагуляторный эффект гепарина[19], получаемого из органов коров. Моя благородная профессия зависела от коров и рыб, и в столь раннее утро эта мысль отрезвляла.
Амир аккуратно обложил сердце тампонами, чтобы сочащаяся кровь сворачивалась на них. Затем он установил дренажные трубки и приготовил проволоку из нержавеющей стали, чтобы закрыть грудную клетку. Настенные часы показывали 04:30. Дейв листал журнал о мотоциклах, а Брайан спросил, может ли он забрать оборудование. Он хотел подготовить его к утренним операциям, а затем пойти домой. У некоторых людей совсем нет выносливости. Айрин и ее коллега тоже поникли. Я предложил им сменять друг друга, пока мы переливали кровь и факторы свертывания. Впервые чувство спокойствия воцарилось в операционной. Работа была сделана.
За операционным блоком располагалась парковка, позади которой лежало старое кладбище, едва прикрытое живой изгородью из бирючины и хвойных деревьев. Я прошел мимо «Мерседеса», который так и не доехал до Кембриджа. Подарок Джемме на день рождения лежал на пассажирском сиденье. Я проскользнул в богато украшенную кованую калитку и оказался на холме с видом на сельскую местность Оксфордшира. Я лег на траву у могилы младенца-девочки и стал смотреть на звездное небо. На могильном камне было написано: «Ушла слишком рано». Она умерла из-за меня двадцать лет назад, и я не забыл об этом. Ей сейчас исполнилось бы столько же, сколько Джемме, если бы Бог не дал ей перекрученное сердце, которое я не смог исправить. Время от времени, когда мне было тяжело, я сидел рядом с ней, чтобы напомнить себе о том, что не являюсь непобедимым. Сегодня был трудный день. Или это было вчера?
06:00. Солнце показалось над горизонтом, и воробьи защебетали. Оксфордскую кольцевую дорогу осветили фары: это люди ехали на работу в Лондон и возвращались со смены на автомобильном заводе Коули. Сью уже была на пути в больницу, поэтому я вернулся в пятую операционную, где не осталось никого, кроме Айрин. Она отчищала пол от крови и мочи, готовя операционную к утренним пациентам. Стив уже лежал в отделении интенсивной терапии, окруженный близкими людьми. Его состояние было стабильным.
Радостный Амир сказал: «Прекрасная операция. Я так рад, что вы меня пригласили».
Внештатного резидента нигде не было видно. Я решил, что он ушел за своим горшочком золота.
Я выглядел и пах плохо, поэтому пошел в раздевалку, принял душ и надел чистый хирургический костюм. Этот ритуал означал завершение вчера и начало сегодня. Сначала я приготовил чай для Сью и принял дозу «Риталина». Студенты Оксфорда использовали этот стимулятор, чтобы улучшить концентрацию и получить более высокие отметки на экзаменах. Я принимал его, чтобы взбодрится, когда сильно уставал; после долгих перелетов я добавлял к нему мелатонин. Разумеется, я делал это исключительно в интересах моих пациентов.
В 07:30 я присоединился к обходу в отделении интенсивной терапии. Я рассказал студентам историю болезни Стива и спросил, были ли его зрачки суженными и реагировали ли они на свет. Кто-нибудь это проверил? Еще нет, но проверят. Подавал ли он признаки пробуждения? Нет, но меня это обрадовало, потому что я хотел, чтобы он пока оставался сонным. Я боялся, что из-за трубки в трахее он начнет кашлять. Кашель привел бы к резкому повышению внутричерепного давления, а его мозг и так был слишком отечным. Объясняя это студентам на глазах у Хилари, я надеялся, что они поняли мой посыл.
Я отпраздновал спасение Стива сэндвичем с сосиской и яйцом. Когда «Риталин» начал действовать, я сразу почувствовал себя лучше. Мне нужно было провести операцию на слабом митральном клапане, но, к счастью для меня, свободной койки для второго пациента не оказалось. Однако мой настрой вскоре изменился. Когда я вышел из операционной поздним утром, Стив частично проснулся и начал вести себя беспокойно. Из-за отека мозга он был дезориентирован, смущен и взволнован; он начал кашлять из-за трахеальной трубки и тянуться к аппарату искусственной вентиляции легких. Он был крупным мужчиной, и контролировать его оказалось непросто.
Стимулятор «Риталин» студенты Оксфорда использовали для улучшения концентрации внимания, чтобы получить высокий балл на экзаменах. Я теперь принимал его ради своих пациентов.
Далее последовали дебаты, как следует поступить: позволить Стиву проснуться окончательно и извлечь эндотрахеальную трубку или ввести ему снотворное и обездвижить. В разгаре спора его левый зрачок сильно расширился. Понимая значение этого страшного симптома, мой друг-анестезист Джон, не отходивший от постели Стива, побежал ко мне в кабинет. Мы с ним вернулись, чтобы еще раз проверить зрачки. Медсестра Стива сказала, что, по ее мнению, правый зрачок тоже расширился. Я пал духом. Я надеялся, что холод и барбитураты ограничат отек вокруг места кровоизлияния.
Знала ли Хилари о таком зловещем развитии событий? Ей выделили палату для родственников, и она ушла туда, чтобы немного отдохнуть после волнительной ночи. Возможно, не стоило ничего говорить семье, пока у нас не появится четкой картины произошедшего. Нам требовалось срочно сделать Стиву компьютерную томографию головного мозга, что было нелегко для пациента, только что перенесшего операцию и подключенного к многочисленной аппаратуре. Капельницы, дренажи, провода и мониторы пришлось катить по больничным коридорам в отделение радиологии, после чего перекладывать обездвиженное тело с койки в аппарат. Без снимков мы не могли принять решение о том, как помочь Стиву. Я сам пошел в радиологическое отделение и стал умолять главного радиолога принять моего пациента в тяжелом состоянии.
Снимки показали тотальный отек головного мозга. В той области, которая пострадала во время инсульта, произошло кровоизлияние, которое, возможно, было связано с антикоагулянтами, введенными во время операции. Поврежденный мозг раздулся, как губка, впитавшая воду, только он еще был заключен в жесткую черепную коробку. У черепа есть отверстие в основании, через которое спинной мозг из позвоночного канала входит в полость черепа. Когда давление поднимается, мозговой ствол может опуститься в позвоночный канал, что грозит фатальными последствиями. Одним из признаков этой катастрофы являются расширенные зрачки. Мне требовался нейрохирург, который смог бы посмотреть снимки вместе со мной.
Это был нелегкий разговор. Ричард Керр, главный нейрохирург, за свою карьеру видел и делал все, и ему суждено было стать президентом Британской ассоциации нейрохирургов. Я попросил его снизить давление в мозге Стива, удалив верхнюю часть черепа. Краниотомия напоминает снятие верхушки вареного яйца, но только во время операции кость убирают в холодильник и возвращают ее на место, если пациент выживает. Ричард всегда был немногословен. Прежде чем он заговорил, я понял, что он считает случай безнадежным. Он сказал, что, даже если Стив выживет, он уже никогда не сможет работать врачом. Высока вероятность, что он даже не придет в сознание. Долгий промежуток между инсультом и операцией разрушил шансы Стива на восстановление. Однако это было в прошлом. Повернуть время вспять невозможно.
Я достал свой последний козырь. Я сказал, что Стив был моим старым другом и что я потратил целую ночь и много денег, пытаясь спасти его. Ричард застонал и снова стал рассматривать снимки.
«Ладно, ты победил. Ему нечего терять, но все нужно сделать быстро. Я отложу следующую операцию».
Уже через тридцать минут Стив лежал на операционном столе в нейрохирургическом отделении, расположенном в другом крыле больницы. Я сам привез его туда.
14:00. Хирург сдвинул скальп Стива назад и с помощью костной пилы срезал верхушку черепа, обнажив напряженный отекший мозг без пульсации. Мы смотрели на умирающий мозг. Ричард установил датчик внутричерепного давления и прикрыл его кожей. Затем мы вернули Стива в кардиологический блок интенсивной терапии, где ему и следовало находиться.
Поврежденный мозг Стива раздулся, как губка, впитавшая воду, только он еще был заключен в жесткую черепную коробку.
Хилари и дети все еще дремали на односпальной кровати и в кресле. Поглощенный собственными печалями и осознанием неизбежной гибели ее мужа, я тихо постучал в дверь. Увидев мое грустное лицо, Хилари поняла, что я пришел не просто для того, чтобы их проведать.
«Он умер, да?»
Я не решался ответить нет, потому что шансы Стива на выживание были незначительными. Я просто сказал ей правду: что у него расширился зрачок, что снимки мозга выглядели плохо и что я сразу же призвал на помощь лучшего нейрохирурга в стране. Я признался, что мы оба сомневаемся в возможности выздоровления Стива. Шла игра на время. Пришли и другие наши товарищи из медицинской школы в надежде услышать хорошие новости. Я знал о ходившей среди них поговорке: «Если кто-то и может спасти его, то это Уэстаби». Но он не смог. Через некоторое время расширился второй зрачок. Ни правый, ни левый глаз не реагировали на свет. Несмотря на снижение давления, мозг уже не мог восстановиться. Хилари и дети потеряли его.
Я не знал, что у Хилари и ее старшего сына был врожденный поликистоз почек, и парню вот-вот должен был потребоваться диализ. С поразительным самообладанием Хилари спросила, нельзя ли пересадить ему почку отца. Орган, полученный от отца, гарантировал высокую совместимость: группы крови одинаковые, гены те же, отторжение маловероятно. На секунду я задумался о том, что во всей этой катастрофе можно найти хоть что-то хорошее. Пока врачи отделения интенсивной терапии проводили тесты на смерть мозгового ствола, я пригласил заведующего отделением трансплантологии.
То, что я узнал, едва ли казалось правдоподобным. Пока Стив находился в сознании, он мог добровольно пожертвовать почку сыну. Теперь, когда он был функционально мертв, семья могла объявить его донором органов. Оказалось, что все органы, пригодные для трансплантации, должны отправляться в национальный банк доноров. Таковы правила. Закон не позволял отдать почку Стива его сыну или Хилари, которой тоже вскоре должна была потребоваться пересадка. Бригада оксфордских трансплантологов просто не могла пойти на это. Я был ошеломлен. Проклятая бюрократия.
Аппарат искусственной вентиляции легких Стива отключили ранним вечером. Он мирно умер в окружении своей семьи, в то время как многие наши друзья из медицинской школы скорбели в коридоре. Я сидел один в своем кабинете, когда его гордое сердце зафибриллировало, а металлическое щелканье искусственного клапана затихло. Двенадцать часов назад я наблюдал, как его сердце уверенно бьется, и даже был уверен, что Стив спасен. Теперь это сердце навсегда остановилось. Все его органы умерли вместе с ним, за исключением роговиц глаз. Несмотря на мои возражения, трансплантологи поступили по-своему.
Прежде чем уйти домой, Сью оставила на моем столе записку: «Главврач хочет вас видеть».
«В другой раз», – сказал я самому себе и поехал домой. Подарок для Джеммы по-прежнему лежал на пассажирском сиденье.
В 06:10 я уже снова был на парковке. Мне предстояло сделать три операции, и первой в списке стояла новорожденная девочка с отсутствующим правым желудочком. Парковка располагалась между кладбищем и моргом в задней части больницы. Я всегда присутствовал на вскрытии своих пациентов, поэтому патологоанатомы хорошо меня знали. В то утро я пришел с визитом. Мне хотелось дать Стиву понять, что мы сделали для него все возможное. Теперь он был холодным, бледным и умиротворенным. Впервые я видел, как он молчит. Если бы он до сих пор мог говорить, то непременно сказал бы: «Мерзавец! Ты должен был вытащить меня из этого дерьма!» Мне хотелось убрать канюли и дренажные трубки из его безжизненного тела, но это было запрещено. Те, кто умирает вскоре после операции, становятся собственностью коронера, и патологоанатом должен установить точную причину их смерти. В данном случае это было несложно, но я не хотел присутствовать на вскрытии. Итак, я попрощался с замечательным человеком.
Находясь в сознании, Стив мог добровольно пожертвовать почку сыну. Теперь, когда он был функционально мертв, семья могла объявить его донором органов, но эти органы должны были бы отправиться в национальный банк доноров, а не его сыну.
В моей карьере было много печальных моментов, но этот навсегда остался в моей памяти. Стив посвятил свою жизнь Национальной службе здравоохранения, но попал в капкан в виде непредвиденной операции на расслоившейся аорте. Со временем Общество кардиоторакальной хирургии издало постановление, согласно которому каждый региональный центр должен брать на себя ответственность за пациентов из ближайших районов. В Лондоне появились опытные дежурные хирурги, которые должны были оказывать помощь именно пациентам с расслоением аорты, что снизило уровень смертности. После того как Трансплантационная служба Соединенного Королевства не позволила нам пересадить почку Стива его сыну, вопрос о донорстве органов больше не поднимался. Здоровая печень и два легких могли отправиться в банк, если бы единственная функционировавшая почка была пересажена в Оксфорде.
Позднее в том же году Том, сын Стива, получил почку от своей жены. Дочь Стива Кейт приняла в дар одну из почек своего мужа в 2015 году. Хилари позднее снова вышла замуж, и ее новый муж пожертвовал ей почку. У них все хорошо.
3
Риск
Когда я был ребенком, мои терпеливые религиозные родители учили меня никогда не рисковать: не играть в азартные игры, не обманывать, не воровать и не списывать на экзаменах. Мне запрещалось даже перелезать через ограду стадиона, чтобы посмотреть игру «Сканторп Юнайтед»[20], потому что это тоже считалось жульничеством. Поэтому начало моей жизни было скучным и интроспективным.
Со временем я понял, что желание рисковать является неотъемлемой частью человеческой психологии. Победа в войне зависит от рисковых и безрассудных, отсюда и выражение: «Кто не рискует – тот не выигрывает». Экономика зависит от тех, кто не боится принимать рискованные финансовые решения. Инновации, спекуляции, даже изучение планеты и открытого космоса – все зависит от готовности рискнуть тем, что вам дорого, в надежде на большее вознаграждение. Таким образом, способность идти на риск – это главный двигатель мирового прогресса, но ей обладают в основном люди с определенным складом характера. В них преобладает смелость и дерзость, а не сдержанность и благоразумие. Это Уинстон Черчилль, а не Клемент Эттли, Борис Джонсон, а не Джереми Корбин.
Прогресс в медицине и хирургии целиком основан на риске.
В 1925 году, когда Генри Суттар впервые ввел палец в сердце в попытке убрать митральный стеноз, он рискнул своей репутацией и средствами к существованию. Когда Дуайт Харкен удалил осколок из сердца солдата в Котсволдсе (Cotswolds), он рискнул и пошел против всего, что знал из медицинских учебников того времени. Поместив кровь на инородную поверхность аппарата искусственного кровообращения, Джон Гиббон пошел на огромный риск. Рисковал и Уолтон Лиллехай, когда проводил свою безрассудную, но великолепную операцию с применением перекрестного кровообращения. Это было единственное медицинское вмешательство за пределами родильного отделения, риск смерти от которого составлял 200 процентов. Прогресс в медицине и хирургии целиком основан на риске, хотя меня и учили избегать его. К счастью, все изменилось.
Говорят, что характер – это продукт природы и воспитания. Под природой здесь подразумевается генетика. С рождения и на протяжении всей жизни нас формируют различные события. У меня все начиналось весьма благополучно. Моя мать была умной женщиной, которая не получила образования, но читала The Times. Во время Второй мировой войны, когда мужчины уехали на фронт, она управляла Доверительно-сберегательным банком на Хай-стрит. Каждый мой день рождения мама брала букет цветов и вела меня в дом к знакомой женщине. Это одно из моих самых ранних воспоминаний. Сначала мне казалось это странным, но позднее я понял смысл такого паломничества.
После продолжительных и болезненных родов мама благополучно произвела меня на свет в похожем на бойню родильном отделении. Она была измождена, разорвана и окровавлена, но счастлива, что родила крепкого розового сына, который плакал из самых глубин своих недавно раскрывшихся легких. Рядом с ней, широко раскрыв глаза, шумно страдала работница фабрики. Подстегиваемая властной акушеркой, она старалась тужиться изо всех сил. Наконец ее промежность разорвалась. Напряжение опустошило ее матку, кишечник и мочевой пузырь одновременно, и акушерка поймала жирного окровавленного младенца, как крикетный мяч. Красивая маленькая девочка лежала на накрахмаленном белом полотенце, мокром от мочи, пока ее пуповину пережимали и перерезали. Единственного надежного источника кислорода для этого младенца больше не существовало. Наконец вся плацента отделилась и вышла, тоже оказавшись во внешнем мире. Матери требовался гинеколог, чтобы зашить ее, но пока было не время.
Все младенцы синие при рождении, а затем они начинают плакать так же громко, как это сделал я. Им холодно, и они больше не слышат успокаивающего сердцебиения матери. Выйдя из своего тесного кокона, они бьют ручками и ножками и делают свой первый вдох. В этот момент они должны порозоветь. Та маленькая девочка осталась синей и тихой. Ее глаза были широко открыты, но ничего не видели.
Акушерка поняла, что с ребенком что-то не так. Она начала энергично растирать скользкую спину девочки и поместила палец ей в горло. Жесткая стимуляция внезапно вызвала у младенца попытки дышать, но это было хныканье, а не рев. Несмотря на частое дыхание, малышка оставалась темно-синей, холодной и вялой. Запаниковав, акушерка потребовала принести кислородную маску и позвать на помощь. Сначала крошечная кислородная маска помогла. Мышечный тонус девочки улучшился, но зловещий синий цвет тела сохранялся. Пришел врач и прослушал крошечную вздымавшуюся грудь стетоскопом. В сердце слышался шум, негромкий, но хорошо различимый. Выяснилось, что легочная артерия не развилась должным образом. У ребенка была атрезия легочной артерии. Темно-синяя кровь, возвращавшаяся из крошечного тела, проходила через отверстие в желудочковой перегородке и опять протекала по всему телу. Из-за этого хаоса содержание кислорода в крови постепенно снижалось, а концентрация кислоты повышалась. Ребенок был обречен. «Синий младенец». Врач покачал головой и ушел. Он ничем не мог помочь.
Все это происходило рядом с матерью, которая обливалась потом от боли и армагеддона в промежности. Ей хотелось как можно скорее обнять свою новорожденную дочь. Когда ей передали умирающего младенца, она обо всем догадалась по мрачному лицу акушерки. Ей о многом сказало жалкое лицо малышки, безжизненное и серое, а также ее закатившиеся глаза. Женщина умоляла, чтобы ей все объяснили. Почему ее дочь не была такой же розовой и теплой, как я в соседней люльке? У нее потекло молоко, но сосать его было некому. В 1948 году «синие» младенцы умирали.
Все внимание теперь было приковано к моей матери. Контраст настроения был поразителен: после девяти месяцев волнения и ожидания одна женщина светилась от счастья и гордилась своим крепким розовым сыном, а вторая рыдала над неподвижной маленькой девочкой, умиравшей у нее на руках. Занавески между койками раздвинули. Муж второй женщины застрял на работе; он катал сталь и не смог увидеть свою дочь живой. Пришел капеллан больницы, чтобы срочно крестить девочку, пока жизнь внутри нее угасала. Возможно, было слишком поздно, но они прошли весь обряд.
Эта тяжелая ситуация и так очень опечалила мою мать, но контраст стал еще заметнее, когда рожениц пришли навестить родственники. Родители молодой женщины постоянно рыдали, а ее муж был убит горем из-за того, что пришел слишком поздно. Он успел лишь взглянуть на мертвого младенца, прежде чем его унесли в коробке для обуви. Затем наступило чувство вины. Что она сделала не так? Было ли это связано с сигаретами или с таблетками от тошноты? Может, ей следовало ходить в церковь? Радость моей семьи была омрачена состраданием к той бедной женщине. Моя мать оставалась рядом пять дней, после того как той женщине сделали операцию на тазовом дне. Ей было нечего принести с собой домой, кроме печали и швов.
Тот день был особенно грустным, потому что мама читала в газете об операции, сделанной «синему» младенцу в Америке. Эта чудесная процедура превращала синих новорожденных в розовых. Почему никто не упомянул о ней? Конечно, новенькая Национальная служба здравоохранения, созданная три недели назад, могла это организовать. Эти мрачные воспоминания так и не померкли для моей матери. Именно поэтому каждый мой день рождения мама покупала цветы в память о той умершей девочке. Это был достойный поступок в такой счастливый, как всем казалось, день.
Спустя время после рождения синий цвет тела девочки сохранялся. Ее легочная артерия не развилась должным образом, и кровь не проходила через легкие. В 1948 году от этого все еще умирали.
История, о которой моя мать прочла в The Times, заключалась в следующем. В 1944 году в больнице Джона Хопкинса (Johns Hopkins Hospital) детский кардиолог Хелен Тауссиг убедила главного хирурга Альфреда Блейлока найти хирургический способ лечения обреченных «синих» новорожденных. Блейлок предполагал, что подключичную артерию, снабжающую кровью руку младенца, можно направить в грудь и соединить с неполноценной легочной артерией. Он думал, что более мелкие вспомогательные сосуды вокруг лопатки разрастутся и будут снабжать кровью руку ребенка, как это происходило в экспериментах над животными. Профессор впервые провел операцию, которая позднее стала известна как «шунтирование Блейлока-Тауссиг», в ноябре того же года. Он не был технически искусным хирургом, и ему было сложно соединять мелкие кровеносные сосуды, однако, к всеобщему облегчению, операция незамедлительно превратила синюшного ребенка в розового и избавила его от одышки. Более того, лишенная артерии рука продолжила нормально развиваться.
Новость об этой революционной процедуре распространилась очень быстро. Британский торакальный хирург-пионер сэр Рассел Блок (чьи хирургические ботинки я унаследовал в больнице Роял-Бромптон (Royal BromptonHospital)) пригласил Блейлока и Тауссинг продемонстрировать их операцию в Лондоне. Недостатка в «синих» младенцах не было, и Блейлок провел шунтирование десяти новорожденным подряд. Ни один из них не умер, и все волшебным образом превратились из синюшных в розовых. В завершение визита Блейлока пригласили представить свой триумф в Большом зале Британской медицинской ассоциации.
В конце лекции в затемненном зале, пока все смотрели на слайд, луч военного прожектора внезапно пересек помещение и осветил медсестру из больницы Гая, одетую в темно-синюю униформу и белый льняной чепец. У нее на руках сидела белокурая двухлетняя девочка. В прошлом ребенок чуть не умер от врожденного порока сердца синего типа. Благодаря новой процедуре шунтирования девочка теперь была розовой, и произведенный театральный эффект вызвал оглушительные аплодисменты всего зала. Рассказ моей мамы об истории, прочитанной в The Times, всегда резонировал со мной. Проще говоря, одним из моих самых ранних детских воспоминаний стало воспоминание о «синих» младенцах.
Те, кто упорно оперировал синюшных младенцев и в конечном счете преуспел в кардиохирургии, имели психопатические наклонности. Могла ли кардиохирургия развиваться в Европе? Возможно, но к этому вела долгая дорога, по которой мне суждено было пройти с ранних лет. Мои уникальные способности позволили мне преодолеть этот путь.
У большинства людей ведущим является левое полушарие мозга, что делает их правшами и управляет их языковыми навыками. Правое полушарие, в свою очередь, отвечает за ориентацию в пространстве, творчество и эмоциональные реакции. Мне же достался причудливый мозг. Я обошел стороной латерализацию[21], из-за чего оба моих полушария стали доминантными. Это сделало меня амбидекстром[22]. Хотя я был преимущественно правшой из-за требований в школе, я мог держать ручку, кисточку, а затем и хирургические инструменты обеими руками. Я накладывал швы правой и левой рукой одинаково хорошо. Я бил по мячу для регби левой ногой и играл в крикет правой рукой.
Будучи абсолютно безнадежным в изучении иностранных языков, я обладал врожденной способностью визуализировать мир в трех измерениях. Ловкость рук в сочетании с хорошим пространственным воображением сделали меня компетентным художником и прирожденным хирургом. Я писал сталелитейные заводы, освещавшие ночное небо родного Сканторпа, ярко-красные закаты, целующиеся парочки под газовыми фонарями и угрюмые лица металлургов после долгого дня работы за прокатными станками. Это было необычно для мальчика-подростка, но люди с двумя ведущими полушариями всегда отличаются.
Те, кто упорно оперировал «синих» младенцев и в конечном счете преуспел в кардиохирургии, имели психопатические наклонности.
Позднее такие врожденные навыки позволили мне разрезать человеческое тело, а затем накладывать каждый стежок в нужном месте. Я безошибочно делал все с первого раза. Точность движений ведет к экономии времени. Я без особых усилий быстро справлялся с работой, хотя руки мои никогда не двигались торопливо. Разумеется, я не знал о своем даре, пока не стал хирургом. Со временем я понял, что продолжительность операции имеет первостепенное значение в кардиохирургии: чем короче процедура, тем быстрее восстанавливается пациент.
В школе я был известен как замкнутый творческий парень, который хотел стать врачом. Однако я не обладал выдающимся умом и не мог гарантировать себе место в медицинской школе. Блестящие ученики преуспевали в математике и физике, но мне эти предметы давались с трудом, хотя я был хорош в биологии и неплох в химии. В конечном счете именно мое желание сбежать от старых улиц и домиков с террасами привело меня к изучению медицины в Лондоне. Я был не в своей тарелке, но надеялся когда-нибудь стать кардиохирургом.
Именно желание вписаться в окружение подтолкнуло меня к тому, чтобы играть в регби и пить пиво. У меня оказались все необходимые навыки, чтобы пинать и бросать мяч дурацкой формы. Я, признаться, был весьма неплох в игре и быстро превратился из невежественного новичка на задней линии в игрока первой линии. Регбийные матчи между командами различных лондонских больниц были особенно жесткими. Во времена их расцвета в конце 1960-х годов игрок из больницы Гая был капитаном сборной Англии, а легендарный защитник Дж. П. Р. Уильямс играл за больницу Сент-Мери (St Mary’s Hospital). Генерал Джордж С. Паттон однажды сказал: «Я измеряю успех человека не по тому, как он поднимается, а по тому, как высоко он подпрыгивает, упав на дно». Как крайний нападающий я попытался атаковать Уильямса во время Больничного кубка в Ричмонде и ощутил на себе град ударов за свои усилия. Хотя мои ребра были в синяках, а нос разбит, я все же добился успеха.
Я накладывал швы правой и левой рукой одинаково хорошо.
Самая серьезная моя травма была впереди. Я получил ее во время регбийного матча в Корнуолле, когда оканчивал второй курс. У меня не сохранилось абсолютно никаких воспоминаний о произошедшем, поэтому мне обо всем рассказали позднее. У нас была схватка с командой здоровенных корнуоллских фермеров на грязном ветреном поле в Пенрине. Я с невиданной силой отразил нападение противоположного игрока, за которым незамедлительно последовала ответная реакция. Вдруг мяч вышел из зоны схватки, и игроки ринулись за ним. Я остался лежать без сознания лицом в луже после целенаправленного удара бутсой по голове. Прошло немало времени, прежде чем «заботливые» студенты-медики подбежали ко мне, и я уже успел посинеть.
У большинства людей ведущее полушарие мозга – левое, что делает их правшами и управляет языковыми навыками. Правое полушарие отвечает за ориентацию в пространстве, творчество и эмоциональные реакции.
Когда я снова пришел в себя, то увидел тусклую лампочку, которая показалась мне ярче солнца. Вокруг меня стояли такие же тусклые члены команды нашей медицинской школы, готовые отвезти меня из больницы в бар на каталке. Как и в боксе, нокаут не был редкостью в студенческом регби, и у нас в планах было хорошенько напиться и начать распевать песни. Уезжая на матчи, мы всегда следовали традиции развлекать местных деревенщин бессмысленными похабными песенками, известными только лондонским студентам. Место, где мы жили, находилось далеко в Сент-Айвсе, поэтому, несмотря на адскую головную боль и световое шоу, напоминавшее новогодний салют над Темзой, мне пришлось присоединиться к своим товарищам.
На следующее утро меня было трудно разбудить. Мой добрый друг Стив Нортон слегка потряс меня, а меня в ответ вырвало ему на ноги. У меня болела голова, и зимний свет обжигал мне глаза (светобоязнь была сильнейшей), поэтому я нырнул обратно под одеяло. Через полчаса пришел местный врач. Он был хорошим старомодным доктором, который измерил мой пульс и давление, а затем попытался осмотреть мое глазное дно офтальмоскопом. Этих трех манипуляций вполне хватило. У меня оказались проблемы: пульс слабый, кровяное давление высокое, диски зрительных нервов отекшие. Кроме того, под обоими глазами у меня расплылись синяки в форме запятой. Все указывало на травматический отек мозга, которому отнюдь не пошло на пользу вчерашнее пиво. Врач отругал моих невежественных товарищей по бригаде, вызвал скорую помощь и направил меня в неврологическое отделение больницы Труро (Truro Hospital), что означало конец моей веселой поездки, и, как я позднее узнал в Лондоне, на этом моя медицинская карьера вполне могла оборваться. Как ни странно, все оказалось наоборот.
В 1967 году компьютерной томографии еще не существовало, поэтому невозможно было провести полный осмотр пациентов с травмой головы.
Рентген черепа показал трещину в лобной кости по линии роста волос. Каким бы толстым ни казался мой череп, удар по голове сломал его. Помимо этого у меня присутствовали очевидные признаки повышенного внутричерепного давления. Грубоватый нейрохирург из Плимута вел амбулаторный прием и зашел, чтобы меня осмотреть. В качестве лечения он назначил мне внутривенное вливание раствора маннитола, чтобы вывести лишнюю жидкость из отечного мозга. Мне также установили уретральный катетер, чтобы наладить диурез. Врач хотел направить меня в Деррифордскую больницу, где была возможность отслеживать внутричерепное давление, но я наотрез отказался туда ехать. С меня было достаточно и трубки в пенисе. Я совершенно не хотел, чтобы мне сверлили дырку в черепе и устанавливали на мозг датчик. Это глупое отсутствие кооперации стало предвестником того, что произошло со мной позднее. Я стал возбужденным и слишком агрессивным и уже ничем не напоминал того воспитанного чувствительного парня, каким приехал в Корнуолл. В 1967 году компьютерная томография еще не существовала, поэтому посмотреть на мою травмированную кору головного мозга было невозможно. Но что-то определенно изменилось. Все думали, что я стану прежним, как только отек спадет. К счастью для меня, прежним я не стал.
Из Труро меня направили в больницу Чаринг-Кросс (Charing Cross Hospital), где положили в тихую одноместную палату хирургического отделения, окна которой выходили на Стрэнд[23]. Той же ночью я попытался соблазнить хорошенькую медсестру, которая в ответ резко дернула мой катетер. Быстрого смещения раздувного баллона от мочевого пузыря к предстательной железе было достаточно, чтобы охладить мой пыл на одну ночь, хотя неприятные воспоминания оставались со мной недолго. Вскоре я предпринял вторую попытку.
На следующий день меня окружили студентки-медсестры, которые знали меня по пятничным дискотекам. Затем мои товарищи по команде принесли мне журналы Playboy и несколько бутылок пива, которые спрятали в тумбочке. Мне казалось, что со мной обращаются, как с королевской особой. Невролог с Харли-стрит в очках и привычном утреннем костюме пришел оценить состояние больного студента-медика. Помню, я решил, что он похож на пингвина. Когда он спросил, что я помню о произошедшем, я невежливо ответил: «Боюсь, что ничего, мать твою!» Раньше такие выражения я никогда не позволил бы себе использовать в разговоре с уважаемым врачом. Это его явно развеселило и еще раз подтвердило мнение врача о тяжести травмы. Он проверил все мои рефлексы и движения и, отметив, что оба полушария моего мозга ведущие, сказал, что мои моторные навыки не пострадали. После этого он пригласил психолога. Она провела еще кое-какие тесты, а затем решила поговорить со мной о последствиях травмы лобной доли мозга.
Правое полушарие отвечает за критическое мышление и мыслительные процессы, связанные со стремлением избежать риска.
Она объяснила, что правое полушарие отвечает за критическое мышление и мыслительные процессы, связанные со стремлением избежать риска. Трещина в моем черепе располагалась прямо над корой правой лобной доли, поэтому отек мозга, вероятно, объяснял недостаток торможения, раздражительность и периодическую агрессивность, которую отметил ухаживавший за мной персонал. Я думал, что был вежлив и мил с медсестрами из Чаринг-Кросс, но, судя по всему, заблуждался. Оказалось, что у меня высокий результат теста на психопатию.
«Но вы не беспокойтесь, – сказала она. – Большинство успешных людей – психопаты, особенно это касается хирургов». Затем она стала объяснять временное изменение моей личности на примере классического клинического случая, который обычно использовали для обучения студентов-психологов.
В 1848 году Финеас Гейдж был бригадиром команды взрывников, которые убирали камни, чтобы освободить место для железнодорожных путей на американском Среднем Западе. Для этого требовалось просверливать в валунах глубокие отверстия, а затем заполнять их динамитом. После установки фитиля отверстие засыпалось песком с помощью трамбовки. Как-то раз во время такого процесса искра, возникшая между металлом и камнем, воспламенила взрывчатку, из-за чего 120-сантиметровый железный лом-трамбовка на высокой скорости пронзил череп Гейджа. Лом вошел в череп под левой скулой и вылетел из головы. Позднее его обнаружили в двадцати семи метрах от места происшествия. Гейдж даже не потерял сознание. Он просто сел в запряженную быком телегу и поехал искать врача. Местный врач, доктор Харлоу, удалил осколки кости и заклеил рану клейкой лентой.
К несчастью, мозг Гейджа был инфицирован грибком, и мужчина впал в кому. Семья уже приготовила для него гроб, но Харлоу сделал Гейджу операцию, в ходе которой убрал 240 миллилитров гноя из-под поврежденной кожи головы. Поразительно, но пациент пришел в себя, и всего через несколько недель «его здравомыслие полностью восстановилось». Однако его жена и другие близкие люди заметили в нем страшные перемены, которые Харлоу описал в «Бюллетене Массачусетского медицинского общества»:
В 1848 году во время взрыва на железной дороге 120-сантиметровый железный лом-трамбовка на высокой скорости пронзил череп Финеаса Гейджа, который даже не умер, но сильно изменился как личность.
«Он импульсивен и неуважителен; время от времени использует грубейшие ругательства, что ранее было для него несвойственно. Он почти не проявляет уважения к своим товарищам, отрицательно относится к советам, не совпадающим с его желаниями, и ведет себя крайне упрямо, хотя иногда бывает капризным и нерешительным…»
Его разум так сильно изменился, что знакомые говорили: «Это больше не Гейдж».
Очевидно, что этот случай схож с моим. Поврежденная префронтальная кора привела к личностным изменениям, хотя все остальные высшие мозговые функции не пострадали. Тем не менее я отказывался признавать, что как-то изменился. Бедный Гейдж потерял работу и был вынужден демонстрировать себя вместе с ломом в цирке Барнума в Нью-Йорке. Когда он умер во время припадка в возрасте тридцати пяти лет, его похоронили в Сан-Франциско. Вскоре после смерти Гейджа его беспринципный шурин эксгумировал тело, и череп Гейджа вместе с ломом до сих пор можно увидеть в Гарвардской медицинской школе.
В тот момент мне казалось, что психолог осторожно пытается намекнуть мне, чтобы я вернулся в Сканторп и начал выступать в цирке. Когда отек мозга сошел, я все же отправился домой на пасхальные каникулы. Мои бедные родители пришли в ужас от столь неожиданных последствий обучения в медицинской школе. После этого я вернулся к учебе с невиданным ранее усердием.
Хоть я и не стал бы рекомендовать черепно-мозговую травму в качестве стратегии карьерного роста, эта травма имела для меня весьма неожиданные последствия в среднесрочной перспективе. Я перестал быть увядающей фиалкой и превратился в раскованного, смелого и эгоистичного человека. Я больше не волновался перед экзаменами и не смущался, когда мне приходилось выступать перед полной лекционной аудиторией. Я стал зажигательным ведущим рождественского вечера, социальным секретарем медицинской школы, капитаном крикетной команды и так далее. Казалось, я стал совершенно невосприимчив к стрессу; я полюбил идти на риск и превратился в зависимого от адреналина человека, всегда ищущего ярких эмоций. Личные проблемы, о которых я раньше размышлял дни напролет, больше меня не занимали. После черепно-мозговой травмы я стал раскованным и жаждущим жесткого соперничества. Хотя я уже родился с координацией и ловкостью рук, необходимыми для хирурга, теперь я приобрел нужные черты характера. И все же я не утратил эмпатии – элемента эмоционального интеллекта, позволяющего нам проникаться чувствами других. Считается, что все врачи и медсестры должны обладать способностью сопереживать, однако многие ее не имеют.
С появлением магнитно-резонансной томографии стало возможно взглянуть на активность внутри коры головного мозга. Лобные доли распознают, а затем обрабатывают опасность или страх, передавая информацию о том, что нас напугало, миндалевидному телу глубоко внутри мозга. У психопатов связь между лобной долей и миндалевидным телом отсутствует, что приводит к безжалостности и пренебрежению к власти. Два психолога с фамилиями Блумер и Бенсон написали о личностных изменениях, происходящих в результате травм префронтальной коры. Они описали синдром «псевдопсихопатии». Пациенты, перенесшие черепно-мозговые травмы, могут демонстрировать отсутствие торможения или сдержанности, неспособность оценивать риск, нетерпеливость и пониженное чувство вины, но при этом они все еще обладают эмпатией, способность к которой отсутствует у врожденных психопатов. Такое описание точно подходило ко мне, хотя в то время я об этом не знал.
Я находился в Нью-Йорке, когда впервые заметил у себя безрассудное отсутствие страха, позволившее мне всю жизнь прожить на острие ножа. Говорят, что «смелость – это не отсутствие страха, а готовность противостоять ему». Шел 1972 год, и я, чтобы получать стипендию Медицинской школы Альберта Эйнштейна, ночами работал в отделении неотложной помощи больницы Моррисании (Morrisania Hospital) в Гарлеме. Ночью все отделение боролось с последствиями наркомании и столкновений преступных группировок. Молодая медсестра попыталась конфисковать несколько зараженных шприцев у наркомана, которого ранили в драке. Придя в бешенство, он достал нож и попытался убить ее. Заметив это, я набросился на него прежде, чем он успел до нее дотянуться, в результате чего мы оба повалились на стулья в зале ожидания.
У психопатов отсутствует связь между лобной долей и миндалевидным телом, что приводит к безжалостности.
Нож наркомана порезал мне большой палец правой руки, и струи крови испачкали мой чистый белый жилет интерна. Наша схватка продолжалась недолго: один из охранников ударил моего противника по голове дубинкой, и в итоге он оказался в отделении нейрохирургии. Благодарная медсестра наложила мне швы на палец, а затем я пошел смотреть, как тому парню сверлят череп. Хотите верьте, хотите нет, но я ему сочувствовал. Мне было грустно, что у него такая жалкая жизнь.
В медицинскую школу сообщили о моем героизме. На самом деле в моем поступке не было ничего героического, ведь мне не требовалась смелость, чтобы решиться. Тем не менее я получил блестящие награды: меня назвали «студентом, обреченным на успех», а также предоставили место в престижной резидентуре с обучением на профессора медицины, а затем и профессора хирургии. Перестал ли я играть в регби из-за травмы головы? Нет. Я только стал еще более агрессивным.
Психопатия широко распространена среди хирургов. В 2015 году в «Бюллетене Королевской коллегии хирургов» была напечатана статья под названием «Все хирурги – психопаты? Если да, то так ли это плохо?» Авторы утверждали, что полная эмоциональная отрешенность от тяжелых обсуждений, окружающих принятие судьбоносных для пациента решений, способствует лучшему выбору со стороны хирурга. Хотя это звучит вполне разумно, словарь описывает психопатов как хладнокровных, претенциозных и очень уверенных в себе людей с гипертрофированным чувством самоуважения, которые отказываются признавать свою вину и не испытывают угрызений совести. Это описание определенно напоминает другие стереотипные характеристики хирургов, а также смельчаков из мира финансов.
Люди, перенесшие черепно-мозговые травмы, могут отличаться несдержанностью, рисковостью, нетерпеливостью и сниженным чувством вины.
Но когда побеждает такой смельчак из мира медицины – побеждают все. Мы должны иметь свободу экспериментировать и расширять границы, как это делали наши предшественники. Однако я боюсь, что теперь это невозможно. Управление риском сегодня является активно развивающимся направлением, и регулирующие органы стремятся заставить всех максимально этого риска избегать. Даже наши так называемые клиенты постоянно страдают от этого: в то время как отказать кандидату с низким уровнем риска считается неприемлемым, не взять тяжелого пациента с высоким уровнем риска – вполне допустимо. Какой убогий взгляд на любую профессию!
Я никогда не рассматривал хирургию с такой стороны. Я, словно магнит, притягивал к себе сложных пациентов, а затем вступал в битву с Мрачным Жнецом. Мне постоянно говорили, что мои схемы никогда не сработают: что силиконовые трубки в трахее будут забиваться сгустками (не забиваются), что люди без пульса не выживут (они выживают), что пускать электрический разряд через голову опасно (не опасно), что введение стволовых клеток непосредственно в поврежденное сердце приведет к внезапной смерти (не приведет; сейчас мы используем этот метод для устранения сердечной недостаточности). Готовность идти на риск – неотъемлемое условие медицинских инноваций, да и сама жизнь – это риск. Без возможностей для инноваций кардиохирургия зачахнет.
4
Надменность
Раньше я испытывал глубокое смущение, когда думал о следующих этапах своей карьеры. Я не родился эгоистичным маньяком. В юности был застенчивым и заботливым мальчиком, который хотел помогать людям. До того странного поворота судьбы на корнуоллском регбийном поле мне не хватало уверенности в себе. После него маятник качнулся в противоположном направлении. Мою самоуверенность и необузданный энтузиазм редко сдерживал тот факт, что от острого кончика моего скальпеля зависит человеческая жизнь. Для меня это было не важно. Коротко говоря, я не поддавался никакому контролю.
Посттравматическая смелость и несдержанность неоднократно доставляли мне неприятности. Если бы в прошлом я не был настолько робким, то, возможно, кончил бы как Финеас Гейдж: безработным потенциальным преступником. Меня воспринимали как хладнокровного, самоуверенного и очень амбициозного парня, умевшего оперировать. Любое занятие мне быстро надоедало; я пренебрегал бумажной работой, любил скорость и оставлял свой синий спортивный автомобиль там, где мне заблагорассудится.
Я также был оппортунистом. Будучи молодым резидентом в гепатологическом отделении[24] больницы Королевского колледжа в Лондоне, я узнал, что старших резидентов направляли в Кембридж, чтобы вести послеоперационное наблюдение за пациентами профессора Роя Кална, пионера пересадки печени. Этим молодым врачам было совершенно неинтересно заниматься хирургией, не говоря уже о том, чтобы дежурить всю ночь и смотреть, как кровь беспрерывно стекает по дренажным трубкам. Как-то в выходной день, когда других желающих не нашлось, я вызвался поехать в Адденбрукскую больницу (Addenbrooke’s Hospital). Это была моя возможность посмотреть на пересадку печени из-за плеча великого человека, хоть мне и пришлось притвориться, будто это необходимо мне лишь для того, чтобы иметь лучшее представление о своих обязанностях. Моя стратегия сработала. Пациент оправился без осложнений, и все решили, что я очередной старший резидент гепатологического отделения.
Готовность идти на риск – неотъемлемое условие медицинских инноваций.
Обучение хирургии в Кембридже считалось самым престижным в стране, и мне очень нравился сам город. Только детские страхи и укоренившийся комплекс неполноценности мешали мне принять предложение изучать медицину в университете. После моей трансформации все изменилось. Когда на хирургическом факультете появились свободные места, я подал документы и приложил рекомендательные письма из Чаринг-Кросс и Роял-Бромптон. На основании работы с его пациентами, перенесшими трансплантации печени, профессор Калн также написал рекомендательное письмо. За исключением моих приключений в Бромптоне и нескольких аппендэктомий[25], у меня не было хирургического опыта, но в то время это не имело большого значения. Что действительно имело значение, так это смелость – даже безрассудство – просто взять и начать операцию. Я с головой погрузился в профессию и, подобно собаке, начал вгрызаться в кости. Сложно убить человека во время ортопедической операции, хоть и возможно.
Во время рождественских каникул 1976 года, когда был страшный гололед, я жил в больнице и провел более ста операций пожилым людям, сломавшим шейку бедра в результате падения. Двое из них умерло, не сумев перенести стресс, связанный с операцией. Людям старше девяноста лет было сложно вернуться к активной жизни после хирургического вмешательства, поэтому они лежали в постели, заболевали пневмонией, а затем за ними приходил Мрачный Жнец. Однако мы не могли отказать им в помощи и оставить страдать, поэтому делали все возможное. После полугода плотницких работ на людях и потока пациентов со сложными травмами я освоил азы: научился подавать нужные инструменты, останавливать кровотечение и набрался смелости оперировать без посторонней помощи. Я получал удовольствие от романтики обучения хирургии. Затем настала очередь общей хирургии: тогда я по-настоящему узнал, что такое моря крови и горы внутренностей. Вскоре у меня появилось прозвище «Челюсти» из-за короткого времени, которое потребовалось мне для ампутации ноги.
В 1970-е годы не было лекарств для снижения кислотности желудочного сока, поэтому каждую ночь в больницы привозили пациентов с перитонитом или с сильным желудочным кровотечением.
В 1970-е годы не существовало лекарств для снижения кислотности желудочного сока, поэтому каждую ночь к нам привозили пациентов с перитонитом из-за разрыва язвы двенадцатиперстной кишки или сильным желудочным кровотечением. Встречались пациенты с кишечной непроходимостью из-за раковых опухолей, а также с повреждениями печени или селезенки. Чем сложнее был случай, тем мне было интереснее. Я оперировал весь день и большую часть ночи, что нравилось моим начальникам. У меня были проблемы лишь с одним утомительным аспектом, который я списывал на свой синдром дефицита внимания: я никогда не делал бумажную работу вовремя. В моем кабинете лежали горы медицинских карт и ждали, когда я напишу отчеты о выписке и письма врачам общей практики. В конечном счете меня отстранили от проведения операций до тех пор, пока я не разберу бумаги.
Как-то поздним субботним вечером меня попросили осмотреть восьмилетнего мальчика с сильной болью в животе, которого только что привезли на скорой помощи. Родители ребенка были свидетелями Иеговы, и перспектива операции их определенно тревожила. У него была невысокая температура и болезненность всего живота, которая усиливалась в месте расположения аппендикса. Все было ясно. Я сообщил родителям, что у мальчика признаки перитонита и что его аппендикс, скорее всего, разорвался. Мне нужно было срочно отвезти его в операционную, удалить бесполезный отросток и промыть брюшную полость. Родители поинтересовались, потеряет ли он кровь.
Моя готовность пойти на риск и хладнокровие во время операций компенсировались абсолютным нежеланием делать какую-либо бумажную работу.
«Совершенно точно, что нет. Мы все сделаем за пятнадцать минут».
Они прониклись ко мне абсолютным доверием, услышав мое прямое и недвусмысленное утверждение.
«Мы даже не планируем делать анализ на группу крови», – заверил я родителей.
В операционной мне ассистировали резидент-анестезиолог и еще один дежурный резидент. Это была последняя запланированная операция на сегодня, и после нее нас ждала вечеринка у медсестер. Я сделал небольшой разрез в правой подвздошной ямке, расположенной прямо над тем местом, где обычно находится аппендикс. Добравшись до прозрачной брюшины, я ожидал увидеть жидкость соломенного цвета, а затем извлечь воспаленный аппендикс. Мои ожидания не оправдались. Внутри было темно. Когда я приподнял брюшину щипцами и разрезал ее ножницами, хлынула свежая кровь.
У меня сердце ушло в пятки. Я думал, что мальчик такой бледный из-за плохого самочувствия.
– У нас уже есть результаты анализа на содержание гемоглобина и лейкоцитов в крови? – спросил я анестезиолога.
– Еще нет. Почему ты спрашиваешь?
– Потому что проклятая брюшина полна крови.
Голова анестезиолога резко показалась над зеленой драпировкой, натянутой между стойками для капельниц. Эта драпировка является барьером между раной и анестезиологами, потому что последние никогда не утруждаются ношением маски.
– Что, черт возьми, происходит? – спросил он.
Он велел медсестре принести кровь из холодильника, а сам стал судорожно измерять кровяное давление: 100/70, пульс 105. Я сразу дал всем понять, что нас засудят, если мы сделаем переливание крови, предварительно не обсудив это с родителями. Они определенно не согласились бы на это. Анестезиолог хотел позвать более опытных дежурных врачей. Я отказался. Мне хотелось самостоятельно обнаружить проблему и устранить ее. Оставаясь иррационально спокойным, я сделал второй, гораздо более крупный разрез по срединной линии живота, после чего выплеснулось еще больше крови. Мои здравомыслящие коллеги испугались и хотели как можно быстрее снять с себя ответственность. Они вполне разумно предположили, что ребенок мог быть жертвой домашнего насилия и что кровотечение являлось результатом повреждения печени или селезенки. Но если это действительно было так, на коже мальчика остались бы синяки и другие следы.
Мне часто приходилось доказывать свою невиновность, пока я не стал уважаемым врачом.
Что я при этом чувствовал? Только любопытство и нервное возбуждение, потому что мне попалось что-то редкое. Моя префронтальная кора должна была посылать миндалевидному телу сигналы тревоги, но я оставил страх на поле в Пенрине. Я находился в операционной, чтобы набрать очки и доказать, что среди резидентов я самый компетентный. Как меня характеризовали в медицинской школе? Как «студента, обреченного на успех. Смелого, но недостаточно проницательного». Мне часто приходилось доказывать свою невиновность, пока я сам не стал уважаемым врачом.
Я вытащил кишечник из разреза, чтобы взглянуть на крупные кровеносные сосуды. Было вполне логично предположить, что если бы кровоточил один из них, то мальчика не успели бы доставить в больницу. Интуиция подсказывала мне, что первоначальное кровотечение уже остановилось, поскольку давление и пульс стабилизировались. Я осмотрел печень и селезенку, которые оказались в полном порядке. Следовательно, вариант с травмой я исключил. Затем я стал сантиметр за сантиметром осматривать кишечник и наконец нашел проблему неподалеку от того места, где должен был располагаться аппендикс. У ребенка была крайне редкая врожденная аномалия, с которой мне больше ни разу не довелось столкнуться: разорвавшаяся энтерогенная киста толстой кишки. Я нашел несколько кровоточащих сосудов и запаял их электрокаутером. Теперь я мог сообщить остальным членам бригады, что кровотечение под контролем. Мальчик был в порядке, можно было расслабиться.
– Что ты собираешься делать с энтерогенной кистой? – спросил морально изможденный резидент-анестезиолог, чей босс был уже на пути в операционную.
– Отрезать кусок проклятой кишки, – бросил я, раздражаясь от его чувствительности. – Почему бы тебе не стать семейным врачом?
В моем возбужденном мозгу крутилась бессмысленная рифма: «Сдай назад и поцелуй мой зад!» Я перевязал нужные кровеносные сосуды, зажал скользкую кишку, а затем – чик-чик! – и все. Я соединил два конца кишки непрерывным швом, а потом смыл кровь и кал с брюшной полости теплым физраствором. Затем с помощью отсасывателя устранил лишнюю жидкость и зашил два разреза. Работа была выполнена. Я действовал механически, оставив страх и эмпатию в стороне.
В тот момент пришел опытный анестезиолог. С грубой пренебрежительностью к его более высокому положению я, бодро сшивая кожу, спросил, зачем он пришел. Он первым делом заглянул за драпировку и поинтересовался, все ли под контролем. Я протянул руку к ведру, где лежал участок кишки, и гордо продемонстрировал ему виновную во всем патологию.
– Никогда о таком не слышал, – сказал он.
– Я тоже. Видимо, это что-то редкое. Какое сейчас кровяное давление?
– 100/70.
– А пульс?
– 100.
– Какой гемоглобин?
– 10.
– Неплохо, – сказал я. – Теперь он в безопасности.
Анестезиолог вежливо спросил, сообщил ли я об этом пациенте своему боссу, главному педиатру мистеру Данну.
– У меня не было времени, – солгал я. – Я думал, что у мальчика продолжается кровотечение, а мистер Данн находился на ужине в колледже. Я удивлю его на утреннем обходе.
Теперь мне предстояло объяснить родителям мальчика, почему у него появился не только шов на месте удаления аппендикса, но и огромный кровавый шов в центре живота, а также почему операция заняла вовсе не пятнадцать минут, как они ожидали. Как и все родители, ожидавшие новостей о состоянии их ребенка, они находились на грани нервного срыва. Моя широкая улыбка на пороге зала ожидания сказала все, что им нужно было знать: что их сын в безопасности, несмотря на неверный диагноз.
Вместо области коры мозга, отвечающей за психопатию, я активизировал область, отвечающую за сострадание, благодаря чему получил щедрый подарок, когда мальчика выписали из больницы. Подобно тому, как я всегда стремился помогать детям с синдромом Дауна, я стал по-особенному смотреть на пациентов, которые были свидетелями Иеговы. По крайней мере, их твердые ценности и вера никому не приносили вреда. Иногда, когда их вывозили из операционной, уровень гемоглобина в их крови был в три раза ниже нормы, но они обычно выздоравливали.
Однажды на Рождество мне сломали челюсть, но я все равно примчался в отделение неотложной помощи, чтобы помочь попавшему в аварию мотоциклисту.
Профессор Калн воодушевил меня играть в местной регбийной команде, и вскоре мое имя появилось в газетах. Там писали о сумасшедшем крайнем нападающем, который то и дело приносил команде очки. Входя в операционную или появляясь на регбийном поле, я «включал» свою психопатию. Я получал травмы одну за другой. Однажды во время игры металлический гвоздь разорвал мне скальп, из-за чего у меня на голове осталась 12-сантиметровая борозда. Я настоял на том, чтобы поехать в Кембридж, где медсестра Сара, позднее ставшая моей женой, дежурила в травматологическом отделении. Я попросил ее наложить мне швы и сделать прививку от столбняка, но не беспокоиться насчет местной анестезии. Очень скоро я орал от боли и жалел о своем решении.
На Рождество мне сломали челюсть, но я все равно был вынужден вскрывать грудную клетку мотоциклиста в отделении неотложной помощи. Все еще одетый в регбийную форму и покрытый грязью, во время мытья рук я сплевывал кровь в раковину. Тем не менее я был на месте, потому что в больнице не оказалось другого хирурга, который попытался бы спасти его. Затем я сделал большую глупость: я отказался от операции на своей челюсти, из-за чего мне пришлось терпеть внутримышечные инъекции огромных доз пенициллина, необходимые для предотвращения инфекции в кости. Медсестры, казалось, получали удовольствие, используя мой зад в качестве подушки для иголок. В итоге именно эта травма помогла мне сдать несчастный экзамен Королевской коллегии хирургов. Я едва мог говорить на устной части, но у меня хотя бы отсутствовали бравада и дерзость, которые подвели меня в первый раз.
Мне постоянно приходилось ассистировать старшим резидентам с неуклюжими пальцами, у которых с трудом получалось накладывать швы, и я знал, что сам гораздо лучше справился бы с этой задачей.
Я покинул Кембридж, получив прекрасную квалификацию и бесценный хирургический опыт. Я был предельно уверен в себе, но тащил слишком тяжелый эмоциональный багаж. Отсутствие торможения способствовало сексуальной распущенности, которая повлекла за собой много неприятностей. «Оксфордский словарь английского языка» ассоциирует психопатов с «расторможенностью и недостатком заботы о других людях». К этому определенно можно добавить маленький синий спортивный автомобиль и раздутое эго.
Во время последних недель моего пребывания в Адденбруке Хаммерсмитская больница и Королевская медицинская школа последипломного образования пригласили меня на программу ротации, где я мог занять должность кардиохирурга-стажера. Для меня это был приятный сюрприз. Возможно, они давали объявление о вакансии, на которое никто не откликнулся, но я все равно радовался, что мне предложили такой вариант. Эйфория, однако, не продлилась долго, потому что мне постоянно приходилось ассистировать старшим резидентам с неуклюжими пальцами, у которых с трудом получалось накладывать швы на бьющееся сердце. Оно было скользким и постоянно двигалось, и я знал, что сам гораздо лучше справился бы с этой задачей. Из-за моего нежелания ассистировать без скальпеля в руках меня направили в Гарфилдскую больницу (Garfield Hospital) на обучение торакальной хирургии[26]. Там все напоминало мне о дождливом выходном в Сканторпе, то есть о чем-то предельно знакомом. Легкие просто сдувались и раздувались, что было не слишком интересно. Поэтому я СБЕЖАЛ.
Я увидел объявление о вакансии внештатного хирурга общей практики в Гонконге. Должность предполагала проведение операций в двух частных клиниках на Пике, а пока штатный хирург находился в творческом отпуске, его заместитель мог жить в его квартире, ездить на его «Порше» и пользоваться его членством в Гонконгском клубе. Для меня это была возможность применить блестящий кембриджский опыт в другой стороне света и в совершенно другой культуре. Почему нет? Получив эту работу, я отпросился с кардиохирургической ротации на три месяца и уехал. Я не знал, на что иду, но в Лондоне мне все надоело, и я находился на грани саморазрушения. В конечном счете переезд спас меня от отчисления.
В больнице Каноссы (Canossa Hospital) и Международной больнице Матильда я работал в одиночестве, и ассистировали мне католические монахини. Там не было резидентов, готовых прийти на помощь, однако монахини привносили в операционную ощущение спокойствия и гармонии. В конце концов, разве кто-то стал бы кричать и злиться на монахинь? Кроме того, они были настолько опытными и надежными, что таких ассистентов редко можно было встретить дома. Их задача заключалась в помощи хирургам, и они давали мне возможность сосредоточиться на своих обязанностях. Даже я не мог флиртовать с монахинями. Мне хотелось впечатлить их и сделать так, чтобы они прониклись доверием к молодому английскому выскочке.
Возможность это сделать появилась раньше, чем мне того хотелось. Гастроэнтеролог направил ко мне девушку с проблемой, которую я никогда на встречал на Западе. Худощавая, но привлекательная молодая женщина из обеспеченной китайской семьи обратилась ко мне в связи с кровотечением из заднего прохода. Я был уверен, что дело было в геморрое, но опытный палец гастроэнтеролога нащупал опухоль в прямой кишке. Рак кишечника в девятнадцать? Я не мог в это поверить, однако биопсия подтвердила диагноз. Я встретился с убитой горем девушкой и ее матерью в поликлинике при отеле, на коулунской стороне, куда можно добраться на оживленном пароме «Стар Ферри».
В то время единственным вариантом лечения низко расположенной опухоли кишечника было удаление прямой кишки и формирование у пациента пожизненной колостомы[27]. Для молодой китаянки добровольная эвтаназия и то оказалась бы предпочтительней. Меня предупредили об этом монахини, когда мы обсуждали возможность проведения абдомино-перинеальной резекции[28]. Обычно такую операцию проводят два хирурга: в то время как один мобилизует прямую кишку сверху через отверстие в брюшной стенке, второй работает с опухолью снизу и удаляет анус пациента. Мне нужно было все тщательно обдумать. Стоило ли мне проводить операцию самостоятельно или направить девушку к опытной бригаде из университетской больницы? Как всегда, я решил, что со всем справлюсь, хотя никогда не делал эту процедуру ранее. Разве не глупо это было с моей стороны? Что имело большее значение: моя репутация или жизнь девушки?
Когда я впервые встретился с семьей, мать не позволила мне осмотреть ее дочь и была категорически против операции. Мне сразу стало очень жаль девушку. На втором месте после хирургов по числу психопатов стоят детские онкологи, и я понимаю почему. Человеческая природа обычно не в состоянии ежедневно наблюдать за страданиями детей и их родителей. Через кантонского переводчика я задал матери девушки один резкий вопрос: готова ли она к тому, что ее дочь умрет мучительной смертью от рака просто потому, что калоприемник может помешать ей выйти замуж? Эта жесткая провокация разрушила этнический барьер и довела ее до слез. Я извинился, чего они не ожидали от грубого западного хирурга.
Операцию по удалению опухоли из прямой кишки проводят два хирурга: один мобилизует кишку сверху через отверстие в брюшной стенке, второй работает с опухолью снизу и удаляет анус пациента.
Я продолжал говорить до тех пор, пока не убедил их, что английский врач может вылечить рак девушки. В действительности сами боги убедили меня прилететь из Лондона, чтобы сделать это. Когда пациентка с матерью ушли, я был уверен, что не увижу их снова. Эта мысль приносила мне облегчение. Я боялся, что девушка скорее покончит с собой, чем опозорит семью. Позор заключался в генетически обусловленном саморазрушении ее заднего прохода. К моему удивлению, они вернулись, и мне пришлось взяться за этот случай. Волновался ли я? Нет. Беспокоила ли меня масштабность и сложность абдомино-перинеальной резекции? Определенно. Я видел несколько из них, хотя и давно. Тем не менее я был уверен, что все вспомню, как только начну.
За время пятичасовой операции я практически ничего не говорил. Периодически мне приходилось просить инструменты. Правильный инструмент тут же оказывался в моей ладони, будто мне подавал его робот. Иногда у меня вырывалось случайное «вот дерьмо» или «черт побери», а по спине постоянно текла струйка пота. Монахини передвигали лампу и, прямо как в старых добрых фильмах, промокали мне лоб. К счастью, печень была чистой, без признаков распространения опухоли. Двигаясь медленно и осознанно, я мобилизовал толстую кишку сверху, а затем прямую кишку с задней стороны матки. Как начинающий кардиохирург я делал такую операцию в первый и последний раз, поэтому хотел, чтобы она прошла успешно. Самым важным для меня было правильно определить место колостомы, ведь именно оттуда содержимое кишечника должно было выходить на протяжении всей жизни. Колостома должна была быть аккуратной, как бутон розы, и располагаться в идеальном месте, чтобы не мешать ношению одежды.
Хотя множество разрезов причиняло ей сильнейшую боль, девушка быстро восстановилась. Так скоро выздоравливают только очень молодые пациенты. Я заверил ее семью, что не обнаружил никаких следов распространения опухоли. Позднее патологоанатом, проведя микроскопическое исследование, подтвердил, что опухоль не успела прорасти в стенку кишечника и лимфатические узлы. У девушки не возникло осложнений. Монахини сказали, что гордятся мной. Я и сам был очень горд собой и испытывал больше радости, чем после какой-либо другой операции. Я испытал огромное облегчение за себя и за семью пациентки.
Что для меня важнее: доказательство собственной непобедимости или безопасность пациента?
В ту ночь я немного выпил в загадочном Гонконгском клубе, а затем в одиночестве пошел в сауну. Время от времени в моей голове прокручивались этапы операции. Стоило ли мне вообще браться за нее? Что для меня важнее: доказательство собственной непобедимости или безопасность бедной девушки? Это был судьбоносный для моей карьеры момент. Хотя я так и не испытывал страха, здравомыслие начало возвращаться ко мне. В Гонконге привилегированность моего существования предстала в истинном свете. Работа рядом с монахинями и возможность поделиться с ними своими проблемами восстановили мир внутри меня, который я потерял несколько лет назад.
На втором месте после хирургов по числу психопатов стоят детские онкологи, и я понимаю почему.
Затем я занялся торакальной хирургией в государственной больнице Коулуна (Kowloon Hospital). Пациентов с раком легких было много, а других хирургов, способных их прооперировать, не было. Я устранял травматические повреждения, откачивал гной и исправлял дефекты грудной клетки у детей. Я все делал безвозмездно, и это восстановило мое уважение к себе. Неожиданно я стал помещать указательный палец в сердца, чтобы облегчить ревматический митральный стеноз, потому что других вариантов у меня не оказалось.
Чем больше я работал, тем больше пациентов ко мне направляли, и мне это нравилось. Меня просили остаться, и соблазн согласиться у меня определенно был. Китайские пациенты не жаловались на жизнь, как и их хирурги. Они делали все возможное доступными средствами, многие из которых применялись еще с прошлого века. Тем не менее я решил вернуться в Англию и начать все сначала. Мне хотелось применить то, что я узнал, на другом конце земли. Я пообещал себе стать менее высокомерным и отстраненным, хоть и понимал, что это будет нелегко.
Вскоре после моего возвращения в Хаммерсмитскую больницу я снова попал в беду, хоть и так был на грани отчисления с программы ротации за исчезновение на три месяца. Время идет, дерьмо остается. На этот раз я отвез пациента с колотой раной сердца в операционную, не предупредив дежурного консультирующего хирурга. «В чем проблема? – думал я. – Этот человек умирал. Я спас его и предотвратил убийство». Я старался убедить хирурга, что у меня совершенно не оставалось времени связаться с ним по пути в операционную, потому что я был сосредоточен на своей работе. Но это не было оправданием. Каким бы уверенным в своих способностях я ни был, я всегда должен был следовать протоколу. Я не сдержал обещания, данные себе на Китайский новый год. Я был рецидивистом, недисциплинированным и, очевидно, неконтролируемым.
После той операции профессор Бенталл, которого уже начинали подводить глаза и руки, сделал меня своим личным ассистентом. Я делал операции, а он мне помогал, причем это касалось даже его зарубежных частных пациентов. Я определенно умел оперировать, и никто не ставил это под сомнение. Проблема была в моем темпераменте: резкость, полное пренебрежение к субординации и нехватка проницательности все еще проявлялись во мне после той трещины в черепе. Я превратился в крайне амбициозного мерзавца, которого нужно было либо обуздать, либо выгнать. Я не мог и дальше оставаться таким же в британской больнице. Гонконг – это одно, а Дю-Кейн-роуд В12 (Du Cane Road) – совсем другое.
Однажды утром, после того как я оставил свой синий автомобиль возле главного входа на парковочном месте заведующего больницей, профессор Бенталл вызвал меня к себе в кабинет. Я предполагал, что на меня опять пожаловались сверху, и ждал выговора за очередной проступок. Подобно китайским коммунистам, я собирался произнести речь о равенстве и жизненных ценностях. Но все оказалось не так. Конечно, на меня была жалоба, но она только ускорила разговор, который давно откладывался. Он видел, что я до сих пор не удовлетворен. Не хотел бы я отправиться в Америку и поработать с великими людьми? Мне не нужно было думать. Я сразу согласился. Я вообразил, что поеду в Калифорнию и буду работать с Норманом Шумвеем, пионером пересадки сердца.
Однако Бенталл имел в виду совсем иное. Он был достаточно великодушен, чтобы признать мой хирургический потенциал, но еще раз подчеркнул, что я окончательно сошел с рельсов. Если бы я поехал в Стэнфорд, то испортился бы еще сильнее. Я должен был поехать к Джону Кирклину, известному хирургу, который ушел из клиники Майо (Mayo Clinic), чтобы создать передовую академическую хирургическую программу в новой больнице в Бирмингеме, штат Алабама. Душный Глубокий Юг. Профессор уже побеседовал с ним обо мне. После работы с Кирклином я мог вернуться в Хаммерсмитскую больницу на более высокую должность. Мне поставили ультиматум: согласиться или уйти. Я согласился. Это был мой единственный вариант. У меня была плохая репутация, но не забывайте, что в этом не было моей вины. Во всем виноваты нарушенные связи внутри мозга. Я надеялся, что когда-нибудь они восстановятся, но не слишком скоро. Я добился успеха в Китае. Мог ли я добиться его в Алабаме?
5
Перфекционизм
29 декабря 1980 года. Невыносимая тоска. Оставив позади катастрофу собственной жизни и драгоценную маленькую дочь, я отправился в Бирмингем, штат Алабама. Это было решающее время для моей карьеры кардиохирурга. Мои дикие выходки и пренебрежительное отношение к хирургической ротации подняли слишком много шума в Лондоне. Теперь мне предстояло проявить себя в Америке. Обучение в Нью-Йорке дало мне некоторое представление о том, чего ожидать, но на Глубоком Юге дела обстояли совершенно иначе. Он был жарким и душным, причем не только в плане климата.
Для меня 1981 год должен был все изменить. Гусенице пришла пора превратиться в бабочку, а затем защитить свои крылья от огня. Кардиохирургия непрерывно развивалась, и результаты постоянно улучшались. Подход «давайте попробуем и посмотрим, выживет ли пациент» уже не применялся. Теперь главную роль играла не ловкость рук или техника операции, а хирургическая наука. Чтобы оперировать сердце изнутри, орган должен быть неподвижным. Этого можно добиться только временным прекращением притока крови к самой мышце. Химическая защита от ишемической болезни сердца, то есть от недостаточного поступления кислорода к сердечной мышце, стала отдельной отраслью промышленности. По мере совершенствования хирургических методов операции становились все более продолжительными и сложными, но при этом гораздо менее опасными.
Сердце постоянно находится в движении, и чтобы останавливать его на время операции, было создано целое направление науки.
Поскольку прогресс базировался на прикладной науке и развивающихся технологиях, Соединенные Штаты стали местом, где о них можно было узнать больше. Деньги имели значение, детали имели значение, и Бенталл понимал, что лучшим хирургом-исследователем в мире был Джон Вебстер Кирклин. Кирклин не держал дураков в своем окружении. В самом деле, дураки и пяти минут не находились в его отделении. Говорят, что лорд Брок «все время огорчался из-за недостижимости вселенского совершенства». Кирклин отказывался признавать, что совершенство недостижимо. Наоборот, он считал его возможным, и ему приходилось из-за этого нелегко.