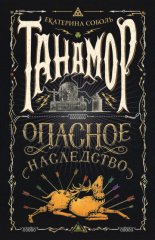Острие скальпеля. Истории, раскрывающие сердце и разум кардиохирурга Уэстаби Стивен

Когда я сказал: «Вот игла, Джули», она повернулась на крутящемся стуле, потеряла равновесие и рефлекторно оперлась рукой на операционный стол, чтобы не упасть. Ее ладонь попала прямо на острый конец иглы, крепко зажатой между губками иглодержателя, и испачканная костным мозгом игла глубоко вошла в ее руку. Джули закричала то ли от боли, то ли он ужаса, что у нее глубокая рана от грязной иглы. Возможно, и от того, и от другого.
Джули на шаг отступила от стула и уставилась на свою ладонь. Ее перчатка порвалась, когда она отдернула руку от острия, и теперь из раны стремительно текла кровь. Я рявкнул, чтобы она не останавливала кровь, наивно полагая, как и большинство из нас в то время, что это промоет рану. Она смотрела на меня через очки своими темными глазами, в которых я заметил смесь страха и злости, и протягивала мне свою кровоточащую руку. Кровь капала на пол, и Джули пробормотала: «Господи, почему вы оставили иглу торчать острым концом вверх?» Мне нечего было ей ответить.
Я чувствовал себя так же плохо из-за этих нескольких катастрофических секунд, как и Джули. Она не знала о связи между гемофилией и ВИЧ. Больше всего она боялась заразиться гепатитом, но с этим хотя бы можно было что-то сделать. Я отошел от стола, снял свои окровавленные перчатки и сказал: «Позвольте мне помочь». Раньше мы высасывали кровь из колотой раны, думая, что это поможет устранить всю заразу. Думаю, мы заблуждались, тем не менее Джули не пыталась меня остановить. Наверное, со стороны все это выглядело странно: мы стояли рядом, и я сосал ей руку. Велев своим расстроенным ассистентам зашить грудную клетку, я проводил бедную Джули до кафетерия.
Я усадил ее, все еще дрожащую от шока, а сам постарался собраться с мыслями. Я знал, что существуют инструкции по постэкспозиционной профилактике гепатита, и быстро нашел протокол действий в операционной, где говорилось:
«Инфекционный статус источника, если он еще неизвестен, должен быть определен. При отсутствии данных об отрицательном результате тестов на вирусы гепатита В и С, постэкспозиционную профилактику необходимо начать в течение часа после контакта. Следует сделать прививку от гепатита В и инъекцию иммуноглобулина против гепатита В для дополнительной защиты. Вакцины против гепатита С не существует, поэтому лечение заключается в наблюдении за сероконверсией»[38].
Иными словами, чтобы узнать, заразился ты или нет, оставалось только ждать. Поэтому Джули так разозлилась. Она уже проходила через подобное в Австралии, после того как укололась иглой во время пересадки сердца пациенту, который вполне мог быть носителем гепатита.
Я вернулся в операционную и попросил анестезиолога взять у ребенка кровь на серологический анализ, однако тот заявил, что в Саудовской Аравии этого нельзя сделать без разрешения матери. У меня и так было высокое давление, но в тот момент оно подскочило до небес.
«Просто возьмите эту гребаную кровь! – заорал я. – Я заполню все бумаги и сам отнесу ее в лабораторию».
В бланке запроса я написал: «Больной гемофилией ребенок после операции на сердце в крайне тяжелом состоянии. Нужно знать, что лечить. Анализ на ВИЧ и гепатит, пожалуйста». Мальчик все еще лежал на операционном столе, поэтому на тот момент я нес за него ответственность. Мне предстояло убедить сотрудников лаборатории, что эти анализы в интересах мальчика. Однако у меня были свои мотивы. С Филиппом все было в порядке. Я беспокоился о Джули. Гепатит был очень опасен, но СПИД был смертным приговором в 1980-х годах. Итак, я оставил Джули держать кровоточащую руку под струей воды, а сам отправился на поиски лаборатории.
Раньше врачи отсасывали кровь из колотой раны, думая, что это поможет устранить всю заразу. Они явно заблуждались.
Я ожидал скандала из-за разрешения взять кровь на анализ, но его не последовало. СПИД был редкостью в Саудовской Аравии, и анализы на него назначались нечасто, поэтому сотрудники брались за них с интересом. В ходе анализа крови измеряли не сам вирус, а антитела, которые вырабатывались у пациента в ответ на инфекцию. У меня возник очевидный вопрос: как скоро мне скажут, является ли пациент ВИЧ-положительным? Мне ответили, что результат будет через пару часов, но если у ребенка действительно обнаружат СПИД, что мне дальше с этим делать? Я чувствовал большую ответственность за Джули и искреннюю привязанность к ней. Ее веселый нрав сделал мою жизнь гораздо счастливее, чем она могла бы стать в более сложном окружении. Моя дорогая пожилая мама часто говорила: «Поставь себя на их место. Постарайся понять, каково быть ими». Она применяла этот принцип к больным, инвалидам, психически нездоровым и бедным (или, точнее, к тем, кто беднее нас). «У всех у них есть чувства», – говорила она. Эти несколько фраз характеризовали эмпатию.
К моменту моего возвращения в операционную какой-то идиот успел испугать Джули, сказав, что Филипп может оказаться ВИЧ-положительным. Ее рука уже была перевязана, и она умоляла нас сделать хоть что-нибудь, что могло бы немного ее успокоить. Я позвонил коллеге и спросил, есть ли в округе американские инфекционисты, которые знали о СПИДе и могли бы помочь нам. Затем я собирался поговорить с матерью мальчика. Пока Джули сходила с ума из-за риска заражения СПИДом, мать Филиппа с замиранием сердца ждала новостей из операционной. Думаю, мое лицо выглядело обеспокоенным, потому что она расплакалась при виде меня. Я протянул ей руку со словами: «С ним все в порядке, операция прошла хорошо».
Но обо всем по порядку. Я рассказал ей, что мы сделали внутри гниющего сердца, и сказал, что скоро она сможет посидеть рядом с сыном около часа. Я спросил, присоединится ли к ней отец мальчика, но она ответила, что он «где-то в Европе». Весьма неопределенно. Мне нужно было переходить к сути. Учитывая скандал, разгоревшийся в США и Европе из-за инфицированных препаратов крови, мальчика когда-нибудь проверяли на ВИЧ? Я извинился перед ней за то, что поднял эту тему, и объяснил, что молодая медсестра была заражена кровью Филиппа и что ей требовалось срочно убедиться в отсутствии риска заболеть СПИДом или гепатитом. Я тщательно продумал свой вопрос, чтобы не вызвать вербальной агрессии со стороны матери. Я был психологом в той же мере, что и психопатом, и простое наблюдение за переменами в выражении ее лица могло дать мне ответ.
Взгляд женщины, подобно стрелке часов, быстро перескочил на пустую стену. Я задал следующий вопрос: «Прошу вас, скажите. У Филиппа СПИД?»
Словно ища защиты в своем родном языке, она тихо пробормотала: «Oui».
Я взял ее потную руку и осторожно спросил, почему она не сказала нам об этом раньше.
«Потому что тогда вы не стали бы оперировать его, а я не хотела, чтобы он умер», – ответила несчастная женщина, бросилась на койку и зарыдала. Это был плохой день.
Нам требовалось быстро найти способ помочь Джули, но я понятия не имел как, потому что, откровенно говоря, ничего не знал о ВИЧ. Раньше я никогда о нем не думал, но мне нужно было получить полное представление, прежде чем говорить с Джули. Удивительно, но всего несколько недель назад США одобрили противовирусный препарат для лечения ВИЧ-инфекции, известный как AZT (азидотимидин). В случае уколов инфицированными иглами рекомендовалось принять AZT как можно скорее, не позднее семидесяти двух часов после ранения, чтобы обеспечить шансы на успех. Лечение должно было продолжаться месяц, и побочные эффекты включали почечную недостаточность, тошноту, рвоту и диарею. Когда я спросил у сотрудников лаборатории результат серологического анализа, они не смогли сказать мне, был он положительным или отрицательным. Это был их первый опыт. Я надавил на них и спросил, могут ли исключить положительный результат. Они ответили, что не могут. Я задумался, могло ли разбавление крови во время подключения к аппарату искусственного кровообращения или введение таких препаратов, как гепарин и протамин, повлиять на анализ.
Я решил сказать Джули, что тест отрицательный, но настоять на том, чтобы она в любом случае прошла курс AZT. Побережешься вовремя, не о чем будет жалеть после. Я старался минимизировать риски и найти оптимальный баланс между попыткой облегчить страдания Джули и тем, что реально стояло за признанием матери Филиппа о его ВИЧ-положительном статусе. Хотя симптомы заболевания маскировались под эндокардит, у него вполне мог быть СПИД, и мне нужно было предупредить об этом работников отделения интенсивной терапии, чтобы Филиппу выделили отдельную палату. Медсестры наверняка захотели бы надеть защитные скафандры, поскольку считали СПИД страшнее оспы или бубонной чумы.
Работая в палате с больным СПИДом, медсестры наверняка захотели бы надеть защитные скафандры, поскольку считали его страшнее оспы или бубонной чумы.
Мы зашли в тупик в поисках AZT. Мы связались с главным врачом, который ответил что-то вроде: «А что такое AZT?» Он больше всего боялся, что другие пациенты перестанут обращаться в больницу, если станет известно, что там находится пациент, больной СПИДом. Хуже всего, что он хотел проверить на ВИЧ всех, кто находился в контакте с мальчиком. Разумеется, операционную тоже требовалось промыть и продезинфицировать, прежде чем в ней снова позволят работать. Я принял решение как можно скорее отправить Джули в Сидней. Ей предстояло оказаться там не позднее следующего дня, чтобы AZT подействовал. Она вряд ли смогла бы позволить себе купить дорогой билет накануне вылета, поэтому я надеялся, что больница оплатит его, если я надавлю на руководство. Если они хотели скрыть историю со СПИДом, им следовало помочь Джули срочно покинуть страну, желательно в бизнес-классе.
Когда я снова увидел Джули в раздевалке для медсестер, она пребывала в шоке. Для молодой женщины чуть за двадцать этот инцидент был равен смертному приговору. В 1987 году никто не мог точно оценить риск заражения СПИДом после укола инфицированной иглой. Однако мы точно знали, что могло понадобиться несколько месяцев или даже лет, прежде чем Джули выяснила бы, в безопасности она или нет. До этого времени к ней все относились бы как к прокаженной. Никаких прикосновений. Никто не стал бы пользоваться с ней одним полотенцем, не говоря уже о том, чтобы целовать ее или заниматься с ней сексом. Я чувствовал свою ответственность за нее. Это был мой пациент. Именно я попросил Джули ассистировать мне на этой операции. Хуже всего, что я положил чертов инструмент иглой вверх. Если бы только можно было повернуть время вспять.
Я не хотел, чтобы бедная девушка вернулась в свою комнату и сидела там в одиночестве, не имея возможности с кем-нибудь поговорить. Ей, как и мне, требовалось выпить. Единственным местом, где можно было найти запрещенный алкоголь, был блок, где жили врачи, поэтому я решил провести Джули к себе в комнату, как только стемнеет. Когда я объяснил, что ей необходим курс препарата AZT, которого не было в Саудовской Аравии, она просто свернулась в клубок и ничего не ответила. Я знал кардиохирургов, с которыми она работала в больнице Сент-Винсент в Сиднее, и решил позвонить им по пути в аэропорт. Они могли о ней позаботиться. Мы все уладили с билетом, поэтому Джули оставалось только собрать вещи. Вернется ли она в Саудовскую Аравию, понимая, что опасность ВИЧ-инфекции нависла над ней как дамоклов меч? Я сомневался в этом. Бедная девушка пришла в то утро на работу полная жизни. Одно покачивание стула – и вся ее дальнейшая жизнь оказалась пронизана неопределенностью.
В недавно опубликованных американских рекомендациях говорилось о необходимости регулярно проходить тест на ВИЧ в течение шести месяцев после первых четырех недель приема противовирусных препаратов. Еще там говорилось о «консультировании», что бы это ни означало. Она либо заразилась ВИЧ, либо нет, и ожидание результатов влияло бы на каждый час ее жизни. Тем временем Джули, бутылка и я устроились на ночь, и я поступил так, как всегда поступал со своими пациентами. Я высказал предположение, что риск очень невелик и что утром все перестанет казаться настолько страшным. Кроме того, ей предстоял полет домой в бизнес-классе. Слабое утешение, подумал я. Если бы нас застали вместе в моей комнате, нас обоих посадили бы в тюрьму – или хуже.
Я старался поддерживать связь с Джули следующие несколько лет. Из-за противовирусной терапии она ужасно себя чувствовала несколько недель кряду, и ее счастливая жизнь и веселое настроение сменились добровольной изоляцией и депрессией. Она не хотела больше оказываться в операционных. Она слишком много пила, избегала отношений и, видимо, начала воровать в магазинах, когда у нее закончились деньги. Хотя ее ВИЧ-положительный статус так и не подтвердился, потрясение от той раны и страх перед СПИДом уничтожили ее. В значительной мере, но не окончательно.
Через десять лет я неожиданно встретил ее на конференции в Мельбурне, в которой она участвовала в качестве медсестры, специализирующейся на помощи пациентам с сердечной недостаточностью. Она увидела мое имя в программе и решила дать мне знать, что у нее теперь новая жизнь. Для меня это была эмоционально тяжелая встреча, потому что я так и не простил себя за ту ошибку с острейшей иглой. Мы нашли бутылку кроваво-красного австралийского мерло, и она от души рассмеялась, когда я рассказал ей об «острой медсестре» из Оксфорда. С той кошмарной ночи, когда ее рука кровоточила, прошло много времени.
Филипп умер от СПИДа через несколько месяцев после операции. Из всех больных гемофилией, которым перелили зараженные препараты крови в Великобритании, 1065 заразились ВИЧ, у 31 он перешел в полноценный СПИД, и 23 умерли. Если бы компании, поставляющие препараты крови, и гей-группы не опровергли доказательства, собранные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США в 1982 году, то многое из случившегося можно было бы предотвратить. Я стал настаивать на том, чтобы все пациенты, которые поступали в оксфордскую больницу для операции на сердце, сдавали анализы на гепатит и ВИЧ. Моя инициатива была принята без энтузиазма. Хотя мы регулярно направляли пациентов на несчетное количество анализов крови, делать анализ на опасные вирусы мы имели право исключительно с согласия пациента. Почему? Потому что потенциально опасные для жизни заболевания, носителями которых являлись некоторые пациенты, ассоциировались с их личными привычками, которые, как считалось, других не касались. Создавалось впечатление, что у персонала моей операционной вообще не было никаких прав.
В 1980-х гг. никто не мог точно оценить риск заражения СПИДом после укола инфицированной иглой.
Я вовсе не собирался кого-то дискриминировать или отказываться от серопозитивных пациентов, но я хотел, чтобы люди вроде Джули, стоящие на передовой, имели возможность защититься или сделать осознанный выбор относительно своего участия в операции. Я считал справедливым проверять тех, с чьей кровью мы имели дело, поэтому гнул свою линию. На мой взгляд, все пациенты получали только выгоду от защищенности медицинской бригады, и если система была не готова к рутинным тестированиями, то я тоже не собирался сдавать ежегодный анализ на гепатит. Это спровоцировало скандал с заведующим больницей из-за политики внутри учреждения и гребаных правил. Администрацию интересовало что угодно, кроме благополучия моей бригады.
Генеральный медицинский совет, работники которого сидели за письменными столами в полной безопасности, заявил, что «серологическое тестирование исключительно ради интересов работников системы здравоохранения является незаконным». Но если бы наши медсестры или перфузионисты, которые ежедневно купались в крови, заразились гепатитом или СПИДом от непроверенного серопозитивного пациента, то они могли передать эти опасные болезни супругу, детям и даже другим пациентам. Не было никакого смысла молчать о том, с чем мы пытались бороться. Я пригрозил полным отказом от оперирования всех категорий пациентов, которые с большой вероятностью могли оказаться серопозитивными, аргументируя, что такое решение принимается в интересах широкой публики. Мы все знали, что это пустая угроза. Вся эта возня напоминала дебаты в Оксфордском академическом союзе. Тем временем паника из-за ВИЧ охватывала все больше людей. Тех, кто ежедневно контактировал с кровью, острыми инструментами и сложным оборудованием, требовалось защитить.
Было бы полезно знать, заражен оперируемый гепатитом или ВИЧ или нет. Но руководство больницы назвало это простым любопытством.
За годы работы я прооперировал множество ВИЧ-положительных пациентов, не надевая скафандр или вторую пару перчаток. Мне было важно вести себя как обычно, потому что именно с теми, кто пребывал в состоянии нервного напряжения, как правило, и происходили несчастные случаи. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, только в 2000 году 66 000 медицинских работников заразилось гепатитом В, 16 000 – гепатитом С и 1000 – ВИЧ в результате колотых ран. Риск заразиться гепатитом В после ранения инфицированным острым инструментом составляет 10 %, гепатитом С – менее 2 %, а ВИЧ – всего 0,3 %. Однако кровь смертельно больных СПИДом пациентов гораздо более опасна. Джули повезло. Противовирусная терапия и прогноз для ВИЧ-положительных пациентов значительно улучшились за последние двадцать пять лет, однако процесс профилактики заражения после ранения остается тягостным, неопределенным и неприятным для пострадавшего. Я в итоге ушел на пенсию «чистым», несмотря на сотни порезов острыми инструментами. «Острая медсестра» Айрин до сих пор работает старшей медсестрой.
В октябре 2018 года приступили к расследованию того, что пресса окрестила «настоящей катастрофой в Национальной службе здравоохранения». Процесс начался с показаний людей, заразившихся ВИЧ и гепатитом. На видеозаписи, включенной в зале суда, мужчина рассказал, как считал свою жизнь потерянной, когда в сорок три года узнал, что в детстве заразился гепатитом С. Это произошло во время переливания инфицированных препаратов крови, после того как его опухшее колено ошибочно приняли за гемофилию. Одна женщина заявила, что заразилась ВИЧ от своего мужа, у которого была гемофилия. «Нас заставляли молчать, и мы молчали», – сказала она. Целых 30 000 пациентов, которым делали прямые переливания крови, тоже заразились. Кровь и препараты крови поступили от 100 000 американских доноров, многие из которых были заключенными или относились к группам высокого риска.
Почему это произошло? Потому что Национальная служба здравоохранения старалась удовлетворять спрос на лечение – проблема ресурсов, как обычно. В результате около 5000 пациентов с гемофилией и другими нарушениями свертываемости крови были заражены за двадцать с небольшим лет. Половина из них впоследствии умерла. Команда юристов правительства Великобритании признала, что «случилось то, чего не должно было случиться». Выступая от имени Департамента здравоохранения и социального обеспечения Англии, Элеанор Грей сказала: «Мы очень сожалеем. Это произошло, хотя не должно было». Скажите это матери Филиппа, Джули из Австралии, мне и тысячам других работников сферы здравоохранения, которые рисковали заразиться, потому что скандала старательно избегали.
Риск заразиться гепатитом В после ранения инфицированным острым инструментом составляет 10 %, гепатитом С – менее 2 %, а ВИЧ – всего 0,3 %. Однако кровь смертельно больных СПИДом пациентов гораздо более опасна.
8
Давление
С хирургической точки зрения оперировать маленьких детей с врожденными пороками крошечных сердечек технически гораздо сложнее, чем взрослых, поэтому связь коры головного мозга и мозгового ствола хирурга с кончиками его пальцев должна быть отличной. Эмпатию тоже следует «выключать» хотя бы на время. Мы все подвержены передаче тревоги, то есть проникновению чужих страхов в наш собственный разум. Язык тела, неуверенность в голосе и явные проявления эмоций играют большую роль в этом процессе. То же самое относится к ситуациям, когда нам приходится говорить с родителями об операции на их ребенке.
Чтобы сохранять объективность, психика детского хирурга воздвигает невидимую кирпичную стену, которая отгораживает его от страданий, страха и паники. Это вовсе не черствость и не психопатия. Проще говоря, способность противостоять давлению этих эмоций, проявляемых другими, является приобретенным защитным механизмом, без которого мы не могли бы работать. Оперировать чужих детей – огромная ответственность.
Согласно недавнему исследованию Кембриджского университета, способность человека к эмпатии зависит от его воспитания и среды, в которой он находится. Кембриджские психологи проанализировали генетику 46 000 человек, которых попросили пройти тест, оценивающий уровень эмпатии. Они выяснили, что способность людей сострадать и адекватно реагировать на чувства других всего на 10 % зависит от генетики. Женщины более эмпатичны, чем мужчины. Факт того, что эмпатия является приобретенной чертой, во многом объясняет, как врачи и солдаты учатся избегать ее, когда это необходимо. У меня была крайне эмпатичная мать, но, оперируя детские сердца, я «отключал» влияние ее ДНК. Естественно, это не статичный феномен. Когда давление уменьшается, эмпатия может вернуться. И эмпатия на работе отличается от эмпатии дома. Я постоянно беспокоился о собственных детях, особенно когда мой сын Марк стал играть в регби и гонять на автомобиле, прямо как я в молодости.
Оперировать маленьких детей с врожденными пороками крошечных сердечек технически гораздо сложнее, чем взрослых.
Так что можно представить, что для основания детской кардиохирургической программы в Оксфорде простого умения делать операции было недостаточно. Мой опыт обучения кардиохирургии новорожденных у Кирклина и Пасифико, а затем работа в больнице Грейт-Ормонд-стрит (Great Ormond Street Hospital) в Лондоне придали мне уверенности в мыслях о программе. Я испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие, наблюдая за тем, как больные, синюшные младенцы покидают больницу розовыми в окружении своих счастливых родственников: мам, пап, бабушек, дедушек, братьев и сестер. Все члены их семей больше не чувствовали огромного груза на своих плечах и были безмерно благодарны хирургу, который им помог. В этом и заключалась моя мотивация.
Временные, энергетические и эмоциональные затраты были огромны, но я испытывал колоссальное удовлетворение. За моей спиной стояли всецело преданные делу детские кардиологи, анестезиологи и реаниматологи, которые уменьшали давление. Это может прозвучать эгоистично, но детская кардиохирургия придала Оксфорду престиж, которого не хватало нашему конкуренту, кембриджскому кардиологическому центру в Папворте. Теперь у нас появилось то, что могло превзойти их первую трансплантационную программу.
Поскольку мы начинали с нуля, то были самым маленьким детским кардиологическим центром в Великобритании, но благосклонное к нам отношение и огромные благотворительные пожертвования позволили построить прекрасную детскую больницу. Мы отличались первоклассным акушерством, наличием неонатальной интенсивной терапии и разнообразных направлений детской хирургии – иными словами, у нас была вся инфраструктура, необходимая для безопасной кардиохирургии.
Способность людей сострадать и адекватно реагировать на чувства других всего на 10 % зависит от генетики.
С возрастом мой взгляд на работу смягчился. Не так давно я готовился выступить с речью в затопленном Хьюстоне. Это было через неделю после разрушительного урагана 2017 года и спустя долгое время после того, как я перестал оперировать детей. Пролистывая распечатанные моим секретарем Сью слайды, я нашел конверт, о котором она ничего мне не говорила. Он проделал со мной весь путь до Техасского института сердца. В письме говорилось:
Дорогой доктор Уэстаби!
Надеюсь, у вас все хорошо. Меня зовут Лаима, и вы сделали мне операцию почти семнадцать лет назад, когда мне было десять. Признаться, я только в последние пару лет начала понимать, как сложна была процедура Росса и как мне повезло оправиться после нее. Сейчас мне 26, и я недавно получила образование психолога в Австралии. На последней консультации мой кардиолог сказал, что я достаточно здорова, чтобы иметь детей, и что мне вряд ли понадобится еще одна операция в ближайшие годы. Я понимаю, что такой результат был маловероятным во время моей первой и второй операции, и от всего сердца благодарю вас за возможность жить так, как я живу сейчас. В данный момент я нахожусь в Великобритании со своим другом и показываю ему памятные места из моего детства. Поскольку вы и Джон Рэдклифф сыграли в моей жизни огромную роль, мне было важно заглянуть к вам.
С любовью,
Лаима хххх
Но меня тогда не оказалось в больнице, поэтому мне не довелось встретить взрослую Лаиму. Сью взяла письмо и положила его к моим бумагам, приготовленным для поездки. В письме не было указано обратного адреса, поэтому я никак не мог сказать Лаиме, как приятно мне получить от нее весточку. Некоторое время назад я бы не придал этому большого значения. Очередное благодарственное письмо, очередная сложная повторная операция на ребенке. Я не ставил себя ни на ее место, ни на место ее напуганных родителей, которые, возможно, думали, что такая операция может стать последней для их дочери. Встречался ли я с ними? Возможно, я прилетел накануне вечером, а утром уже провел операцию. В то время я предпочитал работать анонимно. Другие хирурги всегда разговаривали с родителями. Теперь дела обстояли иначе, и я очень огорчился, что не встретился с ней. Странно, но меня обеспокоило ее предстоящее материнство, и я искренне надеялся, что ребенок не унаследует ее проблем с сердцем.
Лаима родилась с обструкцией выносящего тракта левого желудочка и слишком маленьким аортальным клапаном. Из-за этого сердечная мышца была слишком толстой, и ей приходилось работать чересчур напряженно, чтобы качать кровь по крошечному телу. Мать девочки быстро заметила, что с ребенком что-то не так. Кормление грудью стало проблемой, а не удовольствием. Девочка начинала сосать с энтузиазмом, но через некоторое время задыхалась и плакала. Лаима «не цвела», как говорят врачи. Она была несчастным истощенным ребенком, а не пухлой и радостной малышкой.
Когда кто-то потрудился прослушать ее вздымающуюся грудь, послышался явный шум. За грудиной раздавался резкий звук, связанный с тем, что мощный маленький желудочек пропускал кровь через микроскопическое отверстие. Педиатр не могла поставить точный диагноз с помощью одного только стетоскопа, но предположила, что в сердце осталось маленькое отверстие, которого там быть не должно. К сожалению, дела обстояли иначе. Отверстие на выходе из левого желудочка должно было быть, но гораздо большего размера и с трехстворчатым аортальным клапаном внутри. Истощенную Лаиму требовалось срочно госпитализировать; это был не тот случай, когда ребенка можно погладить по голове и сказать матери, что со временем все придет в норму. Без врачебного вмешательства проблема вскоре привела бы к смертельному исходу.
Раньше я предпочитал работать анонимно и даже не встречался с родителями пациентов.
Лаиму срочно положили в больницу благодаря моему безгранично талантливому коллеге Нилу Вилсону, детскому кардиологу. С помощью эходатчика он поставил диагноз за пять минут: критический клапанный стеноз аорты и синдром гипоплазии[39] левых отделов сердца. Проще говоря, сжатый клапан и слишком маленький, утолщенный левый желудочек. Вилсон хотел, чтобы я рассек жесткий толстый клапан, то есть сделал аортальную вальвулотомию. Это должно было облегчить симптомы сердечной недостаточности и позволить левому желудочку расти.
Лаима оказалась в моей операционной в тот же день. Ее крошечное бледное тело выглядело жалким на столешнице из блестящего черного винила. Мы закрыли ее синими льняными драпировками так, чтобы на виду осталась только грудина. Ребра под ней вздымались и опускались синхронно с аппаратом искусственной вентиляции легких. Между кожей и грудиной было мало жира, еще меньше, чем при рождении. Скальпель рассек все слои одним движением, и острые ножницы разрезали грудину практически без сопротивления, так что пила не потребовалась. Я прижег сочащийся костный мозг электрокаутером и установил самый маленький металлический ретрактор.
У младенцев мясистая желтая вилочковая железа покрывает большую часть перикарда. Мы удалили ее, разрезали блестящую серую оболочку и увидели бьющееся сердце. Вскрывать перикард младенца – это то же самое, что открывать подарок-сюрприз на день рождения. На основании эхокардиограммы мы предполагали, что увидим, но это не испортило момента. Мне казалось, будто я вхожу в триумфальную арку у Бленхеймского дворца рядом с моим домом. Я делал это неоднократно, но каждый раз у меня дух захватывало. Сердце каждого ребенка в некотором роде уникально; я никогда не разочаровывался, но иногда пугался. Аорта и левый желудочек Лаимы действительно оказались недоразвитыми, как и показал эходатчик. В аорту можно было установить только самую маленькую перфузионную канюлю для аппарата искусственного кровообращения, и мы знали, что суженный клапан имеет сросшиеся створки с крошечным отверстием посередине, которое нам требовалось расширить. От этого зависело, выживет девочка или нет.
В неонатальной кардиохирургии нет ничего простого. В аппарате искусственного кровообращения циркулирует значительно больше жидкости, чем в самом ребенке, из-за чего возникают некоторые важные вопросы. Например, насколько сильно будет разбавлена кровь? Сколько жидкости требуется ребенку и какой температуры? Какой степени кардиоплегии[40] достаточно, чтобы остановить толстое сердечко размером с грецкий орех?
Хирург не работает в одиночку, но я не мог сконцентрироваться на технических деталях, если мне приходилось постоянно говорить своим ассистентам, что делать. Сплоченная хирургическая бригада – настоящее счастье. Одни и те же люди на каждой операции – это очень по-американски. Важно, чтобы рядом были те, кому вы доверяете, а не те, кто просто оказался свободен в данный момент. Мои полные энтузиазма интернациональные ассистенты с желанием брались за любую операцию, потому что стремились учиться. Меня окружали лучшие ребята из США, Австралии, Японии и Южной Африки, хотя страна, откуда они приехали, не имела никакого значения, если они были умными. Я определенно не нуждался в ассистентах, которые по принуждению оказались в моей операционной и с гораздо большим удовольствием ушли бы из больницы. Они все «отключались», когда их европейское рабочее время подходило к концу. Желание больше отдыхать не способствует становлению прекрасного хирурга.
Вскрывать перикард младенца – это то же самое, что открывать подарок-сюрприз на день рождения.
Отделив зажимом перфузионную канюлю от крошечного корня узкой аорты, я сделал поперечный разрез, осторожно избегая отверстий двух главных коронарных артерий, которые располагались над самим клапаном. Если повредить главную коронарную артерию в теле младенца, то не будет ни коронарного кровотока, ни мышечных сокращений, ни циркуляции. У нас не было ни малейшего права на ошибку. Нормальный аортальный клапан ребенка состоит из трех практически прозрачных створок. У детей с конгенитальным аортальным стенозом клапан обычно имеет две утолщенные сросшиеся створки. У Лаимы я увидел одну жесткую створку: у нее был редко встречающийся клапан в виде вулкана с настолько маленьким отверстием посередине, что я удивился, как девочка вообще пережила рождение. Толстая мышца левого желудочка легко могла зафибриллировать во время нарушения метаболизма при родах.
Теперь мне предстояло разрезать клапан так, чтобы он открывался как можно шире. Это требовало точной оценки. Стоило ли мне пытаться сформировать три створки, как в нормальном аортальном клапане, или всего две, которые открывались бы, как клюв птицы? Толстый комок коллагена был настолько деформирован, что я решил остановиться на втором варианте. Я сделал два точно отмеренных разреза от дырочки в центре к периметру кольца клапана. Все было готово. Теперь створки открывались, как клюв тупика, но они все равно оставались толстыми и жесткими. Хоть я и понимал, что через некоторое время мне придется делать повторную операцию, первый шаг должен был обеспечить нормальный приток крови ко всему телу и позволить левому желудочку расти.
Когда я снял аортальный зажим, сердце начало извиваться из-за фибрилляции желудочков. Затем оно внезапно остановилось и замерло в своем фиброзном коконе. В этом не было ничего страшного: аппарат искусственного кровообращения продолжал качать теплую кровь по маленькому телу Лаимы, и я знал, что сердце вскоре снова забьется. Как только я ткнул в пустой правый желудочек кончиками щипцов, он сразу же начал сокращаться, будто пытаясь сказать: «Отстань, я наслаждаюсь отдыхом». Желая поскорее перейти к следующей запланированной операции, я снова ткнул желудочек и попросил кардиостимулятор. Сердце меня поняло: оно не хотело электрических разрядов и предпочло начать биться самостоятельно. По всплескам активности на волнах артериального давления, отображаемых на мониторе, было видно, что сердце слегка выбрасывает кровь, хотя на тот момент оно еще оставалось не наполненным. Я велел перфузионисту оставить немного крови внутри, и волны стали более выраженными. Сердце выглядело гораздо счастливее после устранения блокады, поэтому мы отключили Лаиму от аппарата искусственного кровообращения.
Аортальная вальвулотомия Лаимы оказалась самой простой операцией в тот день. Второму младенцу было всего два дня от роду, и его аорта в буквальном смысле заканчивалась после ответвлений, идущих в голову и правую руку. Такая патология носит название «прерванная дуга аорты». Кроме того, у него был большой дефект межжелудочковой перегородки, расположенный между двумя качающими кровь камерами. После рождения дети с такой патологией живут ровно до тех пор, пока артериальный проток, временная связь между главной легочной артерией и нисходящей аортой, остается открытым. Верхняя часть тела таких младенцев может быть розовой из-за насыщенной кислородом крови, а нижняя – синей, из-за дезоксигенированной[41] крови из легочной артерии. Разноцветные дети.
Новорожденные с прерванной дугой аорты живут лишь до тех пор, пока временный артериальный проток остается открытым. Продлить это состояние можно с помощью гормона, заставляющего организм думать, что ребенок еще в матке.
Если артериальный проток закрывается вскоре после рождения (как и должно произойти), то вся нижняя часть тела лишается притока крови, и младенец умирает. Помочь может только введение гормонов, которые заставляют артериальный проток думать, что ребенок все еще находится в матке. Моя задача заключалась в том, чтобы рассечь и соединить крошечные восходящие и нисходящие части аорты, а также удалить всю самозакрывающуюся ткань артериального протока. Эти сосуды были такого же диаметра, что и детская соломинка для напитков, поэтому работа была не из легких. Чтобы справиться с поставленной задачей, нам пришлось охладить ребенка до 18 °C и полностью остановить кровообращение.
Охлаждение тела с помощью аппарата искусственного кровообращения заняло около тридцати минут, после чего я приступил к закрытию отверстия в сердце с помощью заплаты из дакрона. Это напоминало процесс пришивания пуговицы к рубашке, но внутри наперстка. Между двумя концами прерванной аорты всегда большое расстояние. Отдаленный конец находится с задней стороны грудной клетки, и от него в грудную стенку отходят многочисленные ответвления. Следовательно, его необходимо осторожно мобилизовать и вытянуть вперед. В то же время важно не перерезать слишком много ответвлений, поскольку это может поставить под угрозу кровоснабжение позвоночника.
Множество технических деталей значительно усложняют эту процедуру, во время которой отсутствует приток крови к мозгу и сердечной мышце. Это гонка на время. Как только я сформировал новую аорту, мы снова запустили аппарат искусственного кровообращения и стали разогревать младенца до 37 °C. Кровь хлынула из темных глубин грудной клетки. Поток был не стремительным, но постоянным.
Обычно разогревание занимало около получаса, в течение которого я ходил опорожнить свой стареющий мочевой пузырь, предварительно попросив своего ассистента заменить меня. Но не в этот раз. Мне требовалось как можно скорее обнаружить место кровотечения, что оказалось нелегким делом, поскольку оно находилось где-то рядом с позвоночником. Наконец я нашел кровоточащую артерию на грудной стенке, с которой соскользнул титановый зажим. К тому моменту мы несколько раз останавливали и снова запускали аппарат искусственного кровообращения, потому что у нас не получалось заставить сердце работать. Теперь оно противилось нам: билось, но кровь не качало. После того как три попытки отключить ребенка от аппарата не увенчались успехом, я подумал, что младенец не выживет.
В те годы один из пяти младенцев умирал во время подобной операции. Может, мне стоило опустить руки и пойти домой? Было уже шесть вечера, и все остальные заканчивали работу. Конец рабочего дня для меня означал бы конец жизни этого ребенка и конец света для его несчастных родителей. Поэтому мы продолжили борьбу. Поддерживающие препараты и дополнительное время на аппарате искусственного кровообращения не сделали сердце сильнее, и пятая часть окружности левого желудочка теперь состояла из дакроновой заплаты, которая, естественно, не сокращалась. Все это в сочетании с повторяющимся «оглушением» миокарда в периоды отсутствия притока крови означало, что счет не в нашу пользу. Без механической циркуляторной поддержки смерть была неизбежна.
Во времена, когда смертность во время операции высока, трудно мотивировать себя продолжать борьбу.
Существовал только один аппарат циркуляторной поддержки, подходящий для маленьких детей, – Berlin Heart, наружная насосная система, которая однажды уже помогла моему пациенту, мальчику с заболеванием сердечной мышцы, дожить до пересадки сердца в Оксфорде. Тогда я оплатил этот аппарат и его доставку из Германии средствами, выделенными мне на исследовательскую деятельность. Но Национальная служба здравоохранения не планировала приобретать эти аппараты, поэтому у меня не было устройства для умиравшего на моем операционном столе младенца.
Однако у меня была система циркуляторной поддержки для взрослых, которую прислали из США на тестирование. Этот центробежный насос Levitronix был последним из пяти предоставленных бесплатно, и остальные четыре спасли по одному пациенту, каждый из которых находился в шоке и умер бы без аппарата. Мог ли я адаптировать эту систему, рассчитанную на взрослого, под ребенка? Подобное не практиковалось ранее. У нас не было разрешения использовать систему на детях, поэтому требовалось преодолеть несколько технических трудностей.
Как и в аппарате искусственного кровообращения, в приборе Levitronix содержалось больше жидкости, чем во всей системе кровообращения ребенка, поэтому нам предстояло заполнить трубки кровью, чтобы избежать чрезмерного разбавления. Помимо этого насос обычно качал от пяти до семи литров крови в минуту, что вполне достаточно для 70-килограммового мужчины, но слишком много для младенца, который весил чуть больше полутора килограммов. Нам требовалось значительно снизить скорость тока жидкости и поднять уровень антикоагуляции, чтобы предотвратить образование сгустков. Опасность такого шага заключалась в повышении риска кровотечения внутри грудной клетки или мозга. Наконец, медсестры из педиатрического отделения интенсивной терапии не имели никакого опыта обращения с этим устройством, поэтому пришлось звать на помощь специалистов из взрослого отделения интенсивной терапии.
Каждый раз, когда я делал что-то необычное, кто-то жаловался руководству, и мне угрожали увольнением. Влияло ли это на мой мыслительный процесс? Нисколько. Национальная система здравоохранения открыто предоставляет статистику смертности пациентов каждого хирурга, но не может обеспечить больницы оборудованием, необходимым для спасения жизней. В чем здесь смысл? Моя бригада перфузионистов спокойно воспринимала трудности, потому что никто не хотел видеть, как умершего воскового новорожденного, дочиста вымытого, накрывают простыней в конце долгой операции. Меньше всего этого хотели медсестры, которым приходилось иметь дело с телом еще долгое время после того, как бухгалтеры уйдут в паб праздновать экономию больничного бюджета.
Чтобы подключить Levitronix, я просто оставил маленькую аортальную канюлю на месте, но переместил венозную дренажную трубку из правого предсердия в левое. В последний раз безуспешно попытавшись отключить ребенка от аппарата искусственного кровообращения, мы выключили аппарат, и я быстро сделал необходимые корректировки. На этом этапе младенец находился между жизнью и смертью одну, две, а затем и три минуты. Большее время без циркуляции крови при нормальной температуре тела привело бы к необратимым повреждениям мозга.
Систему циркуляторной поддержки подключили менее чем за четыре минуты, и вращающийся ротор обеспечивал ток крови со скоростью один литр в минуту. Младенец до сих пор оставался жив, но у него было низкое кровяное давление и отсутствовал пульс. В отличие от пульсирующего Berlin Heart, насос Levitronix качал кровь непрерывным потоком. Уход за пациентами без пульса в отделении интенсивной терапии всегда сопровождался множеством трудностей, но медсестры, которые умели работать со взрослыми на циркуляторной поддержке, уже возвращались в больницу. Когда мы зашили крошечную грудную клетку с трубками внутри, у меня почти не осталось надежды, что мы спасем этого ребенка. Многое могло пойти не так, но я считал, что любой шанс на выздоровление стоит усилий. В противном случае мне пришлось бы провести бесконечно тяжелую беседу с убитыми горем родителями, в ходе которой я пытался бы донести до них то, что сам целиком не понимал. Раньше мне часто приходилось это делать, причем обычно от лица своих менее храбрых начальников, которые не могли справиться с такой задачей самостоятельно.
Каждый раз, когда я делал что-то необычное, кто-то жаловался руководству, и мне угрожали увольнением. Подобные угрозы нисколько не влияли на мою работу.
Я сидел вместе с медсестрами возле койки, наблюдая, как садится солнце и наступает ночь. Никто из тех, кто находился рядом со мной, не был на дежурстве. Мы просто старались сделать для семьи ребенка все, что в наших силах, и нам приходилось расплачиваться за это. «Вам действительно было необходимо использовать этот насос на младенце?» – спросили меня. «А вы бы предпочли, чтобы младенец оказался в морге? Тогда вы выбрали не ту профессию», – ответил я. «Пошел на хрен!» – продолжил я в уме, но не стал озвучивать. Лаима лежала на соседней койке, и ее крошечные ручки держали в своих руках взволнованные родители. Она все еще спала, находясь в медикаментозном Ла-Ла Ленде, но с ней все было в порядке.
Младенец может находиться без циркуляции крови, между жизнью и смертью, не более трех минут.
Понадобилось три дня циркуляторной поддержки с помощью системы Levitronix, чтобы сердечко маленького мальчика восстановилось. Как только мы удостоверились, что сердце достаточно сильно, то забрали ребенка в операционную и убрали это пугающее устройство. Через две недели мальчик отправился домой вместе со своими счастливыми родителями. Не окажись у нас такого подарка из Соединенных Штатов, вместо радостного возвращения домой были бы похороны. Основу нашего здравоохранения составляла благотворительность.
Я запомнил день выписки Лаимы из больницы по одной интересной причине: в тот день я сделал операцию по устранению дефекта межпредсердной перегородки сразу трем родным братьям. Почему? Потому что их мать была так взволнована предстоящей ее детям операцией, что не могла определиться, кто будет первым, а кто последним. Чтобы облегчить ее мучения, педиатрическое отделение интенсивной терапии согласилось принять всех троих в один день и пригласило дополнительных медсестер.
Прошло четыре года, прежде чем я снова увидел Лаиму. В течение этого времени доктор Вилсон держал ее под пристальным наблюдением и каждые шесть месяцев направлял на эхокардиографию. Первое время прогресс был огромен. Сердечная недостаточность исчезла, а кормление стало проходить гораздо лучше. Лаима расцвела и стала активной малышкой. Затем прогресс постепенно замедлился. Шум прямо за грудиной снова стал громче, и обследование показало, что аортальный клапан стал жестким и узким, а сердечная мышца – толстой. В больнице все огорчились, понимая, что пришло время повторной операции. Вилсон решил не использовать менее инвазивный метод баллонной дилатации[42], и я забрал девочку в операционную, намереваясь помочь ей, прежде чем она пойдет в школу.
Однажды я сделал операцию по устранению дефекта межпредсердной перегородки сразу трем родным братьям. Их мать так сильно переживала, что не могла определиться, кого оперировать первым.
Обнажив клапан, я заметил, что он немного вырос, но отверстие снова было узким. Как и в прошлый раз, я сделал скальпелем два надреза от отверстия наружу, чтобы мобилизовать две утолщенных створки. Мышца под клапаном тоже оказалась толстой и разросшейся, поэтому я прорезал канал, чтобы увеличить отток крови из желудочка. Все стало выглядеть лучше, но я не испытывал оптимизма, понимая, что результата может хватить только на пару лет. Лаима оправилась после операции и выписалась из больницы, хотя ее родители понимали, что придется вернуться. Она родилась с механизмом самоуничтожения внутри сердца, и в следующий раз нам пришлось бы заменить клапан.
Не существовало искусственных клапанов сердца, подходящих для маленьких детей, однако была одна операция по замене клапана, настолько сложная, что лишь немногие хирурги брались за нее. Я научился этой процедуре у ее создателя, моего бывшего босса Дональда Росса из Национальной кардиологической больницы. Россу пришла в голову гениальная идея удалить пульмональный клапан пациента и поместить его на место аортального клапана, а затем заменить пульмональный клапан трансплантатом от мертвого донора. Эта процедура была эффективна для взрослых, но даже Росс ни разу не пытался проводить ее на маленьких детях.
Узнав у Росса об этапах операции и возможных подводных камнях, я в 1995 году стал первым хирургом, кто выполнил эту процедуру на младенце. У того мальчика прослушали шумы в сердце сразу после экстренного кесарева сечения. Всего через несколько часов левый желудочек отказал, и младенец посинел из-за недостаточного притока крови. Я срочно забрал его в операционную и сделал то же, что в случае с Лаимой: подключил его к аппарату искусственного кровообращения, а затем разрезал клапан, чтобы устранить обструкцию. Как и Лаиме, ему был всего день от роду. На утро эхокардиография показала значительное улучшение тока крови, и после нескольких дней в отделении интенсивной терапии мальчик отправился домой со своей семьей.
Через шесть недель клапан стал еще уже, и левый желудочек сокращался с большим трудом. Без срочного вмешательства мальчик бы умер. Понимая это, я решил взять быка за рога и попробовать провести операцию мистера Росса. Он, наверное, подумал бы, что я сошел с ума, раз решил сделать такую процедуру на крошечном сердце. У нас возникла проблема: требовалось найти пульмональный клапан умершего младенца.
Мы не знали, станет ли переставленный клапан расти в своем новом месте, но были уверены, что донорский пульмональный клапан развиваться не будет. Мне требовался клапан побольше, но у нас не было ряда мертвых младенцев, из которых можно выбирать. Нам повезло заполучить клапан от трехлетнего ребенка, погибшего в результате несчастного случая. Его убитые горем родители дали согласие на операцию; их немного утешало, что их умерший ребенок спасет жизнь другому малышу. Рано или поздно клапан бы износился, но его должно было хватить до начала переходного возраста.
Есть сложнейшая операция, когда клапан сердца пациента заменяется трансплантатом умершего донора. В 1995-м я был первым, кто провел такую операцию на младенце.
Процедура оказалась сложной с самого начала. Левый желудочек был так плох, что жесткие маленькие легкие плавали в жидкости соломенного цвета. Еще больше жидкости находилось в полости перикарда: она хлынула, как только я сделал надрез. Аорта была настолько узкой, что даже самая маленькая перфузионная канюля практически перегородила ее. Моя первая попытка установить канюлю не увенчалась успехом, и нас всех обрызгало кровью. Я установил ее со второго раза, после чего мы подключили ребенка к аппарату искусственного кровообращения и остановили сердце холодным кардиоплегическим раствором. Далее состоялась самая сложная операция на сердце из всех, описанных в учебнике, причем мы проводили ее на крошечном сердце, не имея подобного опыта. Однако это все равно была процедура Росса, а не моя.
Я перерезал аорту ниже перфузионной канюли и мобилизовал жизненно важные бугорки коронарных артерий, которые были не больше булавочных головок. Их предстояло повторно имплантировать в аутотрансплантат пульмонального клапана, не перекручивая и не натягивая. От этого зависела жизнь ребенка. В операционной не играла музыка и никто не говорил без повода. Время от времени анестезиолог Майк Синклер заглядывал за драпировку и спрашивал, как продвигается операция. «Медленно, – на автомате отвечал я. – Очень сложно». Тем не менее мы изо всех сил старались работать быстрее. Чем дольше ребенок находился подключенным к аппарату искусственного кровообращения и чем дольше отсутствовал приток крови к сердечной мышце, тем выше был риск смерти пациента.
Уровень адреналина в моей крови зашкалил, когда пришло время отделить основание пульмонального клапана от межжелудочковой перегородки в непосредственной близости от одного из главных ответвлений левой коронарной артерии. Я орудовал блестящим лезвием скальпеля менее чем в миллиметре от важнейшего сосуда, скрытого внутри мышцы. Это немного напоминало попытку повесить картину, не наткнувшись на высоковольтный электрический кабель, скрывающийся под штукатуркой. Я предполагал, где должен был находиться сосуд, но не знал наверняка. Во время своей первой процедуры Росса я чуть не убил пациентку, молодую мать двоих маленьких детей, повредив эту невидимую коронарную артерию иглой. Если бы она умерла, хотя ей можно было просто заменить клапан и так не рисковать, я бы никогда не взялся за еще одну процедуру Росса.
Агония сменяется экстазом – во всяком случае, так было во время той операции. Я расширил выходной тракт левого желудочка, поменял клапаны и имплантировал устья крошечных коронарных артерий в новый корень аортального клапана. Донорский клапан заполнил пустоту, образовавшуюся после удаления кольца пульмонального клапана. Волшебство. Мы выполнили процедуру в пределах допустимого времени. Более того, новые клапаны не протекали. Хотя я и был хирургом, но, когда мы сняли зажим и пустили кровь в сердце, я почувствовал себя художником, который положил финальные мазки на свой шедевр. Это ремоделирование оттока крови из сердца было настоящей авантюрой. Росс предполагал, что пульмональный клапан пациента останется живым и в случае с детьми будет иметь потенциал для роста. Теперь нам предстояло выяснить, так ли это. Могла ли эта операция стать способом лечения смертельного аортального стеноза у младенцев?
Процедура Росса стала единственной операцией, которую я всегда боялся делать, и в этом не было ничего удивительного. Многие другие хирурги считали ее слишком сложной и предпочитали менее рискованную замену аортального клапана, используя промышленно произведенные доступные клапаны. Другие хирурги, которые все же пытались делать процедуру Росса, часто совершали ошибки, приводившие к смерти пациента. Однако в случае с маленькими детьми единственный альтернативный вариант заключается в трансплантации аортального клапана от мертвого донора. Такой клапан не растет вместе с ребенком, потому что поглощает кальций и вскоре превращается в меловую трубку. В тех редких случаях, когда я отказывался от операции Росса и ставил ребенку аортальный аллотрансплантат, я обычно жалел о своем решении.
Лаима вернулась в возрасте десяти лет. Она не могла бегать или играть с другими детьми в школе. Даже из-за ходьбы по игровой площадке она задыхалась и начинала паниковать. Когда она приходила в эмоциональное возбуждение, в глубине ее грудной клетки возникала сильная боль. Жизнь Лаимы становилась все несчастнее, а ее родителей поглотила тревога, неизбежная при третьей операции на сердце. Сложные повторные операции всегда связаны с неопределенностью и опасностью лишить жизни юного пациента, хотя такое случалось редко. С возрастом мне стало все сложнее собирать постоянную хирургическую бригаду, поэтому я начал больше бояться риска.
Мы обсуждали каждого пациента на мультидисциплинарном совещании, прежде чем принять ответственное решение. К тому времени Нил Вилсон стал лучшим в стране специалистом по балонной дилатации суженных клапанов у детей. Он вводил катетер с баллоном на конце в бедренную артерию и ретроградно (против тока крови) продвигал его по восходящей аорте, контролируя свои действия с помощью рентгеноскопии. Затем латексный баллон надували под большим давлением, чтобы раскрыть створки клапана. К сожалению, створки не всегда раскрывались по линиям срастания. Бывало, что клапан разрывался не в том направлении, а потом сильно протекал. Вилсон был настолько талантлив и смел, что стал с помощью катетеров расширять такие же клапаны, как у Лаимы, у плодов внутри матки. Это было действительно страшно.
Я ожидал, что на собрании другие кардиологи порекомендуют нам провести Лаиме балонную вальвулотомию, но они этого не сделали. В то время магнитно-резонансная томография только появилась, и снимки утолщенного, корявого и жесткого клапана были детальными и удручающими. Не имело никакого смысла снова давать ребенку общий наркоз, чтобы «просто попробовать». Я уже опубликовал статью о первой проведенной на младенце процедуре Росса в журнале Heart, и именно такую операцию мне порекомендовали сделать на совещании.
Оставались ли у меня другие варианты? Хотя Лаима была миниатюрной для своего возраста, можно было попробовать удалить клапан, увеличить выходной тракт желудочка и имплантировать самый маленький механический сердечный клапан. И получилась бы гораздо более простая операция (если третью операцию вообще можно назвать простой). Однако Лаиме до конца жизни пришлось бы принимать антикоагулянт варфарин[43] и через несколько лет лечь еще на одну операцию по установке более крупного клапана. Более того, беременность, хоть и возможная, стала бы для нее настоящим кошмаром в подобных обстоятельствах.
После коллективного обсуждения возможных операций Вилсон сказал: «Из-за механического клапана она все время будет находиться под угрозой инсульта и связанного с антикоагулянтами кровотечения. Это вариант для трусов. Это же вы описали проведение процедуры Росса на детях. Просто сделайте ее».
Сложные повторные операции всегда связаны с неопределенностью и повышенным риском смерти пациента.
Именно ее мы и сделали, и, к счастью, все прошло хорошо. В банке аллотрансплантатов нашелся пульмональный клапан, который, как я надеялся, должен был прослужить Лаиме всю жизнь. Наблюдая за пациентами, которые в детстве перенесли процедуру Росса, мы выяснили, что их собственный пульмональный клапан нормально рос на новом месте. В итоге мы получили прекрасные долгосрочные результаты. Более того, донорские клапаны в правой половине сердца прослужили намного дольше, чем мы ожидали, потому что давление там было гораздо ниже.
Итак, поскольку мне не удалось тогда связаться с Лаимой, я публикую здесь мой ответ на ее письмо, которое обнаружил среди своих бумаг в Техасском институте сердца.
Дорогая Лаима!
Мне очень жаль, что я не увидел тебя, когда ты приходила в больницу в Оксфорде. Наверное, тебе кажется, что ты и не встречала меня во время тех трех операций, но поверь, я знаю тебя очень хорошо. Знай, что я очень беспокоился о тебе и твоих родителях в те трудные времена. Ты помогла доказать эффективность процедуры Росса. Дональда больше нет с нами, но он был бы рад услышать твою историю. Я желаю тебе много удачных беременностей и счастливой жизни. Надеюсь, кто-то увидит это письмо и расскажет тебе о нем.
С любовью к тебе и твоей семье,
Проф.
9
Надежда
Мрачный Жнец неустанно бродил по больничным коридорам со своей косой, надеясь, что я совершу ошибку. Хотя изредка и совершал их, я никогда не давал своим пациентам умереть без борьбы. Моим девизом были слова Уинстона Черчилля, которые он произнес, обращаясь к народу в мрачные дни Второй мировой войны: «Мы никогда не сдадимся». Могила Уинстона располагалась на середине моего маршрута для пробежки близ Бленхеймского дворца (сейчас я стал слишком стар для него). Я сидел на скамье, подаренной участниками польского сопротивления, и разговаривал с ним. На его могиле круглый год лежали букеты цветов, к которым часто прилагались записки со словами «Надежда умирает последней». Надежда жила во мне, в моих пациентах и в их близких. В больнице любовь, надежда и триумф спали в одной постели, в то время как разочарование и горе ждали своего часа, прячась под моим операционным столом. Между этими крайностями стояли умение, стойкость духа и неустанный труд. Существует ли это славное трио сегодня?
Холодным и унылым февральским утром я собирался отключить пациента от аппарата искусственного кровообращения после замены аортального клапана, как вдруг в дверях операционной показалась взволнованная светловолосая голова детского кардиолога-резидента. Могу ли я сейчас же подойти в детское отделение интенсивной терапии? Там катастрофа. Сердце моего пациента неистово билось, поэтому ассистент приготовился меня заменить. С ощущением дежавю я отошел от стола и стянул испачканные кровью перчатки. «Надеюсь, этой действительно срочно», – заметил я.
У моего ассистента были умелые руки, но по горькому опыту я знал, что сейчас не лучшее время, чтобы уйти. Отделение интенсивной терапии находилось всего в девяноста метрах от операционной прямо по коридору, и чтобы туда попасть, я должен был пройти мимо травматологического отделения. Девушка-резидент, которая меня позвала, шагала очень быстро; она явно находилась в стрессе. Когда я подошел, она уже держала мне тяжелую дверь, в то время как медсестра распахнула передо мной вторую, отделявшую комнату ожидания для родственников от святая святых. Это мне о многом сказало. Они явно хотели, чтобы я оказался на месте как можно скорее, и не понимали, почему я задерживаюсь.
Для забора спинномозговой жидкости нужно попасть длинной иглой в узкий межпозвоночный промежуток. Эту процедуру ненавидели и пациенты, и я.
Кровать была скрыта за зелеными занавесками, но через щель между ними я заметил бурную деятельность. Показатели на мониторе говорили о близости пациента к смерти. Кто-то сказал: «Он пришел», но никто не поднял глаз. Они пытались реанимировать Софи, худую, смертельно бледную пятнадцатилетнюю девочку. Анестезиологи, кардиологи и педиатры – все собрались вокруг нее. Мой взгляд остановился на большой игле, введенной в ее грудь прямо над сердцем. Большой шприц наполнялся окрашенной кровью жидкостью, которую затем сливали в пластиковый пакет. В пакете плескалось уже пол-литра жидкости, которая до этого сдавливала желудочки сердца. Анестезиолог ритмично сжимал черный резиновый мешок, вдувая кислород через гофрированную пластиковую трубку в жесткие легкие девушки. Я инстинктивно следил за монитором. Пульс 130 ударов в минуту – слишком быстрый; кровяное давление в два раза ниже нормы, но низкое давление лучше, чем его отсутствие. К счастью, девушка находилась без сознания и не видела иглу, пронзившую ее грудь. Мрачный Жнец пытался забрать ее, но реаниматологи не отпускали.
Это было начало настоящего сражения, хотя Софи уже одерживала победу в маленьких битвах. На столе лежала ее коричневая медицинская карта, первая запись в которой, сделанная в окружной больнице общего профиля, куда девочку изначально привезли, была следующего содержания:
«Воскресенье, 16 февраля. 23:00. Лихорадка, ломота в шее, головная боль и боли в мышцах. Все началось в субботу днем с боли в колене и локте. Легла спать, но после пробуждения боль все еще присутствовала. Пошла к отцу в субботу вечером, температура поднялась до 40 °С. Усиление головной боли, рвота и общая ломота в теле. Вчера оставалась в постели. Сегодня головная боль усилилась, несмотря на четыре таблетки ибупрофена по 200 мг каждая. Вырвало три раза. Сейчас присутствует ломота в шее и боль в конечностях. Пульс 104. Кровяное давление 95/50. Диагноз – вирусное заболевание, но не менингит. Зрачки в норме».
Как будто всего этого было недостаточно. Несчастная девочка перенесла еще и три неудачные попытки люмбальной пункции[44], предпринятые неопытными врачами. Цель пункции заключалась в том, чтобы получить образец спинномозговой жидкости из спинномозгового канала, то есть той же жидкости, которая омывает мозг. При менингите эта кристально чистая жидкость мутнеет из-за лейкоцитов, а в самых тяжелых случаях становится молочной из-за бактерий. Я делал множество люмбальных пункций во время работы в Чаринг-Кросс. Мне приходилось проталкивать длинную иглу то в одном направлении, то в другом, пытаясь попасть в узкий межпозвонковый промежуток. Эту процедуру ненавидели как пациенты, так и я, но в итоге мне всегда удавалось сделать забор спинномозговой жидкости. Часто от этого зависела жизнь. Однако у врачей Софи ничего не получилось, и они сдались, что было непростительно. Если бы у девочки оказался менингит, она бы уже умерла. Вместо этого они поставили ей капельницу с жидкостями и взяли кровь на анализ, чтобы проверить наличие бактерий в кровотоке.
В течение следующих двенадцати часов состояние Софи значительно ухудшилось. Ей поставили капельницу с антибиотиками, но это не помогло, потому что возбудитель заболевания так и не определили. Девочке стало еще хуже. Следующим вечером кровяное давление начало снижаться, а пульс участился до 120 ударов в минуту. Софи перевезли сначала в кардиологический блок интенсивной терапии окружной больницы, а затем доставили на скорой помощи в наше педиатрическое отделение интенсивной терапии в Оксфорде. Нам требовались мощные вазопрессорные препараты, чтобы поддерживать давление на уровне 60 мм рт. ст., в то время как девочка впадала в септический шок. Следующим утром из лаборатории поступили данные о том, что в крови Софи активно размножалась бактерия Staphylococcus aureus. Этот микроорганизм часто процветает на коже, но становится крайне опасным при попадании в кровоток.
Кожа человека содержит богатый микробиом, и многие бактерии безобидны, лишь пока не попадут в кровь.
На тыльной стороне правой руки девочки появилась болезненная красная припухлость, и врачи отделения интенсивной терапии диагностировали септический артрит. В тот же вечер один из резидентов сделал Софи срочную эхокардиографию, но не увидел в ней ничего примечательного. К несчастью, конкретно этот стафилококковый организм был невосприимчив к лечению пенициллином, поэтому антибиотик пришлось заменить. У Софи появилась одышка, и она начала галлюцинировать. Срочный рентген грудной клетки показал затемнение, а также скопление жидкости в обеих плевральных полостях обоих легких.
Следующим утром пластические хирурги решили дренировать гнойник на пораженной руке, предполагая, что именно в руке заключался источник заражения крови. Или все-таки инфекция крови стала причиной септического артрита? Сложно сказать, основываясь лишь на рентгеновском снимке и «любительской» эхокардиографии, результаты которой были неверно интерпретированы. Поскольку девочка находилась в крайне тяжелом состоянии, операцию пришлось проводить под местной анестезией, что стало настоящей пыткой для несчастной Софи. Конечно, в жидкости, откачанной из сустава, был тот же самый стафилококк. Еще одна эхокардиография, проведенная доктором Арчером, показала скопление жидкости вокруг сердца. У девочки началась анемия, и ей требовались вливания жидкостей через капельницу, чтобы поддерживать кровяное давление на нормальном уровне. Температура ее тела то поднималась, то падала, напоминая биржевой график в нестабильный день.
Через неделю после прибытия Софи в Оксфорд доктор Арчер услышал новый шум в ее сердце. Эхокардиограмма показала, что митральный клапан протекает, а вокруг сердца скопилось еще больше жидкости, похожей на гной. У девочки была такая тяжелая анемия, что ей пришлось делать переливание крови. Немногочисленные встревоженные родственники Софи сидели у ее постели. Несмотря на мощные антибиотики, состояние пациентки оставалось критическим. Ее мать Фиона и сестра Люси были уверены, что потеряют ее, поэтому не покидали палату. Больше антибиотиков, больше жидкостей, больше вазопрессоров – никаких улучшений. Из-за постоянно скачущей температуры девочка бредила и по ночам видела страшные галлюцинации. До какой степени может ухудшиться состояние ребенка без точного диагноза?
Следующим утром наступило катастрофическое ухудшение. У нее развился полный сердечно-сосудистый коллапс и произошла остановка дыхания, из-за чего пришлось вызвать бригаду детских реаниматологов и меня, кардиохирурга. Без агрессивных реанимационных мероприятий она была бы уже мертва. Сначала медики интубировали[45] трахею и установили контроль над дыханием, а затем уменьшили давление на сердце, откачав жидкость с помощью большой полой иглы и шприца. Когда кровяное давление начало повышаться, доктор Арчер взял эходатчик, чтобы показать мне причину коллапса. Митральный клапан Софи был воспален и внезапно разорвался под давлением. С него свисали огромные комки инфицированного белкового материала, готовые оторваться и направиться в мозг. Если бы ей сделали непрямой массаж сердца, они бы уже оторвались и вызвали обширный инсульт.
Теперь ее срочно требовалось отвезти в операционную, чтобы заменить неисправный клапан. Никаких «если», никаких «но», никаких споров. Нормальное кровяное давление не продержалось бы долго. Инфекция одерживала победу. С каждым сокращением левого желудочка (а это происходило аж 130 раз в минуту) все больше крови текло в обратном направлении в левое предсердие, вместо того чтобы направляться вперед к аорте. Сердце Софи едва качало кровь, а ее легкие наполнялись жидкостью. Либо на предыдущих эхокардиограммах не увидели болота из кишащих бактерий, проедающих себе путь через ткани, либо эти бактерии были настолько агрессивны, что мы не победили бы их, что бы ни предпринимали.
Вторая пациентка, которой должны были сделать операцию по расписанию, уже прошла медикаментозную подготовку и направлялась в анестезиологический кабинет. Бедную женщину пришлось отправить обратно прямо в дверях операционного блока, что всегда является большим потрясением для встревоженного пациента и его родственников, которые успели морально настроиться на сердечную операцию. Я вернулся в операционную и велел бригаде подготовиться к срочной замене митрального клапана у подростка в крайне тяжелом состоянии. Как звали пациентку? Я не знал и не спросил. Я даже не поговорил с обезумевшими от тревоги родителями и сестрой. У меня просто не осталось времени.
Объявив об изменении планов, я вернулся в отделение интенсивной терапии. Арчер зашел к родственникам девочки, очень интеллигентной семье, и сказал им, что Софи умирает. Он уже сделал самое сложное, сообщив плохие новости, и теперь глубокое беспокойство отражалось на трех унылых лицах. Как можно смягчить новость о грядущей смерти ребенка? Возможно, дать немного надежды. Это волшебное слово. Надежда составляла часть моей работы, и со своим обычным оптимизмом и полной уверенностью в себе я объяснил, что, хотя инфекция полностью разрушила митральный клапан, мы можем заменить его. У нас есть шанс быстро попасть в операционную, и нам нужно им воспользоваться как можно скорее. Мне оставалось предупредить их только об одном: если Софи установят искусственный клапан, ей всю жизнь придется принимать антикоагулянт варфарин. Варфарин необходим, чтобы сократить выработку печенью белков свертывания крови. Я пресек последующие вопросы, сказав, что сам отвезу Софи в операционную, чтобы не ждать санитаров. Время пришло.
Людям с искусственным сердечным клапаном необходимо всю жизнь принимать антикоагулянт, чтобы снизить риск образования тромбов.
Мы прошли мимо анестезиологического кабинета и сразу положили Софи, находившуюся без сознания, на операционный стол. Канюли и электроды, необходимые для подключения мониторов, были на месте, мои инструменты лежали на синем полотне (набор для взрослых и набор для детей, потому что Софи находилась на промежуточной стадии), и медсестры стояли наготове. Пушистые белые тампоны были внимательно пересчитаны и выложены в ряд. Худая и бледная Софи по цвету сливалась со своим халатом, который вскоре бросили на пол. Медсестра и резидент натерли ее раствором йода и закрыли синими драпировками. Я пытался отрегулировать светильники, но они были абсолютно новыми, дешевыми и жили своей жизнью. Все, что мы имели, было либо новым и дешевым, либо старым. Инструменты, пилы, аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты искусственного кровообращения – все периодически ремонтировали. Вот с чем нам приходилось работать, но жаловаться по этому поводу не имело никакого смысла.
Я быстро вскрыл грудную клетку. Биохимический анализ крови был плох, поскольку ее поврежденное сердце приказало долго жить. Софи сама находилась на грани жизни и смерти, и нам требовалось безопасно подключить ее к аппарату искусственного кровообращения. Мы бы оперировали ее сердце, пока кровь фильтровалась. Разрезав грудину, я увидел значительное количество желтой жидкости внутри перикарда, окружавшего сердце. В этом «супе» плавали нити инфицированного белка, кишащего стафилококком. После того как мы все это высосали и вычистили, я установил трубки, и перфузионист запустил аппарат искусственного кровообращения. На данный момент Софи находилась в безопасности. Пришло время оценить ущерб.
Ее юношеское левое предсердие было очень маленьким, поэтому я подобрался к нему со стороны правого предсердия через межпредсердную перегородку. Моему взору открылся митральный клапан, который выглядел так, будто он покрыт водорослями. На месте соединения передней и задней створки слева от меня был абсцесс: ткани, разрушенные бактериями, разорвались, в результате чего клапан отделился от стенки сердца. Моим первым желанием было целиком вырезать клапан, но затем я решил сначала очистить его, чтобы посмотреть, что осталось. Я постепенно пробирался к здоровой ткани, на которую можно наложить швы. Первый ассистент неловко держал расширитель для предсердия, не понимая, почему я не работаю быстро, как обычно. Но я решил попробовать спасти клапан и избавить Софи от пожизненного приема антикоагулянтов, которые, скорее всего, в будущем помешали бы ей нормально выносить ребенка.
Я задумался, смогу ли восстановить поврежденные края обеих створок с помощью кусков перикарда. Фиброзная оболочка, окружающая сердце, была самым подходящим материалом, но поскольку перикард Софи кишел бактериями, я взял перикард коровы – листы стерилизованной ткани, предназначенные специально для восстановления сердца или кровеносных сосудов. Я вырезал овальную заплату и вшил ее в кашеобразную стенку сердца, а затем заново закрепил створки клапана. Отверстие клапана стало меньше, но не настолько маленьким, чтобы препятствовать току крови. В одном углу я использовал дополнительную полоску человеческой аорты, чтобы укрепить свою «починку». Пикассо гордился бы мной. Или, возможно, скульптор Генри Мур. Теперь сердце Софи включало в себя частицы мертвого человека и мертвой коровы. Я надеялся, что это произведение прикладного искусства выдержит давление, когда сердце снова начнет биться, что нам вскоре предстояло выяснить.
Все, что выдавали хирургам, было либо новым и дешевым, либо старым. Инструменты, пилы, аппараты искусственной вентиляции легких, искусственного кровообращения – все приходилось ремонтировать.
Прежде чем начать закрывать грудную клетку, я осторожно промыл полости сердца физраствором. Детские сердца «заводятся» очень быстро, и мы не хотели, чтобы инфицированные продукты распада тканей попал в мозг Софи. Вскоре мы получили эхо-изображения от датчика в пищеводе девочки. Внутри левого желудочка кружились обычные крошечные пузырьки воздуха, которые выглядели на экране, как метель. Я сделал маленький прокол в высшей точке аорты, и пузырьки вылетели в атмосферу, где им и место. Когда сердце начало ритмично биться, мы увидели, что клапан работает хорошо и протекает лишь незначительно.
Пришло время задуматься об отключении аппарата искусственного кровообращения, что представляло собой еще одну сложность, но сердце уже выглядело лучше и сокращалось координированно. Все четыре клапана исправно открывались и закрывались, поэтому я сказал, что пора медленно отключать пациентку от аппарата. Маленькое сердце стало работать самостоятельно; давление поднялось до 100 мм рт. ст., и заплаты держались на месте.
Внезапно в дверях показалась лысеющая голова Ника Арчера, поэтому я попросил резидента в очках закрыть грудную клетку, а сам пошел поговорить с Ником. Арчер спросил, почему операция заняла больше времени, чем обычно, и выразил беспокойство о родителях девочки. Чем умнее ожидающие родственники, тем полнее они понимают происходящее и тем больше тревожатся. Арчер особенно радовался, что мы «отремонтировали» старый клапан. И хотя мы даже младенцам вставляли искусственные клапаны, найти баланс между недостаточной и избыточной антикоагуляцией настолько трудно, что по существу нам приходилось выбирать между инсультом и кровотечением. Антикоагуляция становилась проблемой для молодых женщин, которые хотели иметь детей, потому что варфарин мог провоцировать патологии плода и кровоизлияние в плаценту. Такая проблема крайне сложно решалась, но Софи теперь это не грозило. Арчер отвел меня на встречу с разведенными родителями девочки, которые находились в больнице со своими новыми партнерами. Они все сидели рядом, чтобы оказывать друг другу моральную поддержу, ведь каждый из них опасался худшего.
Я никогда не бахвалился и не пытался играть в Бога. Однако родители жаждут ободрения от человека, который сделал всю работу. Однажды я сам оказался по другую сторону баррикад, когда члену моей семьи делали операцию на сердце, и с нетерпением ждал хороших новостей. Я заверил родителей, что все в порядке, но сам в глубине души опасался, что в сердечной мышце Софи остался абсцесс, потому что я заметил необычную выпуклость в стенке левого желудочка. Я откачал часть гноя и надеялся, что все заживет, но стафилококк обычно очень агрессивен.
К моменту моего возвращения в операционную резидент закрыл грудную клетку, и Софи увезли. Мне требовалось описать ход операции в медицинской карте, чтобы остальные врачи понимали, что было сделано. Когда бедную девочку разместили в отделении интенсивной терапии, я ушел домой героем, в то время как ее немногочисленные родственники по очереди сидели у ее постели, мечтая, чтобы она выздоровела. Они снова надеялись. Страх на время отступил.
Я вернулся к ней в 06:30. Поскольку в такое время в больнице не оказалось детских кардиохирургов, кроме меня, никто не мог взять на себя ответственность. Не было никаких дежурств: ни дневных, ни ночных. Если что-то случалось, на помощь мог прийти только я. Всю ночь состояние Софи оставалось стабильным; ее мать сидела рядом и держала ее за руку, явно не собираясь отпускать. Однако у девочки опять поднялась температура. Мы растревожили осиное гнездо, а стафилококк был зол. Миллиарды бактерий взбунтовались. Софи все еще требовались сильные вазопрессорные препараты, чтобы поддерживать кровяное давление на адекватном уровне. Помимо всего прочего, ее почки перестали производить мочу.
Утром Арчер сделал еще одну эхокардиографию. Левый желудочек работал исправно, и митральный клапан выглядел хорошо. Вокруг сердца скопились жидкость и кровяные сгустки (это обычное явление на данном этапе), но состояние Софи оставалось стабильным сорок восемь часов, и ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. На следующий день ее перевели в одноместную палату подросткового отделения, которое называлось «Мелани». У нее все еще наблюдались скачки температуры, и мы связали их с системой комплемента, моим великим открытием, сделанным в Алабаме.
4 марта, 11:35. Срочный звонок из «Мелани». Через неделю после экстренной операции Софи внезапно потеряла сознание. К счастью, ее мать Фиона оказалась рядом. Девочка лежала на полу без пульса и дыхания, когда к ней подбежала бригада детских реаниматологов и начала делать непрямой массаж сердца. Анестезиолог стал вручную сжимать черный мешок, чтобы наполнить ее легкие кислородом. Внутривенная инъекция адреналина восстановила скромное кровяное давление, которого хватило на быструю эхокардиографию. Она показала, что перикард наполнен кровью. Маленькое сердце было зажато и не могло наполняться. Что еще хуже, в стенке сердца мышцу заменила дыра.
Утром в 06:30 в больнице не было детских кардиохирургов. Не было никаких дежурств: ни дневных, ни ночных. Если что-то случалось, на помощь мог прийти только я.
Полость абсцесса разорвалась прямо под восстановленным клапаном, поэтому мои самые худшие опасения оправдались. Резидент-кардиолог попытался откачать кровь с помощью иглы, но она быстро забилась. Затем сердце снова остановилось, и массаж пришлось повторить. Девушка-резидент позвонила мне и сообщила об этом. Я велел немедленно везти Софи в операционную, потому что, если бы я вскрыл ей грудную клетку в палате, она бы умерла. Я знал, чего ожидать, и мне требовалось незамедлительно подключить ее к аппарату искусственного кровообращения. Я прекрасно представлял, в чем проблема, и на этот раз боялся, что не смогу устранить ее. У меня было страшное предчувствие, что она не доживет даже до того момента, когда окажется на операционном столе. Я надеялся, что ошибаюсь, но не тешил себя иллюзиями.
Благодаря регулярным инъекциям адреналина и периодическому массажу сердца Софи все же оказалась в операционной, и ее привезли как раз в перерыве между плановыми операциями моего коллеги. Возможно, сам Бог ее сопровождал. Когда девочку положили на стол, я уже был готов и ждал. Мы торопливо разрезали швы на коже и надрезали проволоку, скрепляющую грудину, после чего я бесцеремонно вырвал ее и вставил ретрактор. Сердце находилось внутри кровяного сгустка, фиолетовой желеобразной массы, напоминавшей сырую печень. Мне пришлось достать его руками, чтобы сердце могло снова наполниться кровью и выбросить ее в тело. Из-за препаратов оно билось с бешеной скоростью, но внезапно свежая кровь хлынула откуда-то сзади и наполнила перикард. Мне нужно было посмотреть, откуда она течет. Я подозревал, что абсцесс под митральным клапаном разъел стенку желудочка, и сама мышца стала настолько мягкой, что не могла держать швы. Такой сценарий был настоящим кошмаром.
Эходатчик, который анестезиолог поместил в пищевод девочки, подтвердил мои худшие опасения. Из-за абсцесса стенка желудочка разорвалась прямо под важной огибающей ветвью коронарной артерии. Я никогда не видел подобного ни у одного из сотен пациентов с бактериальным эндокардитом и даже ни разу не читал о таком в хирургических журналах. Поэтому мне предстояло ориентироваться по ситуации. В одном, однако, я был уверен. Если бы во время первой операции я имплантировал искусственный клапан, вся хрупкая связка между левым предсердием и левым желудочком разрушилась бы, и восстановить ее было бы невозможно. Хоть бы восстановленный мной клапан не пострадал. Я понимал, что должен попытаться закрыть абсцесс снаружи сердца, ведь если бы я испортил то, что создал в прошлый раз, то никогда бы не смог это восстановить. Сложное наслоение человеческих и коровьих тканей оказалось единственным, что не давало этой части сердца Софи развалиться.
Я установил канюли и срочно подключил аппарат искусственного кровообращения. Мне предстояло опустошить сердце, прежде чем пытаться его приподнять. Затем я остановил его кардиоплегическим раствором, из-за чего оно стало вялым и холодным, как на прилавке в мясном магазине. Когда я поднял сердце на этот раз, выпуклость с задней стороны была очевидна. Бактериальные ферменты растворили мышечный белок, и антибиотики не смогли защитить мышцу от разжижения. В результате абсцесс увеличился. Я попросил большую иглу с нитью и попытался свести края здоровой мышцы.
Кровяные сгустки бывают довольно плотными, порой их можно спутать с каким-нибудь органом.
Я знал, где должна находиться огибающая ветвь коронарной артерии, но не видел ее в болоте воспаленных тканей. Игла прошла сквозь то, что я посчитал неинфицированной тканью по краям воспаления. Завязав узлы, я испугался, что нить разорвет ткани, и это приведет к страшным последствиям. На тот момент кровотечения не было, потому что сердце было пустым и давление внутри него отсутствовало. Выпуклость пропала. Когда я пустил кровь в сердце, оно начало извиваться, а затем сокращаться. Однако по электрокардиограмме я понял, что у нас большие проблемы. Вместо четких пиков были округлые холмы, которые свидетельствовали о недостаточном кровоснабжении сердечной мышцы, то есть ишемии миокарда. Я понял, что захватил важную коронарную артерию, когда накладывал швы. Мне в голову пришел целый ряд подходящих ругательств, но ради всех присутствующих я держал рот на замке. Софи не пережила бы неизбежный сердечный приступ. Мне требовалось распустить швы и начать все заново. Наступление в Арденнах, попытка номер два.
Мы ввели еще немного кардиоплегического раствора, а затем я взял сердце, осторожно снял швы и наложил их заново, но под другим углом. На этот раз я накладывал их подальше от того места, где, как предполагал, находилась коронарная артерия. Не будучи уверенным в «починке», от которой зависела жизнь девочки, я покрыл область биологическим клеем и сверху положил кусок кровоостанавливающей (гемостатической) губки, будто сделав заплату на брюках. После этого мы снова попробовали отключить аппарат искусственного кровообращения. На этот раз ЭКГ оказалась нормальной: заостренные пики Доломитовых Альп вместо холмов Брекон-Биконс. В желудочек снова поступала кровь. Теперь нужно было сделать так, чтобы заплата держалась. Я оставил записку с инструкцией: «Держите давление ниже 90 мм рт. ст. Софи должна спать семь дней, подключенная к аппарату ИВЛ. Мы не можем потерпеть еще одну катастрофу».
Когда грудную клетку снова закрыли, задняя поверхность сердца осталась сухой – кровотечения не было. Вся бригада испытала огромное облегчение, когда Софи вернулась в педиатрическое отделение интенсивной терапии. Несчастные родственники девочки все еще пребывали в шоке; они сидели в комнате ожидания, прижавшись друг к другу, не в силах больше мириться с неопределенностью. Я сообщил им, что абсцесс разрушил стенку сердца, что я никогда раньше не сталкивался с такой страшной проблемой и что мы сделали все возможное, чтобы помочь Софи. Обычная оборонительная чушь. Следующие двадцать четыре часа должны были стать решающими. Исход оставался неопределенным, но там, где есть жизнь, есть и надежда. Все это правда, но мои слова показались мне пустыми, когда я взглянул на три грустных лица. Родственники были слишком ошеломлены, чтобы задавать какие-либо вопросы, за исключением того, когда они смогут ее увидеть. Я тихо удалился и отключил свои эмоции.
Оставив грусть позади, я встретил в коридоре Арчера, который шел к Софи. Он сказал мне то же, что и обычно: «Молодец, Уэстаби».
Мне были приятны его слова, и позднее я узнал, что он вообще не ожидал увидеть девочку снова. У Арчера и врачей отделения интенсивной терапии началось ночное дежурство. Мне стоило зайти к своей пациентке и извиниться за отмену операции, но я этого не сделал. В тот момент я был не в настроении извиняться перед кем-либо. Я потерял счет времени, пока оперировал, а часы показывали уже девять вечера. Мне хотелось выпить пива и немного расслабиться. Как это часто случалось, я не мог спать, ожидая, что телефон вот-вот зазвонит. В итоге в 03:30 сам позвонил в отделение интенсивной терапии и спросил, как дела у Софи. Ее состояние было стабильным, но температура продолжала то подниматься, то падать, а моча до сих пор не вырабатывалась. Девочку активно охлаждали. Затем я услышал важные слова: «Кровотечения нет». И после них радостно погрузился в сон.
Моей пациентке было всего 15 лет и никакая операция по учебнику ее бы не спасла.
Менее чем через двенадцать часов мы с Софи снова оказались в операционной. Наступление в Арденнах, попытка номер три. В 13:30 дренажные трубки в груди быстро заполнились кровью, и кровяное давление рухнуло. Она истекала кровью. Я понимал, что нет никакого смысла вскрывать ее грудную клетку прямо в отделении интенсивной терапии, как меня просили сделать. Нужно было либо дать ей спокойно уйти (что было бы логичным вариантом), либо снова подключить к аппарату искусственного кровообращения и дать мне время подумать, что можно сделать.
Мои коллеги из отделения интенсивной терапии продолжали вливать ей донорскую кровь, и им удалось поднять давление приблизительно до 60 мм рт. ст. Затем мы повезли Софи на ее койке по коридору с огромной скоростью, пугая выпучивших глаза посетителей и оставляя за собой кровавый след. Если бы это происходило ночью, шанса на спасение бы не было. Мы с моей великолепной бригадой в очередной раз объединили усилия и доставили девочку в операционную, прежде чем она успела умереть от потери крови.
За несколько минут я вскрыл ее грудину. Грудь была наполнена свежей кровью, а кровяной сгусток сдавливал сердце. 0-отрицательная кровь все еще поступала через капельницу в вены на шее девочки, но через несколько минут мы в третий раз подключили ее к аппарату искусственного кровообращения, хоть и с чувством смирения. Мы думали: «Что же мы делаем?» Мы снова не дали ей упасть в пропасть, но сколько еще это могло продолжаться? Нам предстояло провести черту, но не сейчас. Альбер Камю писал: «Там, где нет надежды, мы обязаны ее изобрести». Беда заключалась в том, что Софи было всего пятнадцать.
Меня охватила решимость спасти ее, хотя операция по учебнику здесь бы не сработала. Мрачный Жнец перехитрил меня с моим традиционным подходом. Воспаленная сердечная мышца не могла восстановиться, пока левый желудочек непрерывно создавал давление и поддерживал циркуляцию крови, поскольку именно постоянные перепады давления внутри камеры приводили к ее разрыву. На этот раз у Софи началось кровотечение, когда действие седативных препаратов стало снижаться. Она начала приходить в сознание и испугалась, из-за чего кровяное давление подскочило. За этим последовал разрыв мышцы и тампонада сердца.
Ей требовалось новое сердце, но это было невозможно. Убитая горем мать с радостью отдала бы свое, но даже если бы у нас был донор в соседней операционной, никто не стал бы пересаживать сердце ребенку с инфекцией. То есть никто, кроме меня, но мы не смогли бы найти трансплантат за столь короткое время. Конечно, я мог приказать одному из студентов пожертвовать свое сердце… Вдруг среди паники и бредовых фантазий меня осенило. Единственным вариантом было опустошить левую половину сердца и так и оставить ее пустой. Это устранило бы давление изнутри камеры. Я мог использовать левожелудочковый аппарат вспомогательного кровообращения, чтобы откачать кровь из левого желудочка, поддержать кровообращение и дать поврежденной мышце отдохнуть, пока антибиотики борются с инфекцией. Это могло помочь сердцу восстановиться. Использовалась ли такая технология ранее? Нет. Но из-за этого мне еще сильнее захотелось ее испытать. Если бы этот способ вдруг оказался успешным, что маловероятно, я мог бы опубликовать об нем статью.
«Там, где нет надежды, мы обязаны ее изобрести».
Затем мне напомнили, что у нас больше нет насосов Levitronix, поскольку последний мы недавно применили на младенце. Насколько я знал, в нашем распоряжении больше не осталось спасательного оборудования, но в смерти пациентки обвинили бы только одного человека – меня. В системе «вины и стыда», в которой нам приходилось работать, ситуацию интерпретировали бы как смерть после восстановления митрального клапана. Оборудование, позволяющее спасать жизни, стоит дорого, в то время как смерть обходится дешево. Оглашайте статистику смертности, но не давайте никудышным хирургам оборудование, чтобы те могли выполнять свою работу. Остановитесь на секунду и задумайтесь о том, правильно ли это.
К счастью, перфузионист Брайан пришел мне на помощь. Он испытывал новый тип центробежного насоса для крови в одном из наших аппаратов искусственного кровообращения. Говорили, что он может непрерывно работать в течение трех недель, в отличие от традиционного перистальтического насоса, использовать который не следовало дольше трех часов. Я подумал, что трех недель должно хватить, чтобы воспалительные спайки и фиброзные рубцы успели закрыть отверстие. Мы должны были пойти на это, потому что других вариантов не осталось.
Пока бригада перфузионистов устанавливала оборудование, я в последний раз остановил сердце Софи и стал искать отверстие в стенке желудочка. К счастью, оно оказалось на краю печально известной выпуклости, вдалеке от той коронарной артерии. Нить снова разорвала размягченную мышцу, поэтому, используя больше стежков и больше дорогого клея для тканей, я скрепил заднюю поверхность сердца с фиброзным перикардом. Я применял все известные мне уловки, чтобы снизить риск еще одной катастрофы, потому что следующее кровотечение точно стало бы последним.
Насос Rotaflow был очень простым: увеличение скорости тока крови или, наоборот, ее снижение осуществлялось при помощи одной ручки. Я опустошил левый желудочек, откачав кровь из его верхушки через широкую канюлю с трубкой, соединенной с внешней цепью накачки, которая выходила из-под ребер Софи. По второй трубке насос возвращал кровь в аорту. Опасность кровотечения продолжала оставаться нашей самой большой проблемой. Из-за трех подключений к аппарату искусственного кровообращения за короткое время кровь Софи не сворачивалась, поэтому нам требовалось много донорских факторов свертываемости крови и еще больше переливаний крови. Перфузионист запустил центробежный насос на минимальной скорости, намереваясь постепенно перейти от одного аппарата экстракорпорального кровообращения к другому. На мониторах опять отражалось не пульсовое давление, а только среднее давление непрерывного тока крови. Поврежденный левый желудочек все еще сокращался, но не качал кровь, в то время как правый желудочек продолжал направлять кровь в легкие. Магия. Пока все шло хорошо. У нас снова появилась надежда.
Из-за проблем со свертываемостью крови и диффузного кровотечения я решил оставить грудную клетку Софи открытой на сорок восемь часов. Мы обложили сердце тампонами, прикрыли грудь клейкой пластиковой пленкой и вывели дренажные трубки вместе с канюлями аппарата. Торчащие отовсюду трубки были пугающим зрелищем для семьи, и на этот раз все это было слишком даже для педиатрического отделения интенсивной терапии. Мы отвезли Софи во взрослое отделение интенсивной терапии, где медсестры имели больше опыта работы с пациентами без пульса и где не было родителей других больных детей, которые могли прийти в ужас от такой картины.
Когда кровотечение замедлилось, состояние Софи стабилизировалось. Ее почки и печень пострадали, но диализ мог решить эту проблему. Фиона, мать Софи, сохраняла удивительное спокойствие, но несчастная сестра девочки пребывала в сильном шоке и уже несколько дней не ходила в школу. Через два дня мы удалили пропитанные кровью тампоны и закрыли грудную клетку поверх устройств, чтобы снизить риск инфекции. Теперь кровь сворачивалась, кровотечение прекратилось, и передняя поверхность сердца выглядела нормально. Я определенно не собирался осматривать заднюю. Насос работал исправно, и я намеревался оставить его еще как минимум на десять дней, чтобы дать месту абсцесса возможность затянуться. Тем временем мы узнали, что упрямый стафилококк оказался устойчив и ко второй комбинации антибиотиков, поэтому нам пришлось снова заменить лекарства. Наконец высокая температура спала.
Софи, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких, оставалась под действием сильных седативных препаратов в течение трех недель, что помогло нам держать кровяное давление под контролем. Следующей большой угрозой стал fungus candida. Впервые мы обнаружили его в мочевыводящих путях, где он мог оказаться опасным для жизни, если бы мы вовремя не взяли его под контроль. Так называемый период стабильности превратился в кошмар, и мы поняли, что настала пора начать двигаться вперед, чтобы сократить риск дальнейших осложнений. Насос прекрасно справлялся со своей работой, и пришло время позволить девочке проснуться.
Из-за кровотечения и проблем со свертываемостью крови я решил оставить грудную клетку пациентки открытой на 48 часов, прикрыв ее пластиковой пленкой.
После отмены седативных препаратов Софи быстро пришла в сознание и отреагировала на своих родителей. После ее пробуждения кровяное давление повысилось, но мы могли его контролировать, и кровотечение не открывалось. Бедная девочка явно была напугана своим положениям, и я подозревал, что ее мозг был поврежден. Мы пытались объяснить ей, почему из ее живота выходят трубки, полные бегущей крови; мы уверяли ее, что теперь она в безопасности и что скоро все это уберут. Вскоре медсестры заметили, что она не двигала левой ногой и рукой: они были парализованы и не реагировали на боль. Либо инфицированный детрит, либо кровяной сгусток попали в сонную артерию и добралисть по ней к мозгу. Ее парализовало в пятнадцать. Чем она это заслужила?
Это стало большим ударом для ее родителей, но за «наступление в Арденнах» ответственность лежала на мне. Почему я так хотел выполнять эту работу день за днем, ночь за ночью? Здоровое сердце и поврежденный мозг были не тем результатом, к которому я стремился.
На следующий день я забрал Софи в операционную, чтобы удалить канюли из левого желудочка и аорты. К счастью, ни в центробежном насосе, ни в других частях аппарата кровяных сгустков не оказалось, и сердце Софи отлично выглядело на эхокардиограмме, за исключением остаточного кратера под митральным клапаном. Поразительно, но даже после операций и непрямого массажа сердца восстановленный клапан держался и нормально функционировал. Я хорошенько промыл грудную полость и перикард антисептическим раствором, стараясь не затрагивать заднюю сторону сердца. Затем мы в последний раз зашили грудную клетку. Это был конец хирургического марафона, заключительный этап долгой и кровавой битвы. Нам удалось сохранить ей жизнь, но какой ценой?
Мозг обладает гораздо большей способностью к самовосстановлению, чем думает большинство людей, и часто он приходит в норму после инсульта, особенно у молодых пациентов.
Следовало оставаться позитивными ради родственников Софи, которые пребывали в шоке. Мать Фиона стала свидетельницей всех трех попыток реанимации, во время каждой из которых она не знала, куда отправится Софи из операционной: обратно в отделение интенсивной терапии в своем белом больничном халате или в морг в саване. Пока счет был таким: Уэстаби – 3, Мрачный Жнец – 0. Помог ли опыт добиться таких результатов? Никаких прецедентов не было. Этот случай был уникален.
По моему мнению, нам следовало сделать две вещи. Во-первых, продолжить снижать кровяное давление, в то время как сердце Софи самостоятельно поддерживало кровообращение. Во-вторых, хорошо снабжать ее мозг кислородом, чтобы свести к минимуму мозговые повреждения. Мозг обладает гораздо большей способностью к самовосстановлению, чем думает большинство людей, и он очень часто приходит в норму после инсульта, особенно у молодых пациентов. Эти позитивные слова важно было услышать как медсестрам, так и семье девочки. Они все надеялись, что она не останется прикованной к постели до конца жизни.
Рассмотрев разные варианты, я решил подстраховаться и настоял на том, чтобы Софи еще две недели проспала на аппарате искусственной вентиляции легких. Мы отвезли ее на томографию головного мозга только тогда, когда я посчитал, что это не принесет вреда. Тем временем у девочки по-прежнему не вырабатывалась моча, и ей требовался постоянный диализ. Почкам не нравится сепсис и низкое кровяное давление, но они всегда восстанавливаются. Когда Софи отключили от аппаратуры, ее снова перевели в педиатрическое отделение интенсивной терапии. Оно было меньше взрослого, там работали всегда одни и те же медсестры, а ночи проходили куда спокойнее.
Томография мозга Софи показала несколько небольших очагов повреждений, вокруг которых был отек. Они, вероятно, стали результатом эмболизации[46] инфицированными фрагментами ткани сердца, и нам было важно не допустить их перерождения в абсцессы. Софи еще шесть недель предстояло получать внутривенные вливания антибиотиков, что является обычной практикой при эндокардите. Я был точно уверен, что отек вокруг поврежденных областей спадет. Останется ли Софи парализованной? Мы получили стандартный ответ от неврологов: они надеялись, что нет, но это покажет время.
Первого апреля, в День дурака, Софи наконец-то перестали вводить седативные препараты, и она быстро проснулась. Она достаточно хорошо дышала и реагировала на слова окружающих, поэтому мы удалили трубку из ее горла и приподняли спинку кровати. Мама и папа сидели по бокам от девочки и держали ее за руки. Когда отец сжал ее левую руку, она ответила слабым, но различимым движением. Однако у нее определенно были проблемы с подбором слов и формулированием предложений. Судя по результатам томографии, этого следовало ожидать, поскольку в речевом центре был маленький дефект, но в стратегически важном месте. В конце тоннеля показался свет. Ее попытки общаться наконец стали явными, и моя работа была выполнена.
Восстановление мозга всегда проходит медленно. Софи требовалась помощь медсестер, физиотерапевтов, трудотерапевтов и многих других медицинских работников. Все они делали все возможное, чтобы помочь ей.
В последующие месяцы паралич постепенно отступил, а речь улучшилась. Софи вернулась в школу, а затем поступила в колледж: ее интеллект не пострадал. Несмотря ни на что, Софи выжила. Даже я не понимаю, как нам удалось добиться успеха в те тяжелые недели. Подозреваю, что нам помог Бог. А еще тот аппарат, предоставленный на тестирование. Опять мы имели дело со здравоохранением, основанным на благотворительности.
Мать девочки стала свидетельницей всех трех попыток реанимации, и во время каждой она не знала, куда отправится Софи потом: обратно в отделение интенсивной терапии или в морг.
Я написал статью о технике спасения пациента путем опорожнения поврежденного левого желудочка с помощью аппарата вспомогательного кровообращения, которую опубликовали в американском журнале. Теперь и другие могли использовать этот метод в крайних случаях. История Софи иллюстрирует важность командной работы в больнице и победу надежды над страданиями. Множество сотрудников больницы оставались на работе сверхурочно, пытаясь спасти Софи. Смешно, но наши усилия подвергались сомнениям на каждом этапе, и они дорого обошлись больнице. Но для чего еще нужно здравоохранение? Вот уже десять лет мы общаемся с Софи и ее семьей неформально. На десятую годовщину «наступления в Арденнах» мы ужинали в Леди-Маргарет-Холл, колледже Фионы, вместе с выдающимся нейрохирургом и писателем Генри Маршем. Кардиохирурги и нейрохирурги совсем не похожи, но в одном мы единодушны: жизнь драгоценна. Было здорово видеть оживленную Софи в таком утонченном академическом окружении.
10
Сопротивление
23 октября 2009
Форма информированного согласия на оказание медицинских услуг 2Родительское разрешение на обследование или лечение ребенка/подростка
Лечебное учреждение: Больница Джона Рэдклиффа, Оксфорд.
Имя пациента: Оливер Уолкер.
Дата рождения: 11 февраля 2003 г.
Название предложенной процедуры или курса лечения: операция на трехпредсердном сердце – процедура спасения.
Врачебное заключениеПредполагаемая польза: сохранение жизни; без операции смерть неизбежна.
Серьезные или распространенные риски: риск смерти не менее 30 %, кровотечение, последствия подключения к аппарату искусственного кровообращения, необходимость повторной операции.
Другие процедуры: переливание крови, эхокардиография.
Я передал форму Ричарду, дрожащему от страха отцу Оливера. У матери мальчика, Ники, уже произошел нервный срыв. Она наблюдала, как сын умирает от редкого врожденного сердечного заболевания, которое медики не могли диагностировать целых шесть лет. Не в высокогорьях Шотландии, не в отдаленном западном Уэльсе и даже не в Сканторпе, а в центральном Лондоне. Мне легко критиковать, ведь я никогда не ставил диагнозы: за меня это делают кардиологи, а я лишь устраняю проблему. Однако одно я уяснил точно: всегда нужно прислушиваться к матери, ведь никто не знает ребенка лучше. Если мать настаивает, что что-то не так, можно не сомневаться – это правда.
Ники пришлось долго и упорно убеждать врачей. Теперь, годы спустя, самоуверенный хирург, только что прибывший из аэропорта Хитроу, вез ее сына по коридору в операционную так быстро, как это позволяли койка, аппарат искусственной вентиляции легких, капельницы и дренажные трубки. Мы были близки к тому, чтобы потерять его из-за дефекта, с которым он родился: конгенитального заболевания сердца.
Оливер родился в больнице Сент-Мэри в Паддингтоне, одном из лучших лондонских лечебных учреждений. Он появился на свет в том же родильном отделении, где предпочитают рожать члены королевской семьи. Роды прошли нормально, но шумно, и Оливер поначалу был розовым и крепким. Его сердце билось чуть быстрее нормы, но после шока от прохождения через склизкую кроличью нору в холодный мир это считалось допустимым. Ники говорила, что он плохо ел по сравнению с ее вторым сыном: во время сосания груди он задыхался и нервничал. Оливер не был «синим» младенцем, просто грудная клетка была его слабым местом. Из-за его проблем с дыханием семья регулярно ездила в Сент-Мэри, как на футбольный стадион, выкупив билеты на весь сезон. Казалось, что любой кашель или простуда представляют угрозу его жизни.
В итоге Ричард и Ники стали чувствовать себя неловко: в отделении неотложной помощи они стали слишком частыми посетителями. Тем не менее больница Сент-Мэри считалась первоклассной, а эта семья действительно была глубоко обеспокоена состоянием своего ребенка. Ники боялась, что ее примут за мать-невротичку, которая не справляется со своими обязанностями, потому что их регулярно отправляли домой из больницы со словами, что с мальчиком все в порядке. Обеспокоенные, они постоянно приезжали в больницу, где ребенка обследовали и пытались взять у него кровь на анализ; ему так часто делали рентгеноскопию, что удивительно, как он еще не начал светиться в темноте. В разных случаях у него подозревали разные заболевания легких: бронхиолит, муковисцидоз и пневмонию. Безусловно, было слышно, что маленькие легкие работают неисправно, но ни один из диагнозов не подтверждался. Врачи предположили желудочную грыжу с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью[47] и вдыханием содержимого желудка. Этот диагноз тоже не подтвердился. У ребенка ничего не могли найти, хотя у него были постоянные проблемы с дыханием.
У Оливера был брат на два года младше. Оливер очень огорчался, что не успевает за ним. Дорога пешком до детского сада занимала двадцать минут, и четырехлетний ребенок должен был преодолевать ее спокойно, однако двухлетний Чарли часто вылезал из своей коляски и шел пешком, а «ленивый» Оливер садился в нее и ехал. Все понимали, что это ненормально, но у врачей не находилось ответа. Что является причиной удушья при малейшей нагрузке, медленного развития и постоянной нехватки энергии? Этот мальчик не мог играть в футбол с друзьями и гулять в парке. На детских праздниках он с удрученным видом сидел в углу. Все это разбивало Ники сердце. Однако, сколько бы ни отворачивались от нее медики, мать не сдавалась, и меня это по-настоящему восхищало.
Всегда нужно прислушиваться к матери, ведь никто не знает ребенка лучше. Если мать настаивает, что что-то не так, можно не сомневаться: это правда.
В итоге Оливера направили в больницу Роял-Бромптон к специалистам по органам грудной клетки. Оттуда обращаться было уже некуда. В Национальном институте сердца и легких сказали, что вызывать подобные симптомы могли либо легкие, либо сердце. Однако легкие были в норме, а сердце, судя по рентгеновским снимкам, не было увеличено. У мальчика не нашли никаких привычных предпосылок к развитию детской сердечной недостаточности. Им в очередной раз показали от ворот поворот, несмотря на всемирную известность больницы.
Что является причиной удушья при малейшей нагрузке, медленного развития и постоянной нехватки энергии?
Вскоре Ники снова начала звонить по телефону и умолять спасти жизнь ее мальчику. Врачи наверняка что-то упустили. Оливер не мог ни бегать, ни играть с другими детьми в школе. Учителя и другие родители это замечали. Конечно, он выглядел нормально, когда сидел перед врачом, но это оказалось единственным, что он вообще мог делать. Просто сидеть. Врачи из Бромптона решили посмотреть, как он бегает по коридорам, а затем измерить пульс. Мальчик не справился с таким простым упражнением, и всего после нескольких шагов его пульс участился до предела. Настолько явная непереносимость физических нагрузок определенно указывала на то, что с ребенком не все в порядке.
Теперь врачам пришлось заглянуть внутрь сердца. В стетоскоп клапаны звучали нормально, но, возможно, чуть тише, чем следовало: лаб – митральный клапан закрылся; даб – аортальный клапан закрылся, однако сердечный ритм был настолько быстрым, что обнаружить шум было невозможно. Это произошло в пятницу. Обеспокоенные врачи попросили Ники привезти Оливера в понедельник на эхокардиографию. Процедура позволяла подробно ознакомиться с анатомией сердца и в сочетании с электрокардиографией могла выявить проблемы с сердечным ритмом. Поскольку клапаны звучали нормально и левый желудочек на рентгеновском снимке выглядел маленьким, Ники надеялась, что у ее сына не обнаружат ничего серьезного. Она договорилась пообедать с сестрой в Челси, чтобы порадовать сына.
Оливер успел привыкнуть к больницам. Кроме того, его убедили, что игл на этот раз не будет – только липкое желе на груди и гладкий датчик, которым будут водить из стороны в сторону. Он совершенно неподвижно лежал на кушетке, пока молодая эхокардиографистка наблюдала за изображениями на экране и весело болтала с Ники. Обстановка была расслабленной и вполне обычной, пока девушка не перестала водить датчиком и не затихла. Ее взгляд остановился в одной точке. Всего за мгновение выражение ее лица превратилось из беззаботного в ошеломленное.
«Что случилось?» – спросила обеспокоенная Ники, но ответа не последовало.