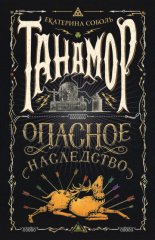Острие скальпеля. Истории, раскрывающие сердце и разум кардиохирурга Уэстаби Стивен

В сентябре 1966 года (в день начала моего обучения в медицинской школе в Лондоне) Кирклин ушел из клиники Майо и уехал в Бирмингем, Алабама. Когда я прибыл туда пятнадцать лет спустя, Алабамский университет уже стал магнитом для амбициозных молодых хирургов со всего мира. Другие центры вроде Техасского института сердца и Кливлендской клиники имели больший поток пациентов, но они не могли конкурировать с группой Кирклина в отношении научной работы и академических достижений. Моя задача состояла в том, чтобы накопить побольше знаний и энергии и привезти их обратно в Национальную службу здравоохранения. Если бы я не смог сделать себе имя в этом окружении, мне можно было собирать чемоданы и ехать домой.
Те, кто уже работал с Кирклином, описывали его как аскетичного и требовательного человека, который стремился добиться совершенства в каждом аспекте своей профессии. Он имел сложный и даже пугающий характер, но при этом окружил себя превосходной бригадой. «Не строй иллюзий, – говорили мне. – Кирклин – босс. Если ты его разозлишь, то вылетишь через час». Он обладал огромной властью не только в Медицинской школе Алабамского университета, но и во всей области американской кардиохирургии. На это имелись веские причины, и профессор Бенталл был абсолютно прав: там я был полностью лишен свободы действий. Впервые в моей карьере приходилось подчиняться, хоть это и шло вразрез с моими инстинктами.
Наследие Кирклина состоит в проведении в клинике Майо успешных операций на открытом сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения. Изначально эту цель преследовал молодой хирург из Филадельфии по имени Джон Гиббон. Гиббона задела за живое смерть молодой матери, наступившая из-за легочного эмбола (сгустка крови в легочной артерии). Он разработал искусственное легкое, которое работало одновременно с качающим кровь насосом. Такой аппарат мог спасти женщине жизнь, дав хирургам возможность удалить эмбол. Его сложная система трубок с газообменным механизмом в итоге превратилась в аппарат искусственного кровообращения, который позволял остановить сердце, вскрыть его и «отремонтировать».
По мере совершенствования хирургических методов операции на сердце становились все более продолжительными и сложными, но гораздо менее опасными.
И все же не Гиббон получил всеобщее признание за разработку надежной хирургической техники. Первый ребенок, которого он прооперировал, умер из-за неверно поставленного диагноза, но вскоре, 6 мая 1953 года, состоялся прорыв, которого ждал весь мир. Гиббон прооперировал восемнадцатилетнюю девушку, успешно устранив дефект межпредсердной перегородки, но когда он попробовал повторить операцию на двух пятилетних девочках, они обе умерли. Неудача сломила Гиббона. Предавшись отчаянию и разочаровавшись в себе, он перестал верить в значимость той успешной операции. Ему не хватило стойкости духа, чтобы оправиться после смерти девочек, и он не обладал качествами, необходимыми для кардиохирурга. В этой профессии нет места неуверенности, скромности и сомнениям в своих силах.
В противоположность Гиббону Кирклин был уверен, что аппарат искусственного кровообращения позволит устранять более сложные пороки сердца, поэтому принялся за создание «модифицированного аппарата Гиббона» в лаборатории клиники Майо. Во время своей первой операции с использованием аппарата искусственного кровообращения в марте 1955 года Кирклин устранил дефект межжелудочковой перегородки ребенка. Пациент выжил. На этот момент многие критики Кирклина из клиники Майо не впечатлились его лабораторными и клиническими достижениями. Американская кардиологическая ассоциация и Национальные институты здравоохранения перестали финансировать дальнейшие проекты, касавшиеся аппаратов искусственного кровообращения. Считалось, что проблемы, возникавшие при соприкосновении крови с инородными поверхностями, непреодолимы.
Весной 1954 года прогремела новость о том, что Уолтон Лиллехай соединил кровеносные сосуды младенца с сосудами его отца, чтобы иметь возможность устранить отверстие в сердце ребенка. После этого критики Кирклина заявили, что слишком много усилий и средств было потрачено впустую. Однако они ошибались. Когда усовершенствованный Кирклином аппарат искусственного кровообращения стал использоваться в операционной, двадцать четыре из сорока первых пациентов, которым сделали операцию на открытом сердце, выжили.
Кирклин, несомненно, добился успеха благодаря упорству и научному подходу. Даже когда я работал с ним, каждая операция сначала записывалась, а затем подвергалась тщательному анализу. Полученная информация использовалась для того, чтобы принимать сложные решения относительно других пациентов. Кирклин писал:
«Академическая хирургия – это слияние клинической хирургии, исследовательской деятельности, преподавания и управления. Те, кто освоил только один из этих компонентов, не могут понять целое».
Он внушил этот принцип нам, стажерам, и те, кто не стремился следовать ему, считали Кирклина страшным человеком.
С распространением аппаратов искусственного кровообращения стало ясно, что контакт крови с синтетическими материалами устройства вызывал псевдоаллергическую реакцию, называемую постперфузионным синдромом. С этой опасной проблемой, способной привести к летальному исходу, никогда не сталкивались пациенты Лиллехая, потому что во время перекрестного кровообращения кровь оставалась внутри биологической цепи. У некоторых пациентов, перенесших подключение к аппарату искусственного кровообращения, в течение нескольких дней держалась высокая температура, которая часто сопровождалась накоплением жидкости внутри легких, кровотечениями и почечной недостаточностью. Хотя этот синдром был не так опасен для взрослых, многим более уязвимым пациентам, включая маленьких детей, тяжелобольных и пожилых, для выживания требовалось длительное пребывание на аппарате искусственной вентиляции легких, переливания крови или диализ. Чем больше времени пациент пребывал подключенным к аппарату искусственного кровообращения, тем выше становилась вероятность осложнений. Иногда осложнения приводили к смерти пациента, несмотря на успешное устранение сердечного дефекта, что всегда было большим разочарованием для хирургов.
Раньше при использовании аппаратов искусственного кровообращения контакт крови с синтетическими материалами вызывал серьезную псевдоаллергическую реакцию.
В то время аппарат искусственного кровообращения состоял из пластиковых трубок, простого перистальтического насоса, сложного оксигенатора[29], резервуара для крови, а также системы отсасывания. Все это заправлялось двумя литрами антикоагулированной крови, содержавшей химический цитрат. Считалось, что несовместимость групп крови и биохимические нарушения, вызванные препаратами, являются причиной постперфузионного синдрома, однако проблема оставалась даже в тех случаях, когда кровь заменяли другими заправочными жидкостями вроде декстрозы или солевого раствора. Затем в схему включили теплообменник, чтобы иметь возможность охлаждать все тело. Охлаждение позволяло снизить скорость потока внутри аппарата, что, по мнению многих, препятствовало повреждению крови. Однако даже это не избавило пациентов от жара, кровотечений и проблем с легкими и почками.
В первый день в Алабаме я слонялся по больничным коридорам абсолютно потерянный. Когда я впервые увидел того самого выдающегося человека, он был окружен группой студентов с мрачными лицами. Кирклину было шестьдесят четыре, и я сразу узнал его по фотографиям, которые видел в журналах по кардиохирургии. Он был худощавым седовласым мужчиной, ростом около 175 сантиметров, но именно тяжелые очки в темной оправе делали его узнаваемым. Одет он был в накрахмаленный белый лабораторный халат с вышитой на нем фамилией, хотя в тот момент я находился слишком далеко, чтобы ее прочитать. Я видел лишь лицо, которое выглядело мрачнее тучи. Он был зол, а его студенты казались встревоженными и удрученными. Неужели умер кто-то из его пациентов? Нет. Просто бригада, дежурившая ночью, не сообщила ему о важном осложнении. Инсульте.
Жизнь у тех ребят была несладкой. Каждый резидент дежурил через ночь и считал удачей уйти из больницы раньше 19:00 следующего дня. Я понял, как важно тщательно побриться перед утренней встречей с боссом. Он не терпел неряшливости и усталости, хотя резиденты были постоянно измождены. Это было неотъемлемой частью обучения.
Подойдя к группе поближе, я услышал разговор. Кирклин хотел знать, почему новый резидент дал пациенту определенный препарат для замедления ускоренного сердечного ритма. Недавно присоединившийся к группе молодой человек не успел ознакомиться со строго регламентированными протоколами его босса по послеоперационному уходу. В ответ на натиск он ответил, что звонил Кирклину прошлой ночью и что тот сам велел ему дать этот препарат.
– Я такого не помню, – сказал Кирклин, выпуская пар из ушей. – Должно быть, я спал. Никогда не выполняйте распоряжения, которые я отдаю во сне.
Когда я прошел мимо группы, босс закончил свою тираду и собрался покинуть дрожащих резидентов. Наши глаза встретились, и я замер от его ледяного взгляда.
– Вы ведь Уэстаби? Я видел вашу фотографию. Я ждал вас на прошлой неделе.
Это была тестовая реплика, нацеленная на то, чтобы сразу поставить меня в неловкое положение. Я просто ответил со своим лучшим английским акцентом:
– Нет, сэр. На прошлой неделе было Рождество.
Старший резидент, стоявший у него за спиной, закатил глаза, ожидая бури. Но вместо этого широкая улыбка озарила усталые глаза Кирклина, которые сморщились за очками в роговой оправе. Англичанин возразил живой легенде и заработал тачдаун.
– Мне говорили, что у вас сложный характер, – сказал он. – Бенталл отправил вас в коррекционную школу. Пойдемте в мой кабинет.
Юджин Джин Блэкстоун ждал его там. В университете Блэкстоун обучался хирургии, но затем целиком посвятил себя исследованиям сердечно-сосудистой системы. Его задача заключалась в том, чтобы анализировать данные, получаемые из отделения, делать выводы и использовать полученные результаты для формирования повседневной клинической практики. Некоторые называли Блэкстоуна «вспомогательным мозгом Кирклина», и даже сам Кирклин считал его гением. Моя невысокая должность называлась «иностранный научный сотрудник». Нас таких было несколько человек, и мы находились на нижней ступени неофициальной иерархии. Мы были лабораторными крысами, которые помогали в операционной. Но в этом не было ничего плохого. Само пребывание там считалось привилегией. В той среде каждому приходилось начинать с первой ступени, и мы все надеялись попасть в какой-нибудь масштабный исследовательский проект, который позволил бы нам публиковать важные статьи и видеть свои фамилии рядом с фамилией мастера Кирклина и волшебника Блэкстоуна. Мы все считали это залогом успеха в родной стране.
Первые аппараты искусственного кровообращения состояли из пластиковых трубок, простого насоса, сложного оксигенатора, резервуара для крови и системы отсасывания.
Кирклин попросил меня рассказать о себе. Видимо, в моей характеристике промелькнула фраза «технически выдающийся хирург, но работать с ним – настоящий кошмар». Хотя я был вполне доволен таким описанием, Кирклин удивился, чем я заслужил вторую часть характеристики. Был ли я самонадеянным типом из какой-нибудь частной школы вроде Итона или Хэрроу (Harrow School)? Я поспешил вывести его из заблуждения и рассказал о своем детстве в северном английском городке, похожем на Бирмингем в Алабаме. Я упомянул о том, что мой дед умер от сердечной недостаточности, потому что в то время никто не мог ему помочь, и о том, что я работал на металлургическом заводе и санитаром в больнице, чтобы обеспечивать себя во время учебы в медицинской школе. В своем трудном характере я винил травму головы. Кирклин, который был большим любителем американского футбола, заинтересовался. Он удивился тому, что регби не менее жесткий вид спорта, но при этом игроки не носят шлемы.
Мне было приятно, что я завладел их вниманием на целых двадцать минут. Шел оживленный разговор, и я неоднократно их смешил. Эта импровизированная встреча казалась мне равноценной выигрышу в лотерею. Список новых проектов на год был уже составлен, но формальное собрание по распределению исследовательской работы должно было состояться позднее на той же неделе.
Когда резиденты жаловались на недосып из-за долгих ночей в отделении реанимации – их быстро заменяли опытными медсестрами.
Пока Кирклин отошел к секретарю, Блэкстоун обратился ко мне. «Я ознакомился с вашим резюме, – сказал он. – У вас есть биохимическое образование. Думаю, вы можете нам кое с чем помочь».
Утомленный сменой часовых поясов, я улыбнулся ему в ответ, но мое настроение упало. Я не хотел заниматься дурацкой биохимией. Я приехал, чтобы оперировать и показать им, чего я стою. Поэтому я ничего не ответил.
Затем вернулся Кирклин. «Я хочу, чтобы вы работали с моим сыном над одним проектом, – сказал он. – Джим недавно вернулся из Бостона и присоединился к нам в качестве старшего резидента».
Я слушал внимательно. Если босс хотел, чтобы в проекте участвовал его сын, это означало, что проект важный. Прежде чем направиться из кабинета в операционную, Кирклин сказал: «Присоединяйтесь ко мне, после того как Джин вам все объяснит».
Меня приняли в бригаду. Больше никаких выходок. Я понимал, что отныне мне это с рук не сойдет. Я должен был стать командным игроком, а не примадонной.
График работы в отделении был тяжелым. Резиденты начинали обход в 05:00, а ровно в 06:00 звонили Кирклину с отчетом. Стоило позвонить минутой ранее – он бросал трубку, а минутой позже – он устраивал разнос по приезде в больницу. Операции начинались после завтрака, в 07:00, и продолжались до позднего вечера. Заболеваемость и смерть пациентов считались просто недопустимыми, особенно по причине человеческой ошибки. Затем наступал черед вечернего обхода. Академические собрания с участием всех сотрудников отделения, на которых обсуждались продвижения в исследовательской деятельности, проводились в 08:00 в среду и субботу. Тематические презентации и обзоры журнальных статей должны были быть безупречными. В 07:00 по воскресеньям Кирклин и Блэкстоун проводили академические бизнес-встречи, на которых обсуждался прогресс в различных исследованиях и утверждались финальные варианты статей для публикации. Днем в воскресенье Кирклин обычно занимался верховой ездой, а Блэкстоун ходил в церковь.
Когда резиденты по глупости осмеливались жаловаться на недосып из-за долгих ночей в отделении интенсивной терапии, Кирклин быстро заменял их опытными медсестрами. Научные сотрудники вроде меня должны были чередовать лабораторные исследования с проведением операций. Для публикации исследовательских статей требовалось следить за всеми пациентами, что подразумевало звонки в офисы коронеров, тюрьмы и посольства иностранных государств. Одному моему коллеге потребовалось два года на наблюдение за пятью тысячами пациентов, перенесшими коронарное шунтирование, чтобы опубликовать всего одну статью. Такова была профессиональная этика Кирклина.
Система, к которой мне пришлось адаптироваться, была основана на совершенстве: лучшие результаты, максимально низкий уровень смертности. В середине 1960-х годов смертность «синих» младенцев с пороком под названием «тетрада Фалло» превышала 50 %. К 1980 году в Бирмингеме она упала до 8 %. В 1981 году строгие протоколы Кирклина и до мелочей продуманные операции означали, что любая смерть равна катастрофе. Дети уже не умирали из-за технических ошибок, а опасные для жизни осложнения возникали в основном из-за подключения к аппарату искусственного кровообращения. Борьба с постперфузионным синдромом велась не прекращаясь, и настало время найти причину его возникновения. В этом состояла цель моего исследования. У меня было подходящее образование, чтобы копнуть глубже и обнаружить биохимические триггеры этих разрушительных симптомов. Нужное место, нужное время, нужный проект.
Что уже было известно? Несомненно, именно контакт крови пациента с мириадами пластиковых и металлических поверхностей внутри аппарата искусственного кровообращения провоцировал реакцию. Большинство тканей тела оказывались поражены, и полноценный постперфузионный синдром всегда сопровождался высокой температурой, державшейся два–три дня, и повышением уровня лейкоцитов. Такими же были симптомы инфекции, передаваемой через кровь, или сепсиса. Моя гипотеза состояла в том, что мы имеем дело с воспалительной реакцией во всем теле, а не местным воспалением, которое возникает, например, при пневмонии, аппендиците или фурункуле.
Одному моему коллеге потребовалось два года для наблюдения за 5000 пациентов, перенесших коронарное шунтирование, чтобы опубликовать всего одну статью.
Когда синдром приводил к смерти пациента, вскрытие часто подтверждало предположение о воспалении во всем теле. Как в случае с инфицированным порезом, жидкость протекала в ткани, вызывая их отек. Отек легких становился причиной затрудненного дыхания, низкого уровня кислорода в крови и иногда кровотечения в бронхах. Отек мозга вызывал так называемый постперфузионный делирий, при котором пациента, возбужденного и не осознающего, что происходит, было сложно контролировать. Ухудшение работы почек также приводило к накоплению в теле еще большего объема жидкости. Обычно этот синдром сам проходил в течение недели, но более уязвимые пациенты нередко умирали от него.
Чтобы научиться бороться с данным синдромом, требовалось узнать его причину. Джин Блэкстоун дал мне понять, что в поддержку проекта выделили значительные средства и что я должен прийти к результату. Как новый старший резидент, Джим Кирклин помогал мне с изучением пациентов, и у меня даже были ассистенты в виде лабораторных техников. Мне дали все возможности изменить кардиохирургию.
Свою детективную работу я начал с поглощения литературы о воспалительных реакциях. Что именно побуждало лейкоциты объединяться и атаковать бактерии или инородные тела вроде заноз под кожей? Почему инфицированные ткани накапливали жидкость? Последовав совету Блэкстоуна, я прочитал о том, что пациенты на гемодиализе часто имели проблемы с легкими. У аппаратов диализа и искусственного кровообращения было нечто общее: пластиковые трубки и синтетические мембраны, с которыми кровь вступала в прямой контакт. Аппарат диализа удалял токсические продукты обмена веществ, а аппарат искусственного кровообращения выполнял газообменную функцию, но материалы поверхностей, с которыми соприкасалась кровь, у них были одинаковы.
Исследователи и нефрологи из Миннесотского университета уже пришли к некоторым выводам. Они обнаружили, что присутствующая в крови малоизвестная белковая цепь, называемая системой комплемента, активизируется во время контакта с мембраной аппарата диализа и что токсины, вырабатываемые во время реакции, заставляют лейкоциты прикрепляться к выстилающему слою легочных кровеносных сосудов. Более того, специалисты из Научно-исследовательского института Скриппса (Scripps Research Institute) в Сан-Диего разработали химический анализ, позволяющий измерить содержание токсинов в крови. Узнав обо всем этом, я пришел в такое возбуждение, что прямиком из библиотеки побежал в кабинет Блэкстоуна, чтобы рассказать ему о направлении моего исследования.
Что именно побуждает лейкоциты объединяться и атаковать бактерии или инородные тела вроде заноз под кожей?
Слегка посмеявшись над эксцентричным молодым англичанином, Джин покрутился в кресле и ответил с явным южным акцентом: «А я гадал, сколько вам потребуется времени, чтобы найти эту статью. Позвоните в Скриппс и спросите, возьмут ли они наши образцы крови. Затем возвращайтесь ко мне со своим протоколом. Хорошего дня!»
Я предложил взять серию образцов крови как у тех пациентов Кирклина, кто перенес операцию с подключением к аппарату искусственного кровообращения, так и у тех, кого к нему не подключали. Затем нам требовалось точно определить тяжесть постперфузионного синдрома, оценив функцию легких и почек, а также свертываемость крови в восстановительный период. Цель состояла в том, чтобы определить наличие связи между уровнем токсинов в крови и степенью послеоперационной органной дисфункции у пациента.
Для меня это был очень важный проект, потому что я мог целый день проводить в операционной, наблюдая или ассистируя. Кроме того, я больше узнал об интенсивной терапии, пока ночами брал кровь на анализ. Мне хотелось находиться именно в этих местах, а не торчать в скучной лаборатории, занимаясь мытьем пробирок (с меня хватило, когда мы готовились отправлять образцы крови в Калифорнию). Когда я набрался смелости и сказал Кирклину, что хочу самостоятельно оперировать, а не просто наблюдать, мне предоставили еще одного ассистента. Это была награда за то, что я оставался в больнице круглосуточно и приносил не так много проблем, как предсказывал Бенталл.
Назначение Джека на работу со мной открыло мне новые возможности и позволило разработать план. Если виной всему было взаимодействие крови с инородными поверхностями, то следовало определить, какие из множества синтетических материалов вызывали проблемы и играла ли какую-то роль температура внутри самого аппарата. Снова сойдя с выбранного пути, я организовал собственную маленькую биохимическую лабораторию и с помощью Джека утащил дорогие аппараты искусственного кровообращения из кладовой перфузиониста. Мы разбили различные полимеры и пластиковые трубки на достаточно маленькие кусочки, чтобы они могли поместиться в пробирку, а затем залили их свежей человеческой кровью. Мы заплатили студентам, чтобы они сдали для нас немного крови, – в то время это не было проблемой.
В итоге я получил 116 образцов крови как от пациентов, перенесших подключение к аппарату искусственного кровообращения, так и от тех, кому проводили шунтирование или восстановление сосудов без использования аппарата. Ни в одном образце крови людей, которых не подключали к аппарату, не наблюдалось повышения уровня токсинов, следовательно, ни анестезия, ни сама операция не провоцировали значительной воспалительной реакции. Теперь самое интересное: у всех пациентов, которых подключали к аппарату искусственного кровообращения, зашкаливал уровень токсинов в крови, причем чем дольше человек оставался подключенным к аппарату, тем выше было содержание токсинов. Более того, чем выше был уровень токсинов в крови, тем больше была вероятность возникновения проблем с легкими, почками или мозгом. Даже послеоперационная сердечная недостаточность имела отношение к высокому уровню токсинов. Одиннадцать пациентов из этой группы умерли, и мы установили тесную связь между повышенным содержанием токсинов и риском смерти.
За время исследования мы получили огромный объем информации. Джину Блэкстоуну понадобилось несколько недель, чтобы тщательно проанализировать результаты. В итоге мы разгадали механизм постперфузионного синдрома. Токсины, вырабатывавшиеся в ходе контакта крови с инородными поверхностями, прикреплялись к мембранам лейкоцитов, в результате чего они собирались в одно целое и провоцировали воспаление в жизненно важных органах. Используя в операционной стратегически размещенные катетеры, я продемонстрировал, что половина циркулировавших внутри тела лейкоцитов оказывалась в ловушке внутри легких пациента на момент отключения аппарата искусственного кровообращения, когда мы позволяли крови снова поступать к легким. Именно свободные радикалы кислорода и белки – протеолитические ферменты, которые высвобождались из захваченных лейкоцитов, повреждали нежные тканевые оболочки. Помню, когда я представил эти поразительные результаты на исследовательской конференции, в зале все замолчали. Тишина сменилась бурным возбуждением. Но в чем заключался смысл такого открытия, если ничего нельзя было изменить? Настало время моим усилиям в лаборатории принести плоды.
Я часами находился в операционной, а затем присоединялся к Джеку в лаборатории и изучал синтетические материалы. То, что нам сообщили из Скриппса, стало полной неожиданностью. Оказалось, что медицинский нейлон, который широко применялся в аппаратах диализа и искусственного кровообращения, стремительно активизировал систему комплемента. Другие материалы делали то же самое, но в меньшей степени. Прежде чем мы продемонстрировали это, склонность нейлона выделять опасные химические вещества не упоминалась ни в одной оценке биосовместимости. Я увидел путь вперед. Мы совершенно точно могли все изменить. Я рассказал о своих находках Джину Блэкстоуну, а затем и Кирклину. Результаты нашего исследования материалов были продемонстрированы компаниям, производившим оксигенаторы и резервуары для аппаратов искусственного кровообращения. Ознакомившись с доказательствами, они нашли способ заменить нейлон более совместимыми с кровью материалами, и мы стали ждать изменений.
Имея за плечами успешный проект, я стал все больше времени проводить в операционной вместе с хирургами. Кирклин был суровым и придирчивым. Он никогда не торопился и ничего не делал без причины. Каждое его движение основывалось на измерениях, алгоритмах и протоколе. В зависимости от массы тела пациента разрез был определенной длины, заплата – определенного диаметра, клапан – определенного размера. Он ничего не оставлял на волю случая и легко раздражался, когда во время операции ему задавали слишком много вопросов. Тем не менее ему, кажется, понравился эксцентричный англичанин, и когда я вернулся в Лондон, он писал мне добрые и воодушевляющие письма.
В соседней операционной работал Аль Пасифико, полная противоположность Кирклина. Он был самым быстрым и спонтанным хирургом из всех, что я когда-либо видел. К 1981 году Пасифико стал оперировать пациентов с самыми сложными врожденными заболеваниями сердца. Он исправлял деформированные сердца с закупоренными желудочками и множеством отверстий. Все, что он делал, выглядело просто и естественно. Я то и дело отходил от операционного стола, чтобы записать или зарисовать каждый важный этап. Эта «книга» о конгенитальной кардиохирургии[30] стала бесценным источником информации, когда я открыл собственную педиатрическую программу в Оксфорде.
Часто за операционным столом работали только мы с Пасифико, а рядом стоял фельдшер. Хотя фельдшеры не были врачами, они могли осуществлять забор вен ноги для аортокоронарного шунтирования[31], вскрывать и зашивать грудную клетку, а также ассистировать хирургам во время других операций. Опытные фельдшеры выполняли эти задачи не хуже хирургов-резидентов. Они помогали резидентам справляться в отделении интенсивной терапии и послеоперационном отделении, разгружая их тяжелый рабочий день. Медсестра-анестезист, также не имевшая высшего медицинского образования, обычно брала на себя одного взрослого пациента, в то время как врач-анестезиолог следил за пациентами сразу в двух или трех операционных.
Фельдшеры и медсестры тратят на обучение около трех лет, но в некоторых аспектах их работа не менее, а то и более важна, чем работа врачей, тратящих на учебу многие годы.
Я был заинтригован таким подходом, но сомневался, что операционные фельдшеры и медсестры-анестезисты когда-нибудь получат признание Национальной службы здравоохранения. Британские врачи слишком высокомерны и самолюбивы, чтобы признать, что каждый аспект их работы может быть выполнен без обязательных шести лет в медицинской школе. Действительно, на обучение фельдшеров требовалось в два раза меньше времени и финансовых затрат. Я размышлял обо всем этом, когда узнал, что получил работу хирурга-консультанта в Англии. К черту систему.
Вскоре стало известно, что оксигенаторы и резервуары без нейлона в составе действительно изменили ситуацию: пациенты стали проводить меньше времени на аппарате искусственной вентиляции легких и в отделении интенсивной терапии, потому что их легкие были в лучшем состоянии. Число смертельных исходов сократилось. Более того, потребность в послеоперационных переливаниях крови и гемодиализе тоже снизилась. Это имело огромные экономические последствия, и наше фундаментальное исследование спасло тысячи жизней – действительно гораздо больше, чем я спас за всю свою хирургическую карьеру. Меня стали приглашать читать лекции по всей Северной Америке, и Блэкстоун был рад за меня. Фамилия Уэстаби стала известна светилам американской кардиохирургии, а также представителям сердечно-сосудистой индустрии.
В разгар своего успеха я услышал, что в Хьюстоне доктор Кули имплантировал полностью искусственное сердце; это была вторая попытка из предпринятых когда-либо. Было утро пятницы. Вечером того же дня я отправился в Хьюстон ночным рейсом, намереваясь встретиться с великим человеком и увидеть уникальную технологию своими глазами. Я чувствовал себя одним из мудрецов, которые направились в Вифлеем, чтобы посмотреть на младенца-Иисуса. Как и я, доктор Кули обучался в больнице Роял-Бромптон, поэтому я легко сделал открывающий гамбит. Неожиданно подошел к нему в 06:30 на входе в больницу Сент-Люк (St. Luck Hospital) и был тепло принят. Он отвел меня к пациенту, который находился в отделении интенсивной терапии, рассчитанном на сто двадцать коек, а вечером пригласил взглянуть на трансплантат сердца. Искусственное сердце было дрянным, но общее впечатление, которое оно производило, – сенсационным. Этот визит положил начало моей долгой связи с Техасским институтом сердца и механической циркуляторной поддержкой.
Бирмингем сотворил для меня чудо. Там я повидал так много, что чувствовал себя настоящим кардиохирургом. Более того, мне предоставили возможность остаться в Соединенных Штатах: высокодисциплинированное окружение сгладило мои неровные края, а мои технические навыки признали стоящими. Однако это было невозможно. Дома меня ждала дочь, и я должен был вернуться.
6
Радость
21:00, Рождество 1985 года. Меня посадили на неудобную деревянную скамью в травматологическом отделении Сент-Томаса знаменитой больницы Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale Hospital), напротив Вестминстерского дворца, в окружении забинтованных голов, кровоточащих носов и блюющих пьяниц. В действительности у них были проблемы скорее с ментальным здоровьем, чем с физическим. По громкоговорителю играла песня «Радость миру», и для бродяги это было идеальное место, чтобы провести вечер.
Ночная смена неохотно заступала на ночное дежурство, а вечерняя мечтала побыстрее оказаться дома, поэтому никого не интересовал печальный персонаж в грязном костюме Санты, который сидел, прислонившись к умирающей ели с потухшими огнями. Дежурная медсестра то вбегала в зал ожидания, то выбегала из него, изо всех сил старясь поднять всем настроение. Сестры в больнице Сент-Томас выглядели нарядно. Этот высокий, стройный и элегантный рождественский ангел была одета в темно-синее платье в горошек и прозрачные черные колготки. Ее тонкая талия подчеркивалась серебристой пряжкой ремня; черные как смоль волосы выглядывали между накрахмаленным белым воротничком и чепцом, украшенным веточкой омелы. Эта женщина, прекрасная телом и душой, была известна в больнице как «Сестра-красавица». Врачи, мужчины-парамедики и полицейские ходили за ней хвостом, надеясь воспользоваться сезонным приглашением на ее чепце и получить поцелуй ангела, пусть лишь один раз в год. Это вознаградило бы их за работу в Рождество.
У пациента, доставленного на скорой, началась фибрилляция желудочков. Чувствуя, что нельзя терять ни секунды, медсестра вдруг залезла на каталку, села на живот мужчины и начала лихорадочно надавливать на его грудную клетку.
Она посмотрела на меня через весь зал и спросила одну из медсестер, что нужно Санта-Клаусу. Пришел ли я, только чтобы погреться? Если да, то мне следовало налить горячего чая и дать кусок пирога, принесенного ей для бродяг и нищих всего Южного Лондона. Она не узнала меня из-за бороды. На это и был расчет.
Автомобиль скорой помощи с включенной сиреной остановился у главного входа в больницу. Предвидя беду, Сестра-красавица и дежурный резидент направились в сторону вращающейся двери. Привезли пациента с инфарктом миокарда, который находился в состоянии шока. Когда парамедики спустили каталку на землю, пиканье монитора прекратилось, и раскоординированные заостренные волны фибрилляции желудочков спровоцировали сигнал тревоги. Под звуки «Тихой ночи» пациента быстро повезли в реанимацию. Чувствуя, что нельзя терять ни секунды, медсестра вдруг залезла на каталку, села на живот мужчины и начала лихорадочно надавливать на его грудную клетку. Она крикнула зачарованному резиденту, чтобы тот бежал за дефибриллятором. Слова «все спокойно» и «спит в небесном покое» теряли смысл в такой момент.
Кардиохирург, переполненный восхищением, мог лишь анонимно наблюдать за происходящим, не имея возможности помочь. Я там не работал. Сестре-красавице хватило присутствия духа, чтобы отдать распоряжение ночному персоналу позаботиться о жене пациента, после чего она ушла, стуча каблуками. Я посмотрел через весь зал на колыбель в углу. Там тоже были ангелы. Затем началась суматоха: из отделения прибыла бригада реаниматологов, которая шла позади этой невероятной женщины, затем дверь за ними закрылась.
С утра я был Санта-Клаусом в педиатрическом отделении Хаммерсмитской больницы. Только очень больные дети оставались там на Рождество, и у некоторых из них был рак. Истощенные, анемичные и лысые от химиотерапии, они сбрасывали свои костлявые ножки с кровати, с нетерпением ожидая моего появления с подарками. Любящие родители укладывали их обратно в постель и пытались хотя бы на несколько минут отвлечь от усталости и страданий. В основном все улыбались, но кое-кто поплакал, включая самого Санту. Я знал, что это могло быть их последнее Рождество. Затем с чувством облегчения и огромным мешком подарков для собственной дочери я направился по северной кольцевой дороге и трассе А10 в Кембридж. Джемме на тот момент исполнилось семь, и я проделывал один и тот же путь каждый год. Нам всегда было весело до того момента, когда мне приходило время уезжать. Вид дочери, машущей мне на прощанье с порога, всегда брал меня за душу, и я рыдал всю дорогу до Лондона. И все же винить было некого, кроме самого себя.
В отношении работы я был отчаянно амбициозен и крайне самоуверен, мне хотелось все делать по-своему.
Хотя и разговаривал с ней каждый день, я был одержим мыслью, что лишил дочь нормального детства. Раздутое хирургическое эго тут было ни при чем; я не уважал себя за то, что был плохим родителем, который постоянно работал и не имел моральных ориентиров. Чем больше я работал, тем меньше приходилось делать моим стареющим начальникам, что их полностью устраивало.
Сара, Сестра-красавица, появилась через час. Она вышла из реанимации растрепанная и удрученная. Белый воротничок и чепец отсутствовали, на колготках появилась стрелка, а верхние пуговицы платья были расстегнуты. Проведение непрямого массажа сердца в течение долгого времени эквивалентно тренировке в спортзале. Капли пота стекали по ее шее и исчезали в ложбинке груди. Студенты-медики бесстыдно пялились на нее, пока она не скрылась в комнате ожидания для родственников. Рыдания безутешной жены рассказали мне большую часть истории. Тем временем кассета кончилась, и в громкоговорителе снова послышалась «Радость миру».
Было почти 23:00, и старшая медсестра ночной смены прилагала большие усилия, чтобы очистить отделение от алкоголиков и тех, кто мог ходить самостоятельно. Маскарад был окончен. Я шпионил за своей любимой довольно долго, но оно того стоило. Я наблюдал за тем, как Сара делает то, что у нее лучше всего получается, с самого Кембриджа, когда она оказывала мне помощь с регбийными травмами: сломанной челюстью, разорванным скальпом, треснувшими ребрами. Тем не менее ни одна из этих травм не мешала мне тут же возвращаться к работе в операционной.
Хоть ее смена и завершилась два часа назад, у нее оставалось последнее дело. Убитая горем жена хотела увидеть мужчину, с которым она делила жизнь до тех пор, пока бляшка в его главной коронарной артерии не распалась и он не умер от острой сердечной недостаточности. Я мог бы быстро подключить его к аппарату искусственного кровообращения и сделать шунтирование, но не в Сент-Томасе. Это была больница Сары, а не моя. Кардиохирурги были дома, в километрах отсюда, а не искали приключений в больнице.
Проведение непрямого массажа сердца в течение долгого времени эквивалентно тренировке в спортзале.
Когда Сара наконец вышла из комнаты смерти, Санта стоял прямо у выхода, чтобы она его заметила. Она казалась бледной и напряженной. У нее за спиной было одиннадцать часов словесных оскорблений, плевков в ее сторону, а также приставаний пьяниц и резвых молодых врачей, которые стояли в очереди, чтобы подвезти ее домой, потому что за ней не приехал тот, кто должен был. Так, по крайней мере, казалось. Теперь ей предстояло пережить эмоциональный разговор с любовником, прежде чем вернуться на работу к 08:00.
Нам обоим требовалось успокоиться и поговорить, и Вестминстерский мост в полночь оказался идеальным для этого местом. Мы наклонились над парапетом и уставились на ледяную Темзу: я в костюме Санты, а Сара в своем черном плаще. Биг-Бен начал отсчет до полуночи. Ночь была удивительно тихой: все уже лежали в своих постелях, кроме сомнительных личностей, которые продолжали стекаться в травматологическое отделение. То же самое происходило в Хаммерсмите, Чаринг-Кроссе и всех остальных больницах. За смену у Сары было три смертельных случая: мужчина с сердечной недостаточностью и двое одиноких молодых самоубийц, для которых Рождество оказалось невыносимым. Особенно она расстроилась из-за шестнадцатилетней беременной девушки, которую семья выгнала из дома. У нее не было денег на аборт, поэтому она бросилась с железнодорожного моста. Когда Сестра-красавица увидела, что я не приехал к концу ее смены, она предположила худшее. В том или ином смысле.
Я был так поглощен своей незаменимостью на работе, что рождение собственного ребенка почти меня не занимало – только операции на сердце.
Рождество 1987 года. Я три месяца занимал должность консультирующего хирурга в Оксфорде и был счастлив, что ведущий мировой академический бренд дал мне возможность основать новый кардиоторакальный центр. Каждому, лишенному моего расторможенного мозга, было бы сложно начинать заниматься кардиохирургией в одиночку. Мне было не к кому обратиться за помощью и не у кого спросить совета. Однако именно это мне и нравилось, поскольку дало возможность работать независимо. В отношении работы я был отчаянно амбициозен и крайне самоуверен, и мне хотелось все делать по-своему.
В Оксфорде каждая фракция выдвигала свои требования: кардиологи хотели умелого хирурга, который специализировался бы на коронарных артериях и клапанах; пульмонологи настаивали на том, чтобы легкие оперировал опытный торакальный хирург; детские кардиологи надеялись, что придет человек, который создаст для них программу по устранению врожденных пороков сердца. Первый хирург должен был взять на себя все эти функции. В действительности это было просто безумием, но я обожал трудности.
Меня поддерживала самая заботливая и самоотверженная женщина из всех, кого я знал, и она гребла изо всех сил, чтобы я держался на плаву. Хотя Сара была на тридцать восьмой неделе беременности, она все равно настояла на том, чтобы я поехал в Кембридж и провел день с Джеммой и ее мамой. Наступил новый год, и предполагаемая дата родов Сары осталась позади, но я был так поглощен собственной незаменимостью, что рождение ребенка почти меня не занимало. Ничто не волновало меня сильнее, чем операции на сердце, что красноречиво говорит о состоянии коры моего мозга в то время. Думаю, она все еще не пришла в норму. Сара пыталась обучать меня эмпатии, но давалось это нелегко.
20 января 1988 года, десять дней с предполагаемой даты родов. Акушерка начала говорить о стимуляции. Марк был полноценного размера, но его голова все еще не опустилась. Однако у плода был хороший сердечный ритм и отсутствовали реальные поводы для беспокойства, поэтому Сара решила позволить всему идти своим чередом.
В моей параллельной вселенной все должно было вот-вот начаться. Я находился в палатах, проводя утренний обход перед тем, как начать оперировать. В списке на сегодня стояли только скучные коронарные шунтирования. Пациенты несколько месяцев ждали своих операций в лондонских больницах, пока их не направили к новому хирургу. Неожиданно мне позвонил дежурный резидент-кардиолог. Его босс, доктор Гриббен, суровый шотландец, хотел срочно посоветоваться со мной по поводу тяжелобольной пациентки, пока я не ушел оперировать.
Речь шла о 22-летней женщине с синдромом Дауна, которая поступила в больницу с инфекцией в крови – иначе говоря, сепсисом. Об остальном я мог догадаться, не спрашивая. Как и многим детям с синдромом Дауна, в младенчестве Меган провели хирургическое лечение полной формы атриовентрикулярного канала. Другими словами, у нее было пустое пространство в центре сердца, а клапаны до конца не сформировались. Реконструированный митральный клапан постоянно протекал, а на данный момент был инфицирован бактерией Staphylococcus aureus. Говоря на языке медиков, у нее развился эндокардит[32], который, несомненно, стал бы быстро прогрессировать и привел к смертельному исходу. Ей требовалось заменить митральный клапан как можно скорее.
В наши дни, когда уровень смертности пациентов каждого хирурга оглашается публике, многие мои коллеги не рискуют проводить слишком опасные операции.
Я предложил провести операцию в тот же день. Как уже говорил, я испытывал особую нежность к этим добрым ребятам, которым не повезло с генетикой. В больнице Роял-Бромптон им отказывали в операциях, потому что «оно того не стоило». Говорили, что у них меньше шансов, чем у обычных детей с врожденными пороками сердца, но это не так. В Оксфорде я исправил более двухсот атриовентрикулярных дефектов, и смертность моих пациентов была предельно низкой. Но это было не все. Смотря мне прямо в глаза, доктор Гриббен сказал, что я должен знать еще кое-что. Оказалось, что приемные родители Меган были свидетели Иеговы и ни при каких условиях не согласились бы на переливание крови. Эти несколько слов добавили новое измерение и без того сложнейшему случаю, и Гриббен, как мне кажется, полагал, что я откажусь от операции. Во-первых, во время операций на сердце аппараты искусственного кровообращения разбавляют кровь замещающей жидкостью. Во-вторых, при повторных операциях кровотечение всегда сильнее. Наконец, у пациентов с сепсисом нарушена свертываемость, из-за чего у них может начаться опасное кровотечение. Без переливания крови они рискуют умереть. Проведение операций на сердце стало возможным только после появления антибиотиков и практики переливания крови во время Второй мировой войны. Но в 1945 году руководящий орган свидетелей Иеговы ввел запрет на переливание крови, основанный на буквальной интерпретации Библии. Интересно, что свидетели Иеговы не празднуют Рождество и день рождения, придерживаются политического нейтралитета, не участвуют в военных действиях и не признают флагов. Я всегда соглашался их оперировать, но это было очень непросто. В наши дни, когда уровень смертности пациентов каждого хирурга оглашается публике, многие мои коллеги не рискуют проводить такие операции.
Хотя Меган было двадцать два, я сомневался, что она достаточно хорошо понимает свое положение, чтобы дать согласие на операцию или осознанно отказаться от переливания крови, если ее жизнь окажется под угрозой. Решение за нее должны были принять приемные родители. Как и ожидалось, они подписали отказ от переливания крови. Я давно научился избегать ненужных споров и конфликтов на религиозной почве, поэтому не пытался повлиять на них, утверждая, что дочь умрет без донорской крови или что я не стану оперировать без согласия на переливание. Если честно, переливание крови нежелательно по многим причинам, и оно увеличивает смертность во время и после операции. Я и сам постарался бы его избежать, если, конечно, ситуация не оказалась бы безвыходной. Мысленно я пообещал себе, что не позволю этой девушке истечь кровью. Ей и так не повезло, и я вовсе не хотел, чтобы ее жизнь заканчивалась настолько бессмысленно.
Родители заявили, что дадут согласие на операцию только в том случае, если анестезиолог, врачи отделения интенсивной терапии и я пообещаем, что не станем делать переливание крови. Нас также попросили не обращаться в суд, чтобы поступить по-своему. Но что же было для них приемлемым? Я объяснил, что существует новый кровесберегающий аппарат, который соберет пролитую кровь и вернет ее в тело Меган. Кровь, потерянную в ходе операции, соберут, поместят в центрифугу, промоют, а затем смешают с антикоагулянтом и вернут в тело пациентки через фильтр. Фильтр удалит бактерии и лейкоциты, что важно для лечения сепсиса. Эта технология не очень отличалась от аппарата искусственного кровообращения, трубки которого мы заполняли прозрачной жидкостью. Свидетели Иеговы обычно давали согласие на использование кровесберегающего аппарата (а также аппарата диализа), потому что внутри него непрерывно циркулировала кровь самого пациента. Оба родителя кивнули в знак согласия. У меня в рукаве находилась еще пара козырей, которые не хотелось раскрывать на данном этапе, поэтому я решил продолжить на их условиях.
Переливание крови не такая рутинная процедура, как показывают в фильмах. Оно может дать серьезные осложнения и повысить риск смерти.
Я очень рисковал, соглашаясь на эту операцию. Я оперировал в Оксфорде всего три месяца, но проявлял неоправданное высокомерие. Видимо, мне казалось, что раз я в Оксфорде, то, должно быть, очень хорош. Здесь все разительно отличалось от Адденбрукской больницы в Кембридже; со своим обычным прагматизмом Рой Калн рассказал мне, чего следует ждать. Моим пациентам было позволено занимать всего восемь коек в отделении общей хирургии, а сразу после операции их отправляли в общее отделение интенсивной терапии, куда привозили больных из других отделений: травматологического, гинекологического, неотложной помощи и т. д. В результате мне приходилось практически каждый раз сражаться за койку.
Затем выяснилось, что старая добрая пятая операционная не подходит для кардиохирургии в большей степени, чем я изначально предполагал. Она не была оснащена кислородными розетками, а аппарат искусственного кровообращения, который там стоял, мог бы принадлежать музею. Сигналы тревоги раздавались постоянно, и Тед, мой единственный перфузионист, подпрыгивал, отсоединял пустой кислородный баллон и бежал за заменой. Перфузионист никогда не должен отходить от аппарата во время операции, но Тед постоянно отлучался. У него не оставалось выбора, ведь иначе мы не смогли бы держаться на плаву.
Операционная в Оксфорде в конце 1980-х была древней и ужасно оборудованной. Но несмотря ни на что мои первые 100 пациентов там выжили.
Вскоре после моего прихода в Оксфорд в системе обогрева и охлаждения допотопного аппарата произошел серьезный сбой, когда я только приступил к очередной операции. Чтобы прооперировать сердце, нам требовалось сначала охладить, а затем разогреть пациентку, но у нас ничего не вышло. Прежде чем подключить ни о чем не подозревавшую женщину к аппарату искусственного кровообращения, Тед выбежал из операционной и вернулся с ведром и миской. Он наполнил ведро холодной водопроводной водой и льдом для охлаждения пациентки, а перед тем, как пришло время ее разогревать, принес чайник с горячей водой и налил ее в миску. Трубку аппарата, по которой текла кровь, просто перебросили из ведра в миску, когда я распорядился разогревать пациентку. Такая сцена была бы более уместна в фильме «Монти Пайтон», чем в крупной университетской больнице, но позднее я узнал, что так дело обстояло на протяжении не одного года.
Затем засорилась раковина, где мы мыли руки. Светильник у нас над головой жил собственной жизнью, поэтому я постоянно нарушал стерильность рук, поправляя его. Потом нас затопило из туалетов этажом выше. В конце концов я решил приглашать многострадального менеджера больницы мистера Стэплтона каждый раз, когда что-то шло не так. Я топал ногой и говорил сестре Линде: «Пошлите за мистером Стэплтоном». Обычно он, одетый в костюм, вставал в дверях пятой операционной и спрашивал: «Что на этот раз, Уэстаби?» Не отводя взгляда от сердца, я возмущался по поводу того или сего, пока анестезист Тони Фишер прятался за монитором и тихонько хихикал. Но мы все же никого не потеряли. Несмотря ни на что, мои первые сто пациентов в Оксфорде выжили.
Теперь мне предстояло кое с чем разобраться. У нас не было кровесберегающего аппарата, необходимого для повторной операции на свидетельнице Иеговы, поэтому я отчаянно пытался связаться с представителем компании и убедить его одолжить нам аппарат. Мы могли получить его никак не раньше следующего утра. У нас было двадцать четыре часа, чтобы «замариновать» Меган в высоких дозах антибиотиков, но я также настоял, чтобы она находилась под пристальным наблюдением в отделении интенсивной терапии. У меня был мотив: это гарантировало нам койку сразу после операции, ведь ждать дольше мы не могли. Я также назначил ей гормон эритропоэтин (EPO, который используют профессиональные велосипедисты)[33], стимулирующий образование эритроцитов в костном мозге. В сочетании с высокими дозами железа, витамина В12 и фолиевой кислоты гормон должен был держать в норме уровень гемоглобина в крови пациентки первые дни и недели после операции, когда у нее, по моим предположениям, могла начаться серьезная анемия. На следующий день я дал ей апротинин, который, как я случайно выяснил, повышает свертываемость крови у пациентов, подключенных к аппарату искусственного кровообращения. Это было еще одно значительное открытие в хирургическом мире.
Я считал роды естественным процессом и, в отличие от нормальных людей, не воспринимал их как некий катастрофический феномен. Будучи студентом-медиком, я принял на свет 24 младенца.
В середине первого за день аортокоронарного шунтирования анестезист Тони склонился над драпировкой и что-то мне прошептал. Я был сосредоточен на пришивании вены к крошечной, но очень важной коронарной артерии, поэтому не расслышал его и попросил повторить. На этот раз его слова раздались на всю операционную.
– Нам только что позвонили и сказали, что у вашей жены начались схватки и ее некому отвезти в больницу.
– Она что, сама не может доехать?
Мой ответ прозвучал по меньшей мере равнодушно. Медсестры заохали в унисон. Мое предложение было абсурдным.
Я попробовал второй вариант:
– Скажите ей вызвать такси.
Что еще я мог сказать? Я оперировал чье-то сердце, и впереди меня ждала еще одна очень сложная операция.
Сара позвонила акушерке, которая приехала к нам домой, засунула внутрь моей жены кулак и сказала: «Шейка еще не раскрылась. Лучше пока остаться здесь. В больнице вас точно отправят домой».
Вам может показаться, что я проявлял черствость и равнодушие, продолжая работать весь день, но меня некому было заменить. Кроме того, я считал роды естественным процессом и, в отличие от нормальных людей, не воспринимал их как некий катастрофический феномен. Будучи студентом-медиком, я принял на свет две дюжины младенцев в нисденском родильном доме (Neasden Birning Center) на севере Лондона. Как ни странно, сшивать разорванные промежности мне было гораздо интереснее, чем ловить скользких новорожденных, прежде чем они шлепнутся на пол. Тем не менее я всегда глубоко сочувствовал матерям. Я бы не хотел выдавливать из задницы дыню, не говоря уже о целом младенце. Даже если бы я суетился вокруг Сары в течение следующих нескольких часов, ей не стало бы легче, поэтому мне лучше было заняться оперированием сердец.
По крайней мере, я себя в этом убеждал. Но это не вся история, и я думаю, что Сара знала правду: я не был рядом с моей первой женой Джейн, когда родилась Джемма. Моя дорогая мама помогала ей, но я находился далеко, и это меня сильно беспокоило. Так что для меня это было непросто, хотя Сара всегда была настолько святой, что морально подготовилась пройти все в одиночку. Она постепенно боролась с моими неврозами без споров и ругани – с ее стороны была только непоколебимая поддержка. Сара понимала, что впереди меня ждет много профессиональных трудностей, но она хотела, чтобы я добился успеха в Оксфорде, несмотря ни на что. Люди считали, что я, должно быть, хороший парень, раз такая особенная женщина согласилась выйти за меня замуж.
Несмотря ни на что, мои первые сто пациентов в Оксфорде выжили.
Когда я наконец вернулся домой вечером, схватки Сары стали более интенсивными и болезненными. Марк решил, что пришло время вылезать. Я приготовил для нее теплую ванну, но как только она вышла из нее, воды отошли, и амниотическая жидкость залила пол. Я абсолютно ничего не помнил о родах, которые принимал в студенчестве, но подозревал, что «прорыв плотины» является веской причиной, чтобы обратиться за помощью к специалисту. Мы приехали в больницу Джона Рэдклиффа (John Radcliffe Hospital) в 22:30 и сразу же направились в родильное отделение. Там, как обычно, все оказались заняты. Они решили еще раз проверить степень раскрытия шейки матки Сары, прежде чем уложить ее на койку. Голова нашего парня до сих пор не опустилась. До появления младенца на свет было еще далеко.
К удивлению медсестры, моя реакция была резкой, но вполне уместной. «Пожалуйста, позаботьтесь о них обоих, – сказал я. – Завтра у меня две операции на сердце, и мне нужно выспаться. Я вернусь около 06:30».
Мужественная святая Сара с этим смирилась. Медсестра родильного отделения выглядела так, будто только что описалась. Она увидела того самого нового кардиохирурга, о котором все говорили.
За ночь мне позвонили всего один раз из отделения интенсивной терапии. В трубке проблеяли, что состояние Меган вызывает беспокойство: у нее появилась лихорадка, кровяное давление упало до 90/60, а выработка мочи была минимальной.
Я был несколько груб с дежурным резидентом. Я сказал: «Кровесберегающий аппарат будет завтра. Если хотите сделать операцию без него – вперед, мать вашу. Тогда попросите своего собственного хирурга прийти и помочь».
Месяцами работать в одиночку каждую ночь и все выходные очень тяжело. Я постоянно чувствовал себя изможденным и хотел спать. При этом никому не было до этого дела, кроме моей жены. Сейчас мне ее очень жаль. Она заслуживала лучшего. У нее было бы лучшее, если бы я все не портил. Я взял телефон и позвонил в родильное отделение, чтобы узнать, как у нее дела. Изменений почти не было; боль нарастала. В акушерстве так всегда. Боль – это цена, которую платят женщины.
27 января 1988 года, 06:00. День предстоял трудный. Я пробыл с Сарой несколько минут и выразил ей свое сочувствие, а затем поспешил в отделение интенсивной терапии к 07:00, намереваясь быть милым с молодым врачом, которому нагрубил по телефону. Сара выглядела бледной и изнуренной после ночи агонии. Позволил бы я так страдать кому-то из своих пациентов? Определенно нет. Я решил позвонить ее акушеру-гинекологу и сказать, что желаю увидеть своего сына в промежутке между пациентами. Моими пациентами, не его. Я не хотел делать сложную повторную операцию женщине с сепсисом, пока беспокоюсь о жене и ребенке. Однако я так ему и не позвонил. Я решил, что глупо давить на тех, кто заботится о ней, когда я сам абсолютно бесполезен. В этой ситуации я был пассивным партнером и не раздавал приказания, как это обычно бывало.
Моя первая операция в то утро заключалась в замене аортального клапана, и уже к 11:00 пациент благополучно оказался в отделении интенсивной терапии. Но где, черт возьми, был кровесберегающий аппарат? Вместо того чтобы вернуться в родильное отделение к Саре, мне предстояло убедиться, что все знают, чего ожидать от сражения, которое будет представлять собой операция Меган. У Теда уже не оставалось времени разбираться, как собрать аппарат, поэтому представитель компании остался и самостоятельно занялся установкой. Тони требовалось ввести апротинин, прежде чем я распилил бы грудь Меган.
Я втайне надеялся, что роды моей жены уже закончатся, когда я освобожусь, чтобы пойти к ней.
Для пятой операционной все это было в новинку. Мне казалось, что мы на сцене во время премьеры спектакля, который не репетировали. Актера главной роли желали видеть в другой части больницы, где он должен был сыграть роль хоть и второго плана, но важную. Занавес должен был вот-вот подняться: исполнительница главной роли уже вышла на сцену, но ее партнер отсутствовал.
Наверное, именно так акушер-гинеколог и акушерки Сары видели ситуацию. Они привыкли к льстивым, раболепным мужьям, которые держали своих жен за руку и массировали им спину. Это очень отличалось от моего собственного появления на свет в 1948 году, когда отец «синего» младенца даже на час не смог отлучиться с завода.
Акушер-гинеколог, которого мы выбрали для Сары, как-то оперировал со мной беременную женщину с эндокардитом. Сначала мы сделали кесарево сечение, а затем провели повторную операцию на аортальном клапане. Мать и ребенок выжили, хотя я знал о подобных случаях со смертностью 200 %. Я был уверен, что он хорошо позаботится о Саре, когда придет время, а сам я мыл руки перед еще одной долгой операцией, не зная, когда этот момент наступит. Я втайне надеялся, что роды уже закончатся, когда я освобожусь.
Долгий и болезненный процесс родов, происходивший в родильном отделении, вопреки моим ожиданиям, превратился из физиологического в патологический. Сара была измождена физически и морально. Как бы снисходительно ни относилась к моим личным демонам, она вполне справедливо злилась, что меня не оказалось рядом, когда она так нуждалась во мне. Тем не менее мое присутствие никак бы ей не помогло. Мой темперамент никогда не давал мне ждать, когда что-то произойдет, и позволять кому-то другому брать на себя ответственность. Такое поведение типично для хирургов, а раздражение и агрессия в адрес персонала никому бы не пошли на пользу. Слово на букву «к» уже упоминалось, но Сара во что бы то ни стало хотела избежать этого. Однако даже после двадцати часов схваток голова моего мальчика не опустилась. Похоже, он передумал покидать свой теплый кокон, где слышал успокаивающее сердцебиение матери.
Вернемся в пятую операционную. Ситуация Меган была настолько опасной, что ее ввели в наркоз на операционном столе. Мать пыталась успокоить ее. Из-за синдрома Дауна пациентка не осознавала всей тяжести своего положения; ее пугали яркие лампы и холодное больничное окружение. Анестезиолог Майк Синклер, на руке которого красовалась татуировка галла Астерикса, понимал, что вид иглы вполне может спровоцировать у Меган паническую атаку. Поэтому он ласково разговаривал с ней, пока пускал усыпляющий газ через резиновую маску на ее лице. Это никак не было связано с жалостью или состраданием. Просто анестезиолог был умен и заинтересован в результате. Если бы девушка начала биться в истерике и скатилась со стола, у нее могло остановиться сердце, что привело бы к смерти.
Я никогда не позволял себе сочувствовать пациенту, которого мне предстояло прооперировать. Эмпатия предполагает разделение эмоций и страданий пациента, а это большая ошибка для кардиохирурга. Я не позволял себе представлять, что значит лежать на холодном черном виниле и ждать, когда какой-то психопат сольет твою кровь в резервуар. Чтобы вскрыть чью-то грудную клетку, я должен был оставаться спокойным и объективным. Я забывал об эмпатии. Представьте себе эмпатичного психиатра или детского онколога. Да они и недели бы не протянули без нервного срыва.
Тревога о Саре заставила меня перестать намыливать руки и пойти к телефону в анестезиологический кабинет. Я страшно корил себя за то, что применяю ту же холодную объективность и к собственной жене. Я находился там же, где был во время рождения Джеммы, и, возможно, именно из-за этих обстоятельств до сих пор не поборол свою посттравматическую психопатию. Если бы я не был столь отчаянным, то, вероятно, принял бы разумное решение и не стал оперировать Меган без согласия на использование донорской крови. Я бы пригрозил ее приемным родителям судом и сделал бы их жизнь невыносимой. Мы могли перелить ей кровь вопреки желанию ее родителей, но это означало бы их отлучение от церкви. Как это ни странно, мои рискованные действия были актом доброты по отношению к этим людям. Но где я находился, когда Сестра-красавица и мой ребенок нуждались во мне? В проклятой операционной, естественно.
Телефон в родильном отделении продолжал звонить, но никто не отвечал. Я попробовал позвонить Саре на мобильный, а затем на пост медсестер – никто не хотел разговаривать со мной. Майк прокричал, что кровяное давление Меган падает, поэтому я был вынужден приступить к сложнейшей операции, которая легко могла продлиться часов шесть. Операция требовала полной сосредоточенности с моей стороны, и каждый пролитый миллилитр крови нам предстояло собрать и вернуть в систему кровообращения. Я должен был оставить в стороне все тревоги и мысли о родильном отделении на время операции.
Я никогда не позволял себе сочувствовать пациенту, которого мне предстояло оперировать.
Я услышал, что в анестезиологическом кабинете зазвонил телефон. Прошло около сорока пяти минут с начала операции, и мы уже подключили аппарат искусственного кровообращения. Вскоре в операционную вошла медсестра и сказала, что со мной хочет поговорить акушер-гинеколог. Я попросил ее узнать, что он хотел; я не отводил взгляда от сердца, пока кровь отступала от него и оно становилось все более вялым.
«Он не говорит, это конфиденциально», – ответила она. Сквозь меня прошла волна тревоги.
Я попросил Майка перезвонить и узнать, что хотел акушер, в надежде, что тот передаст информацию другому врачу. В родильном отделении опять не сняли трубку. Майк, которому ассистировал старший резидент-анестезиолог, сказал, что он сам пойдет туда и выяснит, в чем дело.
«Типичный кардиохирург, – прошептала медсестра. – Посылает анестезиолога, чтобы узнать, как проходят роды его жены». Все это напоминало бы комедию «Илинга», если бы не было так волнительно.
Я вшивал искусственный митральный клапан, когда Тед сказал: «Стив, объем снижается. Она теряет кровь?»
Насколько я мог видеть, нет, но я попросил приглашенного специалиста по кровесберегающему аппарату вернуть собранную кровь в аппарат искусственного кровообращения. Тед сказал, что ситуация не сильно изменилась, и попросил меня проверить плевральные полости[34], которые не вентилируются во время подключения к аппарату искусственного кровообращения. Тед оказался прав. С левой стороны удалось собрать около литра жидкости через отверстие в перикарде за сердцем. Когда жидкость вернули в аппарат, положение улучшилось.
Через пятнадцать минут вернулся Майк.
– Какие новости, Майк? Ты видел Сару? – спросил я осторожно, не зная, что сказать.
– Да. Она в порядке, но очень на тебя злится. Ей требуется кесарево сечение, но они не хотят делать его, не обсудив с тобой. Они ужасно тебя боятся.
Наш приглашенный специалист был заинтригован, но сбит с толку сложившейся ситуацией. Ему хватило смелости предложить мне пригласить коллегу для завершения операции, и он смутился, узнав, что у меня не было коллег. Оркестр продолжает играть даже на тонущем корабле, и я старался сшивать как можно быстрее. В итоге Меган отключили от аппарата искусственного кровообращения и ввели ей огромную дозу сосудосуживающих препаратов для борьбы с сепсисом. Но ей все равно требовались вливания прозрачной жидкости для поддержания кровяного давления, и мне предстояло остановить кровотечение из сердца и с краев раны, прежде чем задуматься о том, чтобы уйти.
«Типичный кардиохирург, – прошептала медсестра. – Посылает анестезиолога, чтобы узнать, как проходят роды его жены».
Было уже 18:00, когда мы были готовы зашить грудь Меган. Однако ее кровяное давление падало, а уровень плазменного гемоглобина оказался критически низким. Я решил рискнуть и снизить температуру ее тела с помощью охлаждающего одеяла, чтобы сократить потребление кислорода тканями. Эритроциты необходимы для транспортировки кислорода к тканям, но снижение температуры с 37 °C до 32 °C сокращает потребность в кислороде почти наполовину, то есть примерно на 1 % при охлаждении на каждый градус. Однако чем ниже температура, тем выше риск смертельных проблем с сердечным ритмом. Я все еще не хотел разрушать жизнь родителей Меган, переливая кровь их дочери, но также не собирался давать ей умереть в предполагаемый день рождения моего сына.
Я готовил охлаждающее одеяло, когда из родильного отделения снова позвонили. На этот раз звонок оказался еще более срочным. Они хотели, чтобы я пришел лично, но я чувствовал моральную обязанность оставаться с Меган до тех пор, пока ее не отвезут в отделение интенсивной терапии. Я попросил своего резидента Нила Моата (он стал выдающимся кардиохирургом в больнице Роял-Бромптон) передать, что они могут делать все, что считают нужным, и что я приду, как только появится возможность. Короче говоря, я хотел сказать: «Занимайтесь акушерством, а я буду заниматься кардиохирургией».
В 18:30 я сообщил родителям Меган, которые находились в зале ожидания для родственников, что операция завершена и что мы не переливали кровь их дочери. Я предупредил, что восстановительный период будет долгим и трудным и мы не можем гарантировать выживание Меган. Я попросил их сразу же дать нам знать, если их мнение о переливании крови изменится, однако я понимал, что этого не произойдет, даже если Меган будет грозить смерть. Теперь я должен был увидеть Сару. Она терпела схватки уже двадцать шесть часов в одиночку, и я не ждал, что она тепло меня примет. Я встретил Нила, когда он возвращался. Он сказал, что Саре вот-вот сделают кесарево, и посоветовал мне поскорее пойти к ней, оставив Меган ему.
Одетый в испачканный кровью хирургический костюм, я пришел в родильное отделение, все еще тайно надеясь, что дело уже сделано. Медсестра бегала взад-вперед, старательно меня игнорируя. Думаю, я это заслужил, но после такого долгого дня я не мог терпеть подобное отношение. Раздраженно спросив, где находится операционная, я получил нагоняй.
– Вы думаете, что у вашей бедной жены день был легче? Ее отвезли в операционную полчаса назад. Возможно, вы захотите к ней присоединиться.
Я продолжить рыть себе яму, предположив, что Сара, должно быть, уже спит и что мне лучше подождать мать и младенца в палате. Я был не прав. После долгих часов боли и страданий Сара настояла на том, чтобы быть в сознании, когда ребенок появится на свет. Она отказалась от общего наркоза, и ей сделали только эпидуральную анестезию. Именно поэтому она попросила меня прийти, когда я найду время.
В анестезиологическом кабинете никого не оказалось, но я заметил пустые ампулы, капельницы и катетеры, которые имели отношение к моей жене. Я прошел мимо ее тапочек на каталке и заглянул в дверь операционной. Там работала та же бригада, с которой мы проводили замену клапана одновременно с кесаревым сечением. Я увидел дружелюбного неонатолога-регбиста Питера Хоупа, чьи огромные руки регулярно совершали чудеса для крошечных недоношенных младенцев. По пустому блюду для тампонов и звону инструментов я понял, что они еще не начали. Когда анестезиолог потянулся, чтобы повесить пакет с декстрозой[35] на стойку для капельницы, я заметил, что черная кудрявая головка Сары повернулась в его сторону. Они спокойно беседовали, пока верхний свет направляли на живот, из которого скоро должен был появиться мой сын. Прежде чем зайти, я засунул телефон в тапочку Сары. Отвечать на звонки во время этой операции было бы немыслимо.
Эритроциты необходимы для транспортировки кислорода к тканям, но снижение температуры организма до 32 °C сокращает потребность в кислороде почти наполовину.
На этот раз меня хотя бы тепло встретили. Когда дверь скрипнула, все коллективно воскликнули: «Он наконец пришел!» Это был, несомненно, чуть ли не единичный случай, когда я вошел в операционную без своей обычной самоуверенности. Там самоуверенность должна была исходить от акушера-гинеколога, но что меня поразило, так это спокойствие, исходившее от самой Сары. Боли больше ее не беспокоили, и она не чувствовала ничего ниже груди. Ее обнаженное тело натирали раствором йода от сосков до колен.
Моя жена настояла на том, чтобы быть в сознании, когда ребенок появится на свет посредством кесарева сечения. Это был, несомненно, чуть ли не единичный случай, когда я вошел в операционную без своей обычной самоуверенности.
Я наблюдал за тем, как губка покружилась вокруг ее груди, прошла по гладким контурам выступающего живота и скрылась в глубоких складках паха. Вскоре ее грудь, бока и лобок прикрыли светло-голубой тканью, поверх которой положили липкую пластиковую пленку, которой предстояло держать драпировки на месте. Хирург дал ей понять, что приготовления завершены, тихонько сказав: «Теперь, когда Стив пришел, мы можем начать». Неужели этот комментарий завуалированно намекал, что они ждали слишком долго? Или это просто моя паранойя разыгралась? В этот момент я сжал руку Сары, поцеловал ее в лоб и сосредоточился на единственной операции, во время которой проснулись мои эмоции. Я наконец проникся эмпатией.
Взносы за страхование ответственности в акушерстве всегда выше, чем в других специальностях, и я понимаю, почему. Акушеры-гинекологи действуют прямо: их скальпель уверенно рассекает кожу, жир и мышцы живота в основании увеличенной матки, и при этом они почти не задумываются о кровотечении. На поздних сроках беременности объем крови увеличивается, поэтому, в отличие от моей операции на свидетельнице Иеговы, небольшое кровотечение не играет существенной роли.
Скальпель продолжал рассекать ткани в миллиметрах от глаз и мозга моего сына. После того как хирург сделал искусно вымеренный разрез в стенке матки, он поместил в него указательный и средний палец, чтобы расширить отверстие. Пальцы безопаснее для ребенка, чем щипцы из холодной стали. С момента разреза понадобилось менее двух минут, чтобы огромная голова Марка показалась снаружи. Хотя он выглядел очень рассерженным из-за такого обращения, ему хотя бы не пришлось протискиваться сквозь узкий таз, будучи подгоняемым сильнейшими схватками. Когда показался его торс, склизкая пуповина соскользнула с шеи и повисла.
Роды моей жены оказались единственной операцией, во время которой я испытывал эмоции.
Все это время Сара сохраняла поразительное спокойствие. Время от времени она сжимала мою потную ладонь, чтобы подбодрить меня, а затем, когда нашего парня окончательно достали из гнезда, она сказала, что внутри ее живота будто вращается барабан стиральной машины. Какое-то время наш склизкий синий малыш казался безжизненным. Новорожденные младенцы, в чьих легких еще нет воздуха, всегда выглядят грифельно-серыми, но я забыл об этом. С нашего последнего кесарева сечения, проведенного всего несколько недель назад, я запомнил лишь то, что скользкий недоношенный младенец чуть было не упал на пол, после того как перерезали пуповину. В данный момент плацента была источником моих опасений. Пока ребенок соединен с маткой, ему не нужно дышать. К нему продолжает поступать кислород, и синяя кровь, возвращающаяся к сердцу, обходит незаполненные воздухом легкие. Синий цвет насторожил меня, но бригада оставалась спокойной.
Как только пуповину перерезали, Питер унес нашего сына в инкубатор и прочистил ему горло. Затем мы услышали, что он наконец пытается дышать. Как только его легкие впервые наполнились воздухом, послышался рев. Мне он продолжал казаться синим (у меня была паранойя, связанная с синюшными младенцами), но Питер напомнил, что это связано с молекулами гемоглобина плода. После нескольких вдохов его кожа порозовела. Пока врач вычищал плаценту и зашивал матку, Саре подали ее теплого и теперь розового мальчика. Она расплакалась. Я по глупости спросил, почему она плачет, и получил типично женский ответ: «Потому что я так рада!» Двадцать шесть часов болезненных схваток были забыты благодаря чуду рождения.
Знаете, какими были ее следующие слова? Она спросила: «Твой пациент в порядке? Разве тебе не нужно проверить, как он?»
Слова Сары, в которых не было ни капли эгоизма, глубоко меня тронули. В этом заключалась истинная причина, по которой в больнице Сент-Томас ее прозвали Сестрой-красавицей: она обладала прекрасной бескорыстной душой. Что заставило ее выйти за меня, Финеаса Гейджа кардиохирургии? В ту ночь я оставил своих демонов и предался радости. Я снова испытал эмпатию, которая раньше причиняла мне боль. Попытки спасти бедную Меган, сохранить достоинство ее родителей и вовремя успеть к рождению сына – все это стало для меня эмоциональными американскими горками. Стейнбек писал: «Знание о том, что миллион китайцев голодает, начинает иметь смысл лишь тогда, когда мы знакомимся с одним голодающим китайцем».
Я просидел с Сарой в палате около часа, виня себя в том, что не присутствовал в момент рождения Джеммы. Я готов был всю жизнь расплачиваться за это. Затем я подумал о родителях Меган и обо всем, что им пришлось пережить. Я понимал, что если она не выживет, то это будет их вина. Не знаю, из сочувствия ли или сострадания, но я решил отпустить Нила Моата и найти время для разговора с ними, ведь это, возможно, был худший день в их жизни.
Мой ребенок теперь находился в безопасности. Их же дочь, чья температура тела сейчас составляла 30 °C, лежала под охлаждающим одеялом и боролась за жизнь. Скорость метаболизма ее мозга пришлось сократить в два раза, чтобы она могла пережить тяжелую анемию. Однако я чувствовал, что мы побеждаем. Кровотечения не было, и невысокого кровяного давления хватало для производства почками мочи («жидкого золота», как мы ее называем). Ее благодарные родители сказали, что Бог вознаградит меня за мою работу. Я ответил, что он уже это сделал. Мне был послан здоровый маленький мальчик, который появился на свет в конце операции Меган. Они интерпретировали это событие как божественное вмешательство. Доктор Гриббен уже знал о событиях дня и заглянул в отделение интенсивной терапии на пути домой. В ту ночь счастье распространилось по больнице, и моя бригада радовалась и за меня тоже. Тем не менее мне было грустно и немного одиноко наедине со своими демонами.
Я был рядом с родившей женой, и наш ребенок был в безопасности, пока моя девочка-пациентка лежала охлажденной до 30 °C.
После волшебного исцеления Меган свидетели Иеговы организовали кампанию по сбору средств на покупку кровесберегающего аппарата. Я же оперировал свидетелей Иеговы со всей страны, применяя в работе кровоостанавливающий агент апротинин в сочетании с подаренным оборудованием. Один из моих пациентов, свидетель Иеговы с кровоточащей аневризмой аорты, выжил, после того как жена привезла его на машине из Уэльса, так как в других больницах его не принимали.
Сара и Марк вернулись домой через три дня после родов, и я стал спать еще меньше, чем обычно. Брайан Гриббен стал крестным отцом Марка. Добрый неонатолог Питер Хоуп, к сожалению, скончался от рака через пару лет. Мы с Майком организовали программу помощи крошечным недоношенным младенцам: я вскрывал их грудные клетки и закрывал открытый артериальный проток (распространенный дефект между легочной артерией и аортой), не доставая детей из инкубатора. Так их не требовалось переносить из родильного отделения в главные операционные, благодаря чему они не охлаждались. Мы ездили в другие региональные больницы и делали там такие же операции, но вскоре у Майка обнаружили рассеянный склероз, и он ушел с работы. Болезнь не повлияла на его чувство юмора, и он до сих пор держится. Настоящий герой.
Через два года после повторной операции в Оксфорде митральный клапан Меган был инфицирован. Я был за границей, когда ее семья пыталась связаться с мной, и ближайший кардиоцентр отказался делать третью операцию без переливания крови. Она умерла от сепсиса.
Тот холодный зимний день 1988 года изменил мои взгляды на жизнь и, возможно, сделал меня лучшим хирургом. Не в техническом плане, разумеется, а в результате того, что я стал лучше как человек. Любовь приносит радость, но до того дня я боялся признать это.
7
Опасность
Многие инфекционные заболевания передаются через ранки на коже, поэтому купание в крови во время работы с острыми инструментами не лишено опасности. Я ежедневно укалывался иглами, но, как ни удивительно, в большинстве стран пациентов перед операцией не проверяют на передаваемые через кровь вирусы, из-за чего больничный персонал постоянно рискует случайно чем-нибудь заразиться, а затем передать болезнь своей семье. С другой стороны, безответственные хирурги, которые прекрасно знают, что больны гепатитом, заражают сотни пациентов, не принимая мер по снижению риска. Операционная – опасное место.
Скальпель № 11 имеет заостренный конец. Я использовал его в финале каждой операции, чтобы сделать в груди проколы для дренажных трубок. В операционных кардиологического отделения работала вежливая и добрая медсестра Айрин, филиппинка, которая ассистировала мне, когда я оперировал своего друга Стива Нортона. Однажды поздно вечером, когда мы заканчивали срочную операцию, Айрин отвлеклась на другую медсестру, которая хотела пересчитать тампоны и пойти домой. Айрин неосознанно вложила мне в ладонь лезвие вместо ручки. Когда я рефлекторно сжал его, блестящий металл порвал резиновую перчатку, рассек кожу и вонзился в мышцу большого пальца, что было очень больно. Ярко-красная кровь разлилась под латексом и начала заполнять тоннели резиновых пальцев, из-за чего перчатка стала похожа на краба. Я взвизгнул от шока и уронил окровавленный инструмент, который, как дротик, пронзил кожу моих операционных сабо. После этого случая я стал называть ее «острая медсестра Айрин».
Эта шарада, которая оказалась болезненной для меня и уморительной для остальных членов бригады, оказалась простой. Лезвие было стерильным, поэтому я не мог заразиться вирусом, передающимся через кровь. Я не стал ничего предпринимать, разве что покинул операционную и пошел за первой помощью. Вернувшись, я поблагодарил до смерти напуганную медсестру за помощь во время операции. Со временем, когда она набралась опыта и стала лучше говорить по-английски, «острая медсестра Айрин» стала старшей медсестрой кардиохирургического отделения.
Многие инфекционные заболевания передаются через ранки на коже, поэтому купание в крови во время работы с острыми инструментами не лишено опасности.
Во время большинства операций я работал с двумя хирургами-ассистентами и операционной медсестрой, которые вкладывали инструменты мне в ладонь, практически не задумываясь. Они знали этапы операции так же хорошо, как и я. Я просто раскрывал ладонь и рефлекторно хватал то, что они на нее клали. Я никогда не отводил взгляда от сердца, за исключением случаев, когда мне требовалось отдать распоряжение. Хирург управляет своей бригадой, как дирижер оркестром: «Дайте гепарин, подключите аппарат, снизьте давление, отключите аппарат, дайте протамин». Весь процесс всецело зависит от отточенных умений бригады.
Мы прилагали все усилия, чтобы присматривать друг за другом, однако великое множество острых инструментов постоянно грозило опасностью. На использованных скальпелях и иглах оставалась кровь пациентов, а мы почти ничего не знали о личной истории подавляющего большинства из них. Иглы из нержавеющей стали изогнутые (обычно они находятся в длинном металлическом иглодержателе) и очень острые. Они легко прокалывают тонкие резиновые перчатки. Известно по меньшей мере двадцать пять вирусов, передаваемых через кровь. После сорока лет в хирургии, на протяжении которых я регулярно купался в жидкостях других людей и бесчисленное количество раз укалывался, я стал считать себя невосприимчивым ко всему. Другим повезло меньше.
Весь персонал операционных прививают от гепатита В, но есть люди вроде меня, у которых никогда не вырабатываются защитные антитела. В начале 1970-х годов, когда я работал в известном гепатологическом отделении больницы Королевского колледжа, мне постоянно приходилось иметь дело с больными гепатитом пациентами и их телесными жидкостями. У пациентов с циррозом печени происходит расширение вен пищевода. Мой брат Дэвид работал консультирующим врачом в гепатологическом отделении и был экспертом по введению в такие вены склерозирующих агентов. Меня, как молодого врача, пригласили останавливать кровотечение в случае разрыва сосудов. Когда пациента начинало рвать литрами зараженной вирусом гепатита крови, мне требовалось протолкнуть через его пищевод в желудок воздушный баллон в форме сосиски. Задача состояла в том, чтобы надуть его и передавить кровоточащие вены, прежде чем пациент истечет кровью. Довольно скоро черная переваренная кровь начинала хлестать у пациентов из заднего прохода, и медсестрам приходилось все убирать. Многие больные в состоянии шока умирали на этом этапе. У других кровь из желудочно-кишечного тракта всасывалась, и кожа становилась ярко-желтой. Как правило, виной всему был алкоголь.
При укалывании иглой или попадании крови в глаза нам делали инъекции иммуноглобулина против гепатита В, чтобы снизить вирусную нагрузку, а затем делали дополнительную прививку от гепатита В. Несмотря на многократные инъекции, уровень моих собственных антител, кажется, никак не менялся. Кроме того, лекарства от гепатита С не существовало. Нам лишь оставалось ждать, разовьется у нас цирроз в будущем или нет. Хотя он с таким же успехом мог развиться из-за алкоголя.
Меня проверяли на вирусный гепатит каждый год, чтобы убедиться, что я не заражу своих пациентов. Однако купание в крови подходит не всем. Уколы иглами ужасали медсестер, и долгие периоды неопределенности держали их и членов их семей в страхе. В ходе одного германского исследования выяснилось, что 80 % людей, уколовшихся грязной иглой, находились в большом стрессе из-за своего будущего, что разрушало их личные отношения и сексуальную жизнь. У некоторых даже развивался посттравматический синдром, который ослабевал только после того, как выяснялось, был пациент носителем вируса или нет. Однако проведение тестов без согласия пациента невозможно. Многие из тех, кто заразился гепатитом из-за наркотиков или сексуальной распущенности, не хотели раскрывать свои секреты. Им не было никакого дела до персонала, который пытался им помочь.
После 40 лет в хирургии, на протяжении которых я регулярно купался в жидкостях других людей и множество раз укалывался, я стал считать себя невосприимчивым ко всему.
Когда я был старшим резидентом в больнице Хаммерсмит на западе Лондона, меня всегда просили оперировать инъекционных наркоманов, что было связано с моим опытом в больнице Королевского колледжа. Признаться, я даже не утруждался тем, чтобы попросить их заранее сдать анализы. Я просто предполагал, что у них всех гепатит, и просил медсестер учитывать это и принять дополнительные меры предосторожности. В конце 1970-х годов это означало, что следует надеть две пары перчаток, непроницаемый капюшон, халат и защитные очки. Я называл медсестер «хрюшки в космосе», потому что они выглядели так, будто готовились высадиться на Луну. Но так они хотя бы ощущали себя в безопасности. Я не предпринимал никаких мер: работал как обычно, и в большинстве случаев все было в порядке. Как ни странно, женщины и мужчины в космических костюмах еще больше рисковали уколоться, потому что их страх заразиться приводил к значительному отклонению от протокола. Я не надевал вторую пару перчаток: эта мера не защитила бы меня от укола, однако снижала чувствительность моих пальцев. Я чувствовал себя студентом-параноиком, который надел сразу два презерватива, но не смог из-за этого насладиться сексом. Я вел себя так до той поры, пока травма головы не сделала меня бесстрашным. После этого жизнь стала гораздо проще.
Каждый раз, когда я оперировал наркомана с инфицированными клапанами сердца, мои ассистенты, которые обычно работали с удовольствием, куда-то исчезали. У одних начиналась мигрень, другим нужно было к врачу. Кто-то просто говорил: «Ни за что! Если хочешь это сделать – вперед». Более опытные хирурги считали, что наркоманы не стоят времени, потраченного на них в операционной, потому что они всегда продолжали колоться зараженными иглами в грязных общественных туалетах. Из-за абсцессов на местах уколов их искусственные клапаны инфицировались бы всего через несколько месяцев после операции. К сожалению, такой скептицизм был оправдан, хотя подобное отношение и может показаться бессердечным. За всю свою карьеру я прооперировал только одного наркомана, который сдержал свое обещание и завязал. Однако я, в отличие от своих ханжеских коллег, не считал себя Богом. У меня не было никакого желания судить своих пациентов.
Возможно, я был недостаточно объективен, потому что имел школьного друга с тяжелым детством, который упал в пропасть героиновой зависимости, чтобы сбежать от своих бед. Мы вдвоем ходили на матчи «Сканторп Юнайтед», но у него вскоре начался психоз, и он не получил никакой помощи: десять минут у терапевта и рецепт на валиум не спасут человека от шизофрении. Пара часов героиновой эйфории помогала ему держаться, но вскоре это его убило. Когда я видел его в последний раз, у него был сепсис, кожа в абсцессах, не функционировали почки, а сердце было инфицировано. Врачи просто позволили ему умереть.
К тому моменту, когда зависимые молодые люди оказывались в операционной, они всегда были в очень тяжелом состоянии. Их кровь кишела бактериями и вирусами, которые могли разрушить любой из сердечных клапанов, а иногда все сразу. Поскольку в правую половину сердца поступали бактерии из вен, в которые они делали инъекции, трехстворчатый клапан обычно разрушался первым. Инфицированные створки клапана покрывались наростами фибрина, из-за чего казалось, будто морские водоросли то вплывают в правый желудочек, то выплывают из него. Мы называли эти наросты вегетациями: они плохо выглядят, часто пахнут, как канализация, и их кусочки нередко становятся причиной абсцессов в легких.
Я видел, как нью-йоркские хирурги из Бронкса справлялись с этой проблемой. Когда я впервые заявил профессору Бенталлу о своем намерении прооперировать наркомана вопреки его совету, он спросил, чей клапан я собираюсь использовать. Он ожидал, что я отвечу «свиной», но я его удивил. Я сказал, что планирую просто удалить клапан и не заменять его, а если пациент сможет продержаться шесть месяцев без наркотиков, то я сделаю ему повторную операцию и поставлю свиной клапан. К моему большому удивлению, нью-йоркские наркоманы вполне нормально существовали несколько месяцев без трехстворчатого клапана, что, возможно, было связано с тем, что он переставал выполнять свои функции задолго до операции. Однако американцы не публиковали статей о своих успехах в этой сфере, потому что никого не интересовали наркоманы. По этой причине Бенталл посчитал меня сумасшедшим, когда я заявил, что удаление клапана – это шаг вперед.
В конце 1970-х годов «дополнительные меры предосторожности» при работе с гепатитом означали, что следует надеть две пары перчаток, непроницаемый капюшон, халат и защитные очки.
Конечно, большинство наркоманов переживали удаление клапана, но функциональность их сердца и толерантность к физическим нагрузкам резко ограничивались. Из-за свободного тока крови из правого желудочка обратно в венозную систему печень увеличивалась, отекала и становилась болезненной. Если бы наркоманы отказались от инъекций, они получили бы новенький клапан. В противном случае им предстояло медленно умереть от недостаточности правой половины сердца, боли в животе и повторяющихся эпизодов сепсиса. В Хаммерсмите я провел несколько операций по удалению трехстворчатого клапана. Все пациенты излечились от эндокардита, но ни один из них не бросил героин и не прожил достаточно долго, чтобы получить свиной клапан. Таким образом, я экономил для Национальной службы здравоохранения пару тысяч фунтов во время каждой операции и снимал груз со своей души, что вообще брался за этих пациентов. Я никогда не ставил риск для своего здоровья выше потребностей пациента, но при этом не забывал, что другие опасаются за свою безопасность. Проблема заключалась в том, что чем больше они боялись, тем выше была вероятность ошибки.
Летом 1987 года я истратил годовой бюджет на кардиохирургию в Оксфорде и был изгнан из собственной операционной администрацией больницы.
Лето 1987 года. Я истратил годовой бюджет на кардиохирургию в Оксфорде и был изгнан из собственной операционной администрацией больницы. В то же время в одном из лучших кардиоцентров Саудовской Аравии заболел кардиохирург, и его требовалось заменить. Там отсутствовали финансовые проблемы, и меня тепло приняли. Моя жена Сара находилась на шестом месяце беременности, и мы собирались менять дом. Время было неподходящим, но я вскоре оказался под жарким солнцем пустыни с огромным объемом работ и потрясающей многонациональной бригадой.
Вскоре после моего приезда в Саудовскую Аравию в кардиоцентр поступил десятилетний мальчик с сепсисом. Филипп был младшим сыном высокопоставленного чиновника, работавшего в одном из европейских посольств Эр-Рияда. Мальчика послали учиться в одну из частных школ Англии, но у него постоянно появлялись синяки после незначительных ушибов, а затем началось спонтанное кровотечение в суставы. Сначала врачи предположили, что у него лейкемия, и когда диагноз не подтвердился, все испытали огромное облегчение. Следующим предположительным диагнозом стала аутоиммунная проблема с тромбоцитами, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура[36]. У моей жены Сары обнаружили это заболевание, когда она была студенткой в Лондоне, и из-за него ей пришлось удалить селезенку. У нее были такие же симптомы, как у Филиппа.
Когда и этот диагноз оказался ошибочным, врачи выяснили, что у мальчика дефицит фактора свертывания крови VIII. Иными словами, у ребенка была гемофилия[37], и объем его плазмы составлял всего 5 % от нормы. Теперь он зависел от регулярных вливаний фактора свертывания VIII, которые ему начали делать еще в Лондоне. Тогда же врачи услышали у него шум в сердце и обнаружили небольшой дефект межжелудочковой перегородки. Детский кардиолог сказал, что отверстие, вероятно, затянется со временем и что в операции нет необходимости. Родители испытали большое облегчение, потому что операции на сердце больных гемофилией проходили тяжело. Из-за нехватки фактора свертываемости VIII у пациентов не прекращается кровотечение.
Так почему он на этот раз оказался в больнице? Неделями мальчик терял вес и в целом плохо себя чувствовал, и теперь от него оставались лишь кожа да кости, что выглядело особенно пугающе из-за распухших и деформированных суставов. Несмотря на включенный на полную мощность кондиционер, он обливался потом по ночам. Еще мальчика бил озноб: он дрожал, как в эпилептическом припадке. Он также испытывал боли в груди, которые усугублялись во время глубокого вдоха. Они объяснялись плевритом и так называемыми инфарктами легкого, обусловленными эмболией.
Уважаемый американский детский кардиолог поставил диагноз за пять минут. У Филиппа был эндокардит трехстворчатого клапана в сочетании с инфицированным дефектом межжелудочковой перегородки. Его лечили комбинацией мощных антибиотиков, но лихорадка не ослабевала. Эхокардиограммы показали разросшуюся вегетацию на клапане, которая могла прорасти в левый желудочек и привести к инсульту. Меня попросили зашить отверстие в сердце и либо исправить, либо заменить протекающий клапан. Восстановить клапан было очень сложно, учитывая, что его створки пожирали агрессивные микроорганизмы. Моим пациентом был ребенок, поэтому я не мог просто удалить клапан, как делал это, оперируя наркоманов. В худшем случае мне пришлось бы поставить ему свиной клапан.
Я уже знал о зараженных препаратах крови и эпидемии СПИДа среди больных гемофилией. В 1981–1984 гг. половине больных гемофилией американцев перелили зараженную кровь, из-за чего многие умерли в течение десяти лет. То же самое произошло в Оксфорде, и судебный процесс по этому делу все еще продолжался в 2018 году. СПИД мог объяснить истощение мальчика, как, в принципе, и эндокардит. Правильно было бы проверить ребенка на ВИЧ и гепатит, чтобы в случае положительных результатов предупредить персонал. Для этого требовалось срочно получить разрешение его родителей, но в больнице появлялась только мать Филиппа. Меня спросили напрямую, возьмусь ли я оперировать мальчика, если окажется, что у него СПИД. Я без колебаний согласился: бедный парень и так много страдал за свою короткую жизнь, и он точно умер бы в течение нескольких дней, если бы никто не решился ему помочь. Я предпочитал не думать об опасности для себя. Так поступают хирурги. Или поступали.
Мать мальчика, француженка по национальности, сразу обиделась, когда зашла речь о СПИДе и ее сыне. Она настаивала на том, что раньше медицинский персонал никогда об этом не говорил, и заявила, что никто из ее знакомых из клиники по лечению гемофилии не был заражен ВИЧ. В какой клинике наблюдался мальчик? Она не ответила. Его проверяли на гепатит? Да, и результат был отрицательным. Мой американский коллега чувствовал противостояние и был готов вот-вот сорваться. Женщина и так пребывала в стрессе из-за предстоящей операции сына, и ее мужа не было рядом. Это была Саудовская Аравия со строгими законами и другой культурой, где слово «СПИД» считалось ругательством.
В 1981–1984 гг. половине больных гемофилией американцев перелили зараженную кровь, из-за чего многие умерли в течение 10 лет.
Я распорядился о срочной операции и решил предупредить персонал о потенциальной опасности. Меня больше всего беспокоил вопрос, как справиться с кровотечением. Мне требовалось организовать связь между анестезиологами, перфузионистами, гематологами и банком крови. Существовали ли какие-то правила проведения операций на сердце детей, больных гемофилией? В 1987 году – нет, поэтому нам приходилось действовать самостоятельно. Сколько концентрата фактора свертываемости VIII требовалось перелить, чтобы поднять его уровень с незначительного до нормального и снизить риск кровотечения? Это зависело от веса ребенка. Сколько еще концентрата этого фактора необходимо перелить во время подключения мальчика к аппарату искусственного кровообращения и после операции, чтобы поддерживать его содержание в крови? Мы сами рассчитали дозировку и заказали концентрат в одной британской фармацевтической компании. Я не мог проводить операцию без него, поэтому попросил срочно доставить нам препарат в течение ночи. Мы решили отслеживать уровень фактора свертываемости VIII каждые шесть часов в дни после операции и стараться держать его в норме хотя бы неделю. Во время и после операции я собирался вводить мальчику волшебный препарат апротинин, сохраняющий клейкость тромбоцитов.
Я попросил Джули, энергичную и веселую австралийку, которая прекрасно справлялась со своей работой, быть моей операционной медсестрой и сообщил ей, что ребенок вряд ли болен гепатитом или СПИДом. Я не мог гарантировать, но мать заверила нас в этом. В то время наблюдалась всеобщая истерия, связанная со СПИДом, потому что ни одна противовирусная терапия не была эффективна в борьбе с ним, и уровень смертности оставался высоким. Многим казалось бессмысленным оперировать ВИЧ-положительных пациентов, потому что им суждено было умереть, что бы ни предпринимали. Попытки бороться с резко отрицательным отношением к гомосексуалистам практически не имели успеха в Саудовской Аравии. Даже Джули отреагировала на мою просьбу без энтузиазма, что было для нее нехарактерно, однако все же согласилась подавать инструменты и следить за моей безопасностью. Я объяснил бригаде, что нам просто нужно принять те же меры предосторожности, что и с пациентами, больными гепатитом. Возможно, отказ матери от серологического анализа о чем-то говорил.
В конце 1980-х в Саудовской Аравии слово «СПИД» считалось ругательством, и было сложно выяснить, проверяли ли пациента на этот диагноз ранее.
У меня был хитрый хирургический план для мальчика. Я собирался очистить самую крупную створку трехстворчатого клапана, а затем частично срезать ее, чтобы обеспечить доступ к отверстию между двумя желудочками. Я хотел поставить заплату из дакрона, а затем увеличить и восстановить переднюю створку с помощью ткани перикарда пациента. Хирурги всегда должны иметь стратегию, но именно непредсказуемость делает экстренные операции такими захватывающими. Я не собирался ничего усложнять. Если бы клапан совсем развалился, я бы просто заменил его. Это была бы простая операция, которую мне не пришлось бы долго обдумывать. Мне требовалось лишь избежать накладывания швов в том месте, где невидимая проводящая система сердца проходит рядом с септальной створкой. Если бы я повредил эту проводящую систему, мальчику пришлось бы пожизненно ходить с кардиостимулятором.
В 1980-х гг. не было правил по проведению операций детям, больным гемофилией, поэтому нам приходилось действовать самостоятельно.
Во время операции я сосредоточился на технических тонкостях процедуры и на работе аппарата искусственного кровообращения: когда охладить тело, когда разогреть, когда уменьшить ток крови, когда увеличить. Я контролировал уровень калия в крови и объем выделяемой мочи. Я сосредоточился на опасности для пациента, а не на рисках для себя, но моим ассистентам было сложно сделать то же самое. Гепатит опасен, но укол иглой с сывороткой крови ВИЧ-инфицированного пациента до смерти пугал медицинских работников.
Тем не менее Джули в то утро пребывала в привычном для нее хорошем настроении, излучая очарование и спокойствие. Все медсестры надели перчатки и пластиковые щитки для лица вне зависимости от того, стояли они у операционного стола или нет. Они брали испачканные тампоны только длинными металлическими щипцами, а затем сразу бросали их в пластиковое ведро. Джули надела две пары перчаток, набросила на голову никаб и защитила глаза от крови очками.
Филипп, лежавший на операционном столе, выглядел очень жалким со своими деформированными суставами, истощенным торсом и тоненькими конечностями, покрытыми синяками. С переливанием фактора свертываемости VIII было покончено. Я сказал Джули и своим хирургам-ассистентам отойти, пока пила разбрызгивала костный мозг на драпировки, а большое количество жидкости соломенного цвета из пространства вокруг сердца и легких сливалось в резервуар отсасывателя. Из-за нефункционирующего трехстворчатого клапана правое предсердие было сильно увеличено, и темная кровь брызгала, пока я накладывал кисетный шов, которым закрепил канюли аппарата искусственного кровообращения. Чтобы Джули не пришлось прикасаться к иглам, я аккуратно положил иглодержатели на магнитный коврик рядом с трубкой аппарата. Она могла избежать контакта с грязными иглами, просто вытряхнув их из иглодержателя в бак для острых инструментов.
Гепатит опасен, но укол иглой с сывороткой крови ВИЧ-инфицированного пациента пугал моих ассистентов до смерти.
На первый взгляд трехстворчатый клапан напоминал горсть винограда и имел тошнотворный запах перевариваемого белка. Если бы я оперировал наркомана, то просто вырезал бы его, но в случае с ребенком я должен был что-то сделать с этой гниющей тканью. Мой настрой стал более оптимистичным, после того как я удалил большую часть вегетации и поместил в пробирку для бактериологического анализа. Напряженные плечи Джули тоже заметно расслабились к тому моменту. Она успокоилась, поняв, что я делаю все возможное ради ее безопасности. В передней створке клапана находилось большое отверстие посредине, которое я просто увеличил, чтобы увидеть дефект межжелудочковой перегородки прямо внизу. Отверстие было забито гадостью, вызванной инфекцией, и мне пришлось удалить ее отсасывателем. Было крайне важно, чтобы она не попала в левый желудочек, откуда могла проникнуть в мозг мальчика.
Я закрыл отверстие в межжелудочковой перегородке с помощью заплаты из дакрона, а затем заменил большую часть переднего клапана кусочком перикарда. Никаких сложностей не возникло, и сердце легко сошло с аппарата искусственного кровообращения, после чего мальчику ввели антибиотики, направленные на борьбу с микроорганизмами. Все шло по плану, поэтому напряжение в операционной стало рассеиваться. Я взял скальпель № 11, чтобы сделать отверстия в груди для дренажных трубок, а затем осторожно положил его на магнитный коврик, чтобы Джули могла выбросить лезвие.
Когда дренажные трубки и два провода кардиостимулятора были на месте, я собрался зашивать грудину. Мне требовалось вставить проволоку из нержавеющей стали в толстую и острую иглу, которая вручную проталкивается сквозь кость. Я крепко зажал иглу между губок тяжелого металлического иглодержателя, который обычно подавала мне медсестра. В ходе этой потенциально опасной операции мы договорились, что Джули положит держатель на магнитный коврик, а я возьму его оттуда, чтобы избежать передачи острейшего инструмента из рук в руки.
Все шло гладко до тех пор, пока Джули не отвлеклась на то, чтобы сосчитать тампоны, прежде чем края грудины будут сшиты. Я положил на коврик иглодержатель, игла внутри которого была направлена вверх. Я смотрел на сердце, а не на Джули. Я ожидал, что она сразу же возьмет его и бросит в бак для острых инструментов. Однако она смотрела на другую медсестру, а не на меня.