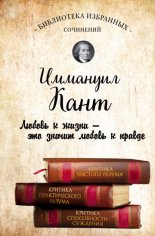Женщины Цезаря Маккалоу Колин
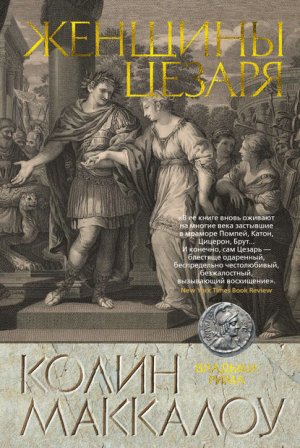
– Я бы дал за нее шесть или семь миллионов сестерциев, – сказал этот человек с легкой завистью.
– Нет, – отозвался Цезарь, подбрасывая жемчужину на ладони, – думаю, я сохраню ее. Фортуна подсказывает мне, что я должен оставить ее себе.
Легко относящийся к деньгам, Цезарь тем не менее умел их считать. И когда к концу февраля он их пересчитал, сердце его упало. В сундуке эдила собралось всего пятьсот талантов. Бибул дал понять, что внесет сто талантов на их первые игры, ludi Megalenses, празднество в честь матери богов Кибелы в апреле, и двести талантов на большие игры, ludi Romani, которые состоятся в сентябре. Цезарь вынужден был выложить тысячу талантов личных средств – это все, что у него было, кроме его бесценной земли, с которой он не мог расстаться. Благодаря этой земле он сохранял место в сенате.
Согласно подсчетам Цезаря, ludi Megalenses обойдутся в семьсот талантов, а ludi Romani – в тысячу семьсот. Тысяча семьсот талантов – почти все, что у него было. Дело в том, что Цезарь намеревался устроить больше двух игр. Каждый курульный эдил должен организовывать игры, и чем грандиознее окажутся эти игры, тем больше почета заслужит эдил. Цезарь хотел еще провести на Форуме погребальные игры в честь своего отца. Он полагал, что они обойдутся ему в пятьсот талантов. Придется занять денег, затем обидеть всех, кто голосовал за него, продолжая штрафовать нарушителей для пополнения фонда. Неразумно! Марк Красс вытерпел все это только потому, что, несмотря на скупость и глубокое убеждение в том, что человек обязан помогать своим друзьям даже за счет государства, он действительно любил Цезаря.
– Ты можешь взять у меня все сбережения, Павлин, – сказал Луций Декумий, присутствовавший при подсчете.
Усталый и немного обескураженный, Цезарь тепло улыбнулся этому странному старику, который составлял важную часть его жизни.
– Что ты, отец! На то, что у тебя есть, не нанять и пару гладиаторов.
– У меня почти двести талантов.
Цезарь присвистнул:
– Я понял, что выбрал не ту профессию! И это ты сумел скопить за все годы, что обеспечивал покой и защиту жителей между Священной дорогой и спуском Фабрициев?
– Вроде того, – смиренно ответил Луций Декумий.
– Придержи их, отец. Не давай мне.
– Но где же ты собираешься достать остальные деньги?
– Я займу их в счет того, что заработаю пропретором в хорошей провинции. Я уже написал Бальбу в Гадес, и тот согласился дать мне рекомендательные письма нужным людям здесь, в Риме.
– А ты не можешь занять у него?
– Нет. Он – друг. Я не могу занимать у своих друзей, отец.
– Да, ты странный человек! – сказал Луций Декумий, качая седой головой. – Ведь для этого и существуют друзья.
– Только не в моем случае, отец. Если что-то произойдет и я не смогу вернуть долг, пусть лучше это будут незнакомые люди. Мне невыносима сама мысль о том, что мой идиотизм может стать причиной банкротства моих друзей.
– Если ты не сможешь вернуть деньги, Павлин, тогда я скажу, что с Римом покончено.
Цезарь вздохнул с некоторым облегчением.
– Согласен, отец. Я верну деньги, не тревожься. Тогда о чем же я сам-то беспокоюсь? – радостно продолжал он. – Я займу денег столько, сколько надо, чтобы стать величайшим эдилом в истории Рима!
И Цезарь начал занимать. В конце года у него накопилось тысяча талантов долга. Тысяча, а не пятьсот, как он предполагал. Немного помог Красс, пошептав ростовщикам, что у Цезаря блестящее будущее, так что не стоит заламывать большие проценты. Бальб тоже помог, сведя его с людьми благоразумными и не очень жадными. Легальная ставка – десять процентов. Единственное условие – Цезарь должен был начать выплачивать долг в течение года, иначе процент изменится с простого на сложный. И тогда он должен будет выплачивать проценты с тех процентов, под которые он занимал, а также с занятого капитала.
Ludi Megalenses были первые игры года и с религиозной точки зрения наиболее торжественные. Вероятно, потому, что они возвещали приход весны (в те годы, когда календарь совпадал с сезонами). И появились они после второй войны, которую Рим вел с Карфагеном. Именно тогда Ганнибал прошел по всей Италии. Именно тогда поклонение Великой Матери, великой азиатской богине земли, было введено в Риме. Храм ее воздвигли на Палатине с видом на долину Мурции и Большой цирк. Во многих отношениях культ Великой Матери был чужд консервативному Риму. Римляне питали отвращение к евнухам и ритуалам самобичевания. Это считалось религиозным варварством. Однако культ богини был введен в тот момент, когда весталка Клавдия чудесным образом сдвинула севшую на мель баржу со священным камнем Великой Матери. И теперь Рим вынужден был страдать от последствий ее подвига, например когда жрецы-кастраты, истекающие кровью от нанесенных себе ран, орали на улицах в четвертый день апреля, таская за собой изображение Великой Матери и выпрашивая подаяния у тех, кто вышел посмотреть на эту прелюдию к играм.
Сами игры были типично римскими и длились шесть дней, с четвертого по десятое апреля. В первый день – процессия, затем церемония в храме Великой Матери и наконец зрелища в Большом цирке. Следующие четыре дня посвящались театральным представлениям в нескольких временных деревянных строениях, специально для этого воздвигнутых. В последний день игр процессия богов шествовала от Капитолия к цирку, а затем в течение нескольких часов проходили гонки на колесницах в самом цирке.
В качестве старшего курульного эдила Цезарь должен был председательствовать в первый день игр и приносить Великой Матери на удивление бескровную жертву. На удивление – потому что Кубаба Кибела была известна своей кровожадностью. Жертвой служило блюдо трав.
Некоторые называли эти игры «Играми патрициев», потому что вечером первого дня, согласно обычаю, патрицианские семьи ходили друг к другу в гости. Принимать в эти дни они могли только патрициев. Считалось благоприятным знаком для патрициата, когда курульный эдил, приносящий жертву, принадлежал к их сословию – как, например, Цезарь. Бибул был плебеем и в день открытия игр чувствовал себя изгоем. Цезарь занимал специальное место на широких ступенях храма вместе с патрициями, оказывая особую честь роду Клавдиев Пульхров, имевших непосредственное отношение к присутствию Великой Матери в Риме.
Хотя в этот первый день эдилы и должностные лица не спускались в Большой цирк, а наблюдали за происходящим со ступеней храма Великой Матери, Цезарь устроил пышное представление. Обычно толпа, следовавшая за кровавой процессией богини, довольствовалась борьбой. Время не позволяло устроить гонки на колесницах. Но Цезарь придумал нечто более оригинальное. Он отвел воду из Тибра через Бычий форум, чтобы имитировать реку на арене цирка, где spina – перегородка – служила островом, разделяющим этот поток. Под восторженные крики толпы весталка Клавдия с усилием тащила баржу от того конца Бычьего форума, где в последний день будут установлены стартовые ворота для колесниц, обвела ее вокруг spina и поставила у Капенских ворот. Баржа блестела позолотой, ее пурпурные паруса украшала вышивка. Все жрецы-евнухи собрались на палубе вокруг черного стеклянного шара, представляющего священный камень. Высоко на корме стояла статуя Великой Матери в колеснице, запряженной парой львов в натуральную величину. Цезарь не стал нанимать силача, одетого весталкой Клавдией. Он взял хрупкую, стройную красивую женщину, а мужчин спрятал в воде по самые плечи, чтобы они незаметно толкали баржу с позолоченным корпусом.
После этого трехчасового зрелища восторженная толпа начала расходиться по домам. Цезарь стоял, окруженный восхищенными патрициями, принимая их преувеличенные комплименты по поводу его вкуса и воображения. Бибул понял намек и ушел рассерженный, потому что никто не обращал на него внимания.
Не менее десяти театров было построено от Марсова поля до Капенских ворот. Самый большой из них вмещал десять тысяч зрителей, самый маленький – пятьсот. Не желая, чтобы театры выглядели тем, чем они являлись на самом деле, то есть времянками, Цезарь настоял на том, чтобы их покрасили и позолотили. Фарсы и мимы ставили в больших театрах, пьесы Теренция, Плавта и Энния – в меньших по размеру, а Софокла и Эсхила – в самых маленьких, построенных в греческом стиле. Трагедии исполнялись на любой вкус. В течение четырех дней все десять театров играли с раннего утра и почти до сумерек. Наслаждение. Истинное наслаждение, Цезарь устроил бесплатные закуски и напитки во время перерывов.
В последний день процессия собралась на Капитолии и прошла вниз через Римский форум и по улице Триумфаторов к Большому цирку, неся позолоченные статуи богов – Марса и Аполлона, Кастора и Поллукса. Поскольку платил за все Цезарь, было неудивительно, что Поллукс оказался куда меньше размером, чем его близнец Кастор. Смех, да и только!
Хотя предполагалось, что игры финансировало государство, и гонки на колесницах были дороги сердцу каждого зрителя, фактически государство никогда не давало денег на развлечения. Это не остановило Цезаря, который в тот последний день ludi Megalenses устроил такие гонки, каких Рим никогда прежде не видел. Как старший курульный эдил, Цезарь должен был объявлять забеги. В каждом забеге по четыре колесницы – красная, синяя, зеленая и белая. Первый забег – для колесниц, запряженных четырьмя конями в ряд. В других забегах участвовали колесницы, запряженные парой или попарно цугом. Цезарь также устроил забеги с участием одиночных всадников. Каждый забег объявлялся на пять миль – семь кругов вокруг перегородки-spina, украшенной множеством статуй. На одном ее конце находились семь золотых дельфинов, на другом – семь золотых яиц в больших кубках. Когда один круг кончался, нос одного дельфина опускался, а хвост поднимался и одно яйцо убирали из кубка. Каждый забег занимал четверть часа, что означало огромную скорость – дикий галоп. Если случались падения, то это обычно происходило, когда огибали metae, где каждый возничий с намотанными на талию вожжами и заткнутым за пояс кинжалом, чтобы освободиться от них при падении, ловко держался внутренней, более короткой стороны дорожки.
Толпа была в восторге, потому что Цезарь не делал длинных перерывов после каждого забега, а выпускал колесницы почти сразу друг за другом. Букмекеры пробирались между возбужденными зрителями, записывая ставки. Им приходилось безумно спешить, чтобы не отстать от хода событий. Все места были заняты. Жены сидели на коленях у мужей. Ни детей, ни рабов, ни даже вольноотпущенников не пускали, но женщины сидели рядом с мужчинами. На играх Цезаря в Большом цирке собрались более двухсот тысяч свободных римлян, а еще тысячи наблюдали происходящее со всех высоких точек на Палатине и Авентине.
– Это лучшие игры, когда-либо проводившиеся в Риме, – сказал Красс Цезарю в конце шестого дня. – Великолепная инженерная работа – отвести воду из Тибра, а потом убрать ее всю, чтобы земля высохла для гонок на колесницах.
– Эти игры – ничто, – усмехнулся Цезарь, – совсем нетрудно было использовать воду распухшего от дождей Тибра. Подожди до сентября, когда ты увидишь ludi Romani. Лукулл будет просто раздавлен, если, конечно, пересечет померий, чтобы посмотреть на это диво.
Но между ludi Megalenses и ludi Romani Цезарь затеял еще нечто столь необычное и эффектное, что Рим говорил об этом несколько лет. Когда в начале сентября город задыхался от наплыва сельских жителей, которые ринулись туда посмотреть большие игры, Цезарь устроил погребальные игры в честь своего отца и использовал для этого весь Римский форум. Конечно, было жарко, на небе ни облачка. И он натянул над всей ареной тент из пурпурной парусины, прикрепив ее края к высоким зданиям на каждой стороне площади. Там, где не было зданий, вкопали столбы. Цезарь любил инженерное дело, ему нравилось изобретать, и он всегда лично следил за осуществлением своих проектов.
Но когда началось это невероятное строительство, прошел слух, будто Цезарь собирается показать бой тысячи пар гладиаторов. Катул срочно созвал сенат.
– Что ты задумал, Цезарь? – грозно вопросил Катул. – Я всегда знал, что ты намерен подорвать Республику, но тысяча пар гладиаторов, когда нет легионов, чтобы защитить наш любимый город? Это не тайно прорыть туннель для воды, это – использовать боевой таран!
– Что ж, – медленно произнес Цезарь, встав с кресла на курульном возвышении, – это правда, что у меня есть мощный таран. Правда также и то, что я тайно прорыл не один туннель. Но я всегда делал одно с помощью другого. – Он оттянул ворот туники и опустил голову, словно обращаясь к чему-то скрытому там, в глубинах одежды. – Я правду говорю, мой боевой таран? – Рука его упала, ворот туники встал на место. Цезарь поднял голову и пленительно улыбнулся. – Он говорит, что это правда.
Красс испустил нечто среднее между мяуканьем и воем, но прежде, чем его смех набрал силу, послышался радостный вопль Цицерона. Весь сенат грохнул от хохота. Катул потерял дар речи и побагровел.
После этого Цезарь назвал количество выступающих, которое он собирается выставить, – триста двадцать пар гладиаторов в серебряных доспехах.
Но перед началом погребальных игр новая сенсация привела в ярость Катула и его коллег. Когда занялся рассвет и Форум явился перед домами на краю Гермала – северо-западного склона Палатинского холма – подобно гомеровскому мягко колышущемуся винно-чермному морю, римляне, пришедшие сюда очень рано, чтобы занять лучшие места, увидели на Римском форуме кое-что еще помимо натянутого тента. Этой ночью Цезарь поставил все статуи Гая Мария на их пьедесталы и вернул боевые трофеи Гая Мария обратно в храм Чести и Доблести, который тот построил на Капитолии. И что могли поделать с этим консерваторы из сената? Ничего. Рим никогда не забывал – и не переставал любить – великолепного Гая Мария. Из всего, что сделал Цезарь за тот памятный год, когда был курульным эдилом, возвращение Гая Мария оказалось его величайшим свершением.
Естественно, Цезарь не упустил возможности напомнить всем выборщикам, кем он является. На каждой маленькой арене, где сталкивались пары гладиаторов, – на дне колодца комиция, в пространстве между трибуналами, около храма Весты, перед портиком Маргаритария, на Велии – везде он вывесил родословную своего отца, вплоть до Венеры и Ромула.
Через два дня Цезарь и Бибул открыли ludi Romani, которые на этот раз длились двенадцать дней. Шествие от Капитолия через Римский форум к Большому цирку заняло три часа. Старшие магистраты и сенат возглавляли процессию, за ними следовали юноши на красивых конях, затем все колесницы, которым предстояло участвовать в гонках, и атлеты, которые должны были состязаться. Сотни танцоров, фигляров, музыкантов; карлики, наряженные сатирами и фавнами; все проститутки Рима, облаченные в алые тоги; рабы, несущие сотни великолепных серебряных и золотых урн и ваз; ряженые воины в алых туниках с бронзовыми поясами, в удивительных шлемах с гребнем, угрожающе размахивающие мечами и пиками; жертвенные животные… И наконец, в последних, самых почетных рядах на открытых носилках из золота и пурпура – статуи двенадцати главных богов и множества других богов и героев, все искусно расписанные, в изысканных одеждах.
Поскольку римляне обожали цветы, Цезарь украсил Большой цирк мириадами живых цветов. Огромная аудитория доходила до обморочного состояния от запаха роз, фиалок, левкоев, желтофиолей. Раздавались бесплатные прохладительные напитки. Зрителей ожидали новшества всех видов, от канатоходцев до изрыгателей огня и полуголых женщин, готовых, казалось, вывернуться наизнанку.
Каждый день игр приносил что-то новое, а гонки на колесницах вообще превзошли все виденное Римом раньше.
Бибул жаловался всем подряд:
– Он обещал мне, что я буду Поллуксом при нем, Касторе. Он оказался прав! Лучше бы я сберег мои триста талантов. Ведь они пошли лишь на еду и вино, изливающееся в жадные глотки двухсот тысяч бездельников, а он поставил себе в заслугу все остальное.
Цицерон поделился с Цезарем:
– Вообще я не любитель игр, но, должен признаться, твои были великолепны. Самые роскошные в истории. Это похвально. Но вот что мне понравилось больше всего – они не были вульгарными.
Тит Помпоний Аттик, всадник-плутократ, сказал Марку Лицинию Крассу, сенатору-плутократу:
– Блестяще. Ему удалось дать заработать всем. Что за год выдался для цветочников и оптовиков! Они будут теперь голосовать за него на протяжении всей его политической карьеры. Не говоря уже о пекарях, мельниках… О, очень, очень умно!
А молодой Цепион Брут так объявил Юлии:
– Дяде Катону очень не понравились игры. Конечно, он дружит с Бибулом. Но почему твой отец всегда должен так выставляться?
Катон ненавидел Цезаря.
Вернувшись наконец в Рим – как раз в то время, когда Цезарь стал курульным эдилом, – он приступил к исполнению завещания своего брата Цепиона. Для этого пришлось пойти к Сервилии и Бруту, который в свои неполных восемнадцать лет уже преуспевал на Форуме, хотя еще не участвовал ни в одном судебном процессе.
– Мне не нравится, что теперь ты патриций, Квинт Сервилий, – сказал Катон, пунктуальный в отношении личных имен, – но поскольку я не хотел быть никем другим, кроме как Порцием Катоном, то полагаю, что должен это одобрить. – Он вдруг наклонился вперед. – Что ты делаешь на Форуме? Ты должен быть на поле сражения в чьей-нибудь армии, как твой друг Гай Кассий.
– Брут получил освобождение, – высокомерно пояснила Сервилия, подчеркивая имя своего сына.
– Никого нельзя освобождать от службы отечеству, кроме калек.
– У него слабая грудь, – сказала Сервилия.
– Его грудь скоро поправится, если он выполнит свой долг и начнет служить в легионах. Да и кожа станет получше.
– Брут пойдет служить тогда, когда я сочту, что он здоров.
– У него что, языка нет? – строго спросил Катон. Не так агрессивно, как до своей поездки на Восток, хотя и довольно напористо. – Неужели он не может отвечать за себя сам? Ты подавляешь мальчика, Сервилия. А это не по-римски.
Все это Брут слушал молча, обдумывая очень трудную дилемму. С одной стороны, он хотел, чтобы в этом – как и в любом другом – его мать потерпела поражение. Но с другой стороны, он очень боялся армии. Кассий с радостью пошел служить в легионы, а у Брута появился кашель, который все ухудшался. Больно было видеть, как он падает в глазах дяди Катона. Но дядя Катон не выносит слабость любого рода. Дядя Катон, обладатель множества наград за храбрость в бою, никогда не поймет людей, которые не испытывают радостного трепета, беря в руки меч. И Брут закашлялся. Кашель начался где-то внизу груди, поднимаясь к горлу и выдавая обильную мокроту. Брут в отчаянии посмотрел на мать, на дядю, пробормотал извинения и вышел.
– Видишь, что ты наделал? – упрекнула Сервилия, оскалив зубы.
– Ему следует заниматься физкультурой и больше бывать на воздухе. Я также подозреваю, что ты лечишь всякими снадобьями его кожу. Она выглядит ужасно.
– Брут – не твоя забота.
– По условию завещания Цепиона – моя.
– Им занимается дядя Мамерк, и он в тебе не нуждается. На самом деле, Катон, ты никому не нужен. Почему бы тебе не пойти и не броситься в Тибр?
– Я нужен всем, это очевидно. Когда я уезжал на Восток, твой мальчик стал ходить на Марсово поле, и некоторое время была надежда, что из него может получиться настоящий мужчина. А теперь я вновь вижу маменькину собачку! Более того! Как ты могла позволить ему заключить брачный контракт с девочкой без приличного приданого, еще с одной презренной патрицианкой? Какие же хилые дети у них будут!
– Надеюсь, – ледяным тоном произнесла Сервилия, – что у них родятся сыновья, подобные отцу Юлии, и дочери, похожие на меня. Что бы ты ни говорил о патрициях и о старой аристократии, Катон, отец Юлии обладает всеми римскими достоинствами – солдат, оратор, политик. И кстати, Брут сам желал этого брака. Мне даже жаль, что это была не моя идея. Кровь невесты так же хороша, как и его, а это намного важнее, чем приданое! Однако – чтобы ты знал! – ее отец гарантирует приданое в сто талантов. Впрочем, Брут не нуждается в девушке с большим приданым – теперь, когда он наследник Цепиона.
– Если он готов ждать невесту несколько лет, он мог бы подождать еще немного и жениться на моей Порции, – сказал Катон. – Я был бы очень рад этому союзу! Деньги моего дорогого Цепиона перешли бы к детям обеих ветвей его семьи.
– О, понимаю! – фыркнула Сервилия. – Так вот в чем дело, Катон? Не пожелал изменить имя ради наследства Цепиона, но зато какой блестящий замысел – получить деньги через женскую линию! Чтобы мой сын женился на рабском отродье? Только через мой труп!
– И все же это может случиться, – самодовольно сказал Катон.
– Если это случится, я накормлю девчонку горячими углями!
Сервилия напряглась, понимая, что ее уколы не выводят Катона из себя так, как раньше. Он стал холоден, отчужден, его трудно было ранить. И она выпустила свое самое мерзкое жало.
– Помимо того, что отец Порции – потомок рабыни, следовало бы подумать и о ее матери. Уверяю тебя, что никогда не разрешу моему сыну жениться на дочери женщины, которая не в состоянии дождаться, пока ее муж вернется домой!
В прежние дни он набросился бы на нее с оскорблениями и криками. Сегодня же он словно окаменел и долго молчал.
– Я думаю, этот факт следует прояснить, – наконец вымолвил он.
– С удовольствием. Атилия – очень шаловливая девочка.
– О Сервилия, ты – одна из самых веских причин, по которым Риму необходимы законы, обязывающие женщин держать язык за зубами.
Сервилия нежно улыбнулась:
– Спроси любого из твоих друзей, если не веришь мне. Спроси Бибула, Фавония или Агенобарба. Они были здесь и все видели. Это не секрет!
Он стиснул губы так плотно, что их не стало видно.
– Кто? – спросил он.
– Ну конечно, этот римлянин из римлян! Цезарь. И не спрашивай, который Цезарь. Ты знаешь, у какого Цезаря такая репутация. Да, это будущий тесть моего дорогого Брута.
Катон молча поднялся.
Он немедленно пошел в свой скромный дом, расположенный на скромной улице на Палатине, где он, не успев поздороваться с женой и детьми, разместил в единственной гостевой комнате своего друга-философа Афинодора Кордилиона.
Поразмыслив, Катон решил, что злая выходка Сервилии имела под собой основания. Атилия изменилась. Во-первых, она теперь редко улыбалась и позволяла себе заговаривать первой, не дожидаясь, когда к ней обратятся. Во-вторых, ее груди налились, и это почему-то оскорбляло его. Прошло целых три дня с тех пор, как Катон прибыл в Рим, но он еще не посетил ее спальню, чтобы утолить естественную потребность. Даже его глубокоуважаемый прадед Катон Цензор считал близость между мужем и женой (или рабыней и хозяином) вполне дозволенной. Более того, воистину восхитительной!
О, какой добрый, великодушный бог помешал ему? А ведь он мог воспользоваться ею, не зная, что она уже побывала в чьих-то руках! При этой мысли Катон содрогнулся и постарался подавить в себе отвращение. Цезарь. Гай Юлий Цезарь, худший из этой испорченной и развращенной компании аристократов. Что он нашел в Атилии, которую сам Катон выбрал только потому, что она была абсолютной противоположностью хорошо сложенной, смуглой, прелестной Эмилии Лепиде? Катон знал, что он немного туповат, потому что это вдалбливали ему с детства, но ему не пришлось долго отгадывать причину поступка Цезаря. Будучи патрицием, тот собирался сделаться демагогом, еще одним Гаем Марием. Сколько жен доблестных приверженцев традиций он соблазнил? Слухов ходило много. А он, Марк Порций Катон, еще даже не достиг сенаторского возраста… и все же его считают достойным противником. Это хорошо! Это говорит о том, что он, Марк Порций Катон, обладает силой и волей и может впоследствии приобрести большое влияние на Форуме и в сенате. Цезарь наставил ему рога! Ни на секунду не приходило Катону в голову, что причиной этого послужила Сервилия, поскольку он не знал о ее связи с Цезарем.
То, что начала смерть Цепиона, завершило предательство Атилии. Никогда не любить! Никогда, никогда не любить. Любовь означает бесконечную боль.
Катон не стал говорить с Атилией. Он просто позвал в свой кабинет управляющего и велел ему собрать вещи бывшей жены и выкинуть ее из дома, отослав обратно к брату. Несколько наскоро нацарапанных слов – и все. Атилия была разведена. И Катон не вернет ни сестерция из приданого распутницы. Сидя в кабинете, Катон слышал ее голос, вопли, рыдания, отчаянный зов детей, и все это время голос управляющего перекрывал все прочие звуки – от горестных криков до беготни рабов, торопящихся выполнить приказание хозяина. Наконец хлопнула входная дверь. После этого управляющий постучал в дверь кабинета:
– Госпожа Атилия ушла, господин.
– Пришли ко мне детей.
Ждать пришлось недолго, они вошли, сбитые с толку суматохой, не зная, что произошло. Оба ребенка были рождены от Катона. Он не мог отрицать этого даже теперь, когда его грызли сомнения. Порции исполнилось шесть лет. Высокая, худенькая, угловатая, с каштановыми волосами, густыми и вьющимися. У девочки были отцовские серые, широко расставленные глаза, его длинная шея, его нос, только поменьше. Катону-младшему – четыре года. Тощий мальчик, он всегда напоминал отцу, каким он сам был в те дни, когда этот выскочка-марс Силон высунул его из окна и грозился бросить на острые камни. Только Катон-младший рос скорее застенчивым, чем смелым, его легко было довести до слез. И, увы, уже сейчас было видно, что Порция умна. Она рождена маленьким оратором и философом. Бесполезные способности для девочки.
– Дети, я развелся с вашей матерью по причине ее неверности, – сказал Катон своим обычным жестким немелодичным голосом. – Она вела себя непристойно, доказав, что не может быть ни женой, ни матерью. Я запретил ей приходить в этот дом и вам не разрешаю видеться с ней.
Маленький мальчик едва ли понимал все эти взрослые слова, он почувствовал только, что случилось что-то ужасное и это касается мамы. Его большие серые глаза наполнились слезами, губы задрожали. Он не разрыдался только потому, что сестра вдруг крепко схватила его за руку – сигнал, что он должен держать себя в руках. А она, маленький стоик, готовая умереть, лишь бы доставить удовольствие отцу, стояла перед ним – преданная, несгибаемая, ни слезинки в глазах.
– Маму выслали, – сказала она.
– Можно и так сказать.
– Она еще гражданка? – спросила Порция неприятным голосом, очень похожим на голос отца.
– Я не могу лишить ее этого, Порция, да и не хочу. Я только лишил ее участия в нашей жизни, ибо она не заслуживает этого. Ваша мать – плохая женщина. Проститутка, шлюха, распутница, прелюбодейка. Она общалась с человеком по имени Гай Юлий Цезарь. Он – воплощение всего, что дорого патрициату: продажный, аморальный, устаревший.
– И мы никогда больше не увидим маму?
– Не увидите, пока вы живете под моей крышей.
Смысл взрослых слов наконец дошел до детей. И четырехлетний Катон-младший неутешно зарыдал:
– Я хочу мою маму! Я хочу мою маму! Я хочу мою маму!
– Плакать нехорошо, – сказал отец, – когда слезы льют по недостойному поводу. Ты будешь вести себя как настоящий стоик и перестанешь плакать. Это не по-мужски. Ты не должен встречаться с мамой. Порция, уведи его. В следующий раз, когда я буду разговаривать с вами, я хочу видеть мужчину, а не глупого сопливого мальчишку.
– Я объясню ему, – сказала Порция, глядя на отца со слепым обожанием. – Раз мы с тобой, папа, значит все хорошо. Мы больше любим тебя, чем маму.
Катон застыл.
– Никогда не любите! – крикнул он. – Никогда, никогда не любите! Стоик не любит! Стоик не хочет, чтобы его любили!
– Не думаю, чтобы Зенон запретил любовь, он порицал только недостойные поступки, – возразила дочь. – Разве неправильно любить все хорошее? Ты – хороший, папа. Я должна тебя любить. Зенон говорит, что это правильно.
Что же ответить на такие слова?
– В таком случае контролируй себя и никогда не допускай, чтобы любовь управляла тобой, – сказал он. – Ничто из того, что затуманивает ум, не должно управлять тобой. А эмоции затуманивают ум.
Когда дети удалились, Катон покинул комнату. Совсем недалеко, если пройти по колоннаде, его ждали Афинодор Кордилион, бутыль вина, несколько хороших книг и беседа. Отныне вино, книги и беседы должны заполнить образовавшуюся пустоту.
Да, Катону дорого стоила встреча с блестящим курульным эдилом, тем более что он так превосходно справлялся со своими обязанностями. И с таким вкусом!
– Он ведет себя так, словно он – царь Рима, – поделился Катон с Бибулом.
– Думаю, он и сам считает себя царем Рима, раздавая зерно и устраивая цирковые представления. И все грандиозно, от легкости, с какой он общается с простыми людьми, до высокомерия в сенате.
– Он – мой заклятый враг.
– Он – враг каждого, кто стоит за соблюдение mos maiorum: никто ни на йоту не должен быть выше представителей своего класса, – сказал Бибул. – Я буду бороться с ним, пока жив.
– Он – новый Гай Марий, – произнес Катон.
– Марий? Нет, Катон, нет! Гай Марий знал, что он никогда не станет царем Рима, ведь он был простым землевладельцем из Арпина, как и его сельский родственник Цицерон. Цезарь – не Марий, поверь мне. Цезарь – еще один Сулла. И это хуже, намного хуже.
В квинтилии того года Марк Порций Катон был выбран квестором и вытащил жребий старшего из троих городских квесторов. Двумя его коллегами оказались влиятельный плебей Марк Клавдий Марцелл и некий Лоллий из той пиценской семьи, которую Помпей Великий успешно забросил в самое сердце римского господства – сенат и комиции.
За несколько месяцев до вступления в должность, открывавшую путь в сенат, Катон занялся изучением торгового дела и соответствующих законов. Он нанял ушедшего в отставку счетовода казначейства, чтобы тот объяснил ему, каким именно образом tribuni aerarii, которые возглавляли эту сферу, ведут учет. Он зубрил эту науку до тех пор, пока не стал знать о государственных финансах столько, сколько знал Цезарь. Однако Катон не понимал того, что премудрости, запомнить которые ему стоило огромного труда, Цезарь схватывал на лету.
Квесторы легко относились к своим обязанностям, не утруждая себя контролем за казной. Важная часть работы городского квестора заключалась во взаимодействии с сенатом, который сначала обсуждал, а потом определял, куда следует направить государственные ресурсы. Квесторы обычно бегло просматривали казначейские книги и утверждали все цифры. Они также оказывали услуги своим друзьям и семьям, если эти люди почему-либо задолжали государству, закрывая глаза на этот факт или приказывая вымарать их имена из регистрационных книг. Короче говоря, квесторы, работающие в Риме, попросту предоставляли постоянным работникам казначейства самим заниматься всеми денежными вопросами. И конечно, никто из чиновников казначейства, не говоря уж о Марцелле и Лоллии, двух других городских квесторах, не имел ни малейшего понятия, что скоро все радикально изменится.
Катон, как всегда, решил и здесь навести порядок. Более того, он вознамерился явить себя большим ревнителем порядка, нежели Помпей Великий на Нашем море. На рассвете пятого дня декабря, в день вступления в должность, он постучал в дверь цокольного этажа храма Сатурна и понял, что, хотя солнце уже взошло, на работу еще никто не пришел.
– Рабочий день начинается с рассвета, – заявил Катон главе казначейства Марку Вибию, когда этот достойный человек прибыл, запыхавшийся, после того как за ним срочно послали.
– Такого правила нет, – вкрадчиво принялся объяснять Марк Вибий. – Мы работаем по расписанию, которое определили для себя сами. И это гибкое расписание.
– Чушь! – презрительно изрек Катон. – Я – избранный куратор этого учреждения. Я намерен следить за тем, чтобы сенат и народ Рима всегда точно знали, куда идет каждый сестерций налогоплательщиков. Не забывай: ты и все, кто здесь работает, получаете жалованье из тех же налоговых денег!
Не очень хорошее начало. И с этого момента дела для Марка Вибия пошли все хуже и хуже. Ему подкинули фанатика. Когда в прошлом Фортуна изредка наказывала его беспокойным квестором, Вибий ставил человека на место, не знакомя его со спецификой работы казначейства. Ретивый квестор делал только то, что ему разрешали. К сожалению, с Катоном эта тактика не сработала. Он обнаружил такие же знания, какими обладал и Марк Вибий. А может быть, и большие.
С собой Катон привел нескольких рабов, которых он обучил различным аспектам ведения финансовых дел. Ежедневно он являлся на рассвете с маленькой свитой и приступал к своему основному занятию – сводить с ума Вибия и его чиновников. «Что это? Почему это? Где был такой-то? Когда получал такой-то?» И так далее, и тому подобное. Катон был настойчив и придирчив. И от него нельзя было отделаться каким-нибудь небрежным ответом. Он оказался невосприимчив ни к иронии, ни к сарказму, ни к оскорблениям, ни к лести, ни к извинениям, ни к обморокам, ни к истерическим и сердечным приступам.
После двух месяцев такой жизни Марк Вибий собрался с духом и явился к своему патрону Катулу – в поисках утешения.
– У меня такое ощущение, – с возмущением жаловался Марк Вибий, – словно все фурии преследуют меня яростнее, чем преследовали Ореста. Мне все равно, что ты сделаешь, чтобы заткнуть рот Катону и выслать его, но я хочу, чтобы это было сделано! Я был твоим верным и преданным клиентом более двадцати лет, я – tribunus aerarius первого класса, и вот теперь мой рассудок и мое положение под угрозой. Избавься от Катона!
Первая попытка провалилась. Катул предложил сенату дать Катону специальное задание проверять армейские счета, коль скоро он так блестяще умел это делать. Но Катон просто рекомендовал четырех человек, которым можно было временно поручить эту работу, не входящую в сферу деятельности избранного квестора. Спасибо, он будет исполнять то дело, на которое поставлен народом Рима.
После первого провала Катул разработал более хитрые тактические ходы. И опять его постигла неудача. А метла тем временем тщательно выметала каждый угол казначейства, при этом не изнашиваясь и потому оставаясь в употреблении. В марте покатились головы. Сначала один, потом два, потом три, четыре, пять чиновников узнали, что Катон уволил их и очистил их рабочие столы. Затем, в апреле, опустился топор: Катон изгнал Марка Вибия, да еще и обвинил в мошенничестве.
Катул оказался в ловушке. Как патрон Вибия, он вынужден был лично защищать того в суде. Одного дня знакомства с документами оказалось достаточно: Катул понял, что проиграет. Пора было воззвать к сознательности Катона, к уважению освященных временем правил системы «клиент – патрон».
– Дорогой мой Катон, ты должен остановиться, – сказал Катул, когда суд прервался на день. – Я знаю, что бедняга Вибий был не особенно аккуратен. Да, ему следовало быть более внимательным к работе! Но он – один из нас. Увольняй всех счетоводов, выгоняй кого хочешь, но оставь на работе бедного Вибия. Пожалуйста! Я даю тебе слово консуляра и бывшего цензора: отныне Вибий будет вести себя безупречно. Отзови это ужасное обвинение! Оставь человеку хоть что-то.
Это было сказано вежливо, спокойно. Но у Катона имелась только одна градация громкости – голосить что есть мочи. Ответ он прокричал, как обычно, громогласно, так что все присутствующие замерли и повернулись к собеседникам, чтобы уловить смысл происходящего.
– Квинт Лутаций, тебе должно быть стыдно! – заорал Катон. – Как ты можешь быть таким безразличным к собственному dignitas? Откуда у тебя наглость напоминать мне о том, что ты консуляр и экс-цензор, а потом уговаривать не выполнять долг, которому я присягал? Вот что я скажу тебе: мне будет очень стыдно, если ты вынудишь меня позвать судебных приставов, чтобы они выгнали тебя за попытку извратить ход римского правосудия! Ибо именно это ты делаешь! Извращаешь римское правосудие!
Сказав это, Катон гордо отошел, оставив Катула стоять с открытым ртом. Катул пребывал в таком замешательстве, что, когда слушание возобновилось на следующий день, он вообще не явился в суд для защиты. Вместо этого Катул попытался исполнить свои обязанности патрона, уговорив жюри вынести оправдательный приговор, даже если Катону удалось представить больше улик, чем Цицерону в деле против Верреса. Катул не будет никого подкупать. Разговор дешевле и этичнее. Одним из присяжных был квестор Марк Лоллий, коллега Катона. И Лоллий согласился голосовать за вердикт ABSOLVO. Но он был очень болен, и Катул приказал принести его в суд на носилках. Вибия оправдали. Благодаря Лоллию голоса разделились поровну. А раз поровну – значит приговор оправдательный.
Расстроило ли это Катона? Ничего подобного. Когда Вибий появился в казначействе, Катон преградил ему дорогу. Катон не согласился вновь принять Вибия на работу. В конце даже Катул, которого позвали присутствовать при этой неприятной публичной сцене у дверей казначейства, вынужден был отступить. Вибий лишился места – и разговор окончен. После этого Катон отказался выплатить Вибию положенные деньги.
– Ты должен! – кричал Катул.
– Нет, не должен! – кричал Катон. – Он обманывал государство, он должен государству намного больше, чем положено ему при увольнении. Пусть это послужит Риму хотя бы малой компенсацией.
– Но почему? Почему? Почему? – требовал Катул. – Ведь Вибий был оправдан!
– Я не собираюсь засчитывать голос больного человека! – кричал Катон. – Из-за лихорадки Лоллий ничего не соображал!
Катул вынужден был отступить. Абсолютно уверенные в том, что Катон проиграет, уцелевшие чиновники казначейства уже собирались отпраздновать это событие. Но после того как Катул увел плачущего Вибия, они поняли все. Словно по волшебству все отчеты, все книги оказались на своих местах. Должников заставили выправить годы неплатежей, а кредиторам вдруг возвратили суммы, занятые несколько лет назад. Марцелл, Лоллий, Катул и сенат тоже поняли намек. Великая казначейская война закончилась. Только один человек устоял на ногах: Марк Порций Катон. Весь Рим хвалил его, пораженный тем, что правительство наконец-то получило деятеля столь некоррумпированного. Его нельзя ни уговорить, ни купить. Катон стал знаменитым.
– Знаешь, чего я не понимаю? – сказал потрясенный Катул своему любимому зятю Гортензию. – Что Катон делает со своей жизнью? Он действительно думает, что может набрать голоса своей неподкупностью? Это сработает во время трибутных выборов – может быть. Но если он будет продолжать так, как начал, то никогда не победит на выборах в центуриях. Никто из первого класса не захочет за него голосовать.
Гортензий был склонен к компромиссу:
– Я понимаю, в какое оскорбительное положение он тебя поставил, Квинт, но должен сказать, что восхищаюсь им. Потому что ты прав. Он никогда не победит на консульских выборах в центуриях. Вообрази, какая страсть нужна, чтобы сделать такого честного человека, как Катон!
– Ты – разводящий рыбу дилетант, – огрызнулся Катул, теряя терпение, – и денег у тебя куда больше, чем мозгов!
Выиграв Великую казначейскую войну, Катон принялся искать новые поля сражений. И преуспел, начав проверять финансовые записи, хранимые в Табуларии Суллы. Они могли быть устаревшими, но один комплект очень хорошо сохранившихся отчетов дал ему идею для следующей войны. Это были записи, перечисляющие всех тех, кому во время диктатуры Суллы были уплачены суммы в два таланта за убийство людей, объявленных государственными изменниками. Сами по себе списки ничего не говорили. Только цифры. Но Катон стал изучать каждого человека в этих списках. Всех, кому заплатили два таланта, и иногда не по одному разу. Он желал обвинить тех, кто получил их, прибегнув к насилию. В то время это было законно – убить человека из списка проскрибированных, но дни Суллы миновали. Катон мало задумывался о том, какие шансы будут в сегодняшнем суде у этих, тогда ненавистных и поносимых, людей. Даже если сегодняшние суды – детище Суллы.
К сожалению, одна маленькая червоточина испортила чистоту побуждений Катона. Ибо в этом новом проекте он увидел возможность затруднить жизнь Гаю Юлию Цезарю. Закончив год в должности курульного эдила, Цезарь получил другую должность. Он был назначен судьей в уголовном суде.
Катон никогда не думал, что Цезарь захочет сотрудничать с одним из boni и судить получателей двух талантов, которые совершали убийства ради вознаграждения. Он ожидал, что Цезарь применит привычную тактику председателя суда, которую обычно используют, желая вывести кого-либо из-под суда. К огорчению Катона, Цезарь не только согласился с ним, но даже предложил помощь.
– Присылай – я буду их судить, – весело сказал Цезарь Катону.
Разумеется, весь Рим гудел, когда Катон развелся с Атилией и отослал бывшую супругу к ее брату без приданого, указав на Цезаря как на ее любовника. Однако Цезарь полагал, что это еще не повод чувствовать неловкость при общении с Катоном. Не в характере Цезаря были и угрызения совести по поводу печальной участи Атилии. Сама виновата: могла ведь и отказать Цезарю. Таким образом, председатель суда по делам об убийствах и неподкупный квестор хорошо поладили между собой.
Спустя некоторое время Катон оставил в покое мелких рыбешек – всех этих рабов, вольноотпущенников и центурионов, которым зловещие два таланта потребовались для того, чтобы обеспечить себе более-менее приличное существование. Он решил выдвинуть обвинение против Катилины, повинного в убийстве Марка Мария Гратидиана. Это случилось после того, как Сулла одержал победу в сражении у Квиринальских ворот Рима. Марий Гратидиан был в то время шурином Катилины. Позднее Катилина наследовал его поместье.
– Катилина – дурной человек, и я намерен покончить с ним, – сказал Катон Цезарю. – Если я этого не сделаю, то в будущем году он станет консулом.
– Как, по-твоему, он решит действовать, став консулом? – полюбопытствовал Цезарь. – Я согласен с тобой, он дурной человек, но…
– Став консулом, он превратится в Суллу.
– В диктатора? Не сможет.
В эти дни в глазах Катона всегда стояла боль, но он сурово и твердо посмотрел в холодные, светлые глаза Цезаря:
– Он – из рода Сергиев, старейшего в Риме, как и твой, Цезарь. Если бы Сулла не был знатного происхождения, он не стал бы диктатором. Вот почему я не доверяю вам, аристократам древней крови. Вы все – потомки царей и поэтому сами хотите быть царями.
– Ты не прав, Катон. По крайней мере, в отношении меня. А что касается Катилины… Его деятельность при Сулле была, конечно, отвратительной. Так почему бы не попытаться? Просто я не думаю, что ты выиграешь.
– Нет, я выиграю! – крикнул Катон. – У меня десятки свидетелей, готовых поклясться, что видели, как Катилина отрубил Гратидиану голову.
– Тебе лучше отложить слушание до выборов, – посоветовал Цезарь. – Мой суд быстрый. Я не теряю зря времени. Если ты привлечешь его сейчас, слушание закончится прежде, чем завершится регистрация кандидатов на курульные выборы. Это означает, что в случае оправдательного приговора Катилина сможет баллотироваться. Но если ты обвинишь его позднее, перед самыми выборами, мой кузен Луций Цезарь как наблюдатель никогда не допустит в число кандидатов человека, обвиненного в убийстве.
– Это только отодвигает черный день, – упрямился Катон. – Я желаю, чтобы Катилину выгнали из Рима. Пусть и не мечтает стать консулом!
– Ну хорошо. После не пеняй, – сказал Цезарь.
Голова у Катона немного кружилась от одержанных побед. Суммы по два таланта потекли в казну, поскольку Катон настоял на исполнении закона, который консул-цензор Лентул Клодиан записал на таблицах несколько лет назад. А закон требовал возвращения этих денег, каким бы способом они ни были собраны. Катон не предвидел препятствий в деле Луция Сергия Катилины. Как квестор, он не выдвигал обвинение сам. Выбор обвинителя – Луция Лукцея, близкого друга Помпея и знаменитого оратора, – был хорошо продуман. Тонкий ход. Он показывал, что суд над Катилиной является отнюдь не прихотью фракции boni, но делом, к которому все римляне должны отнестись исключительно серьезно. Очень важное дело, объединившее представителей самых разных группировок. Один из друзей Помпея согласился ради этого даже на сотрудничество с boni. И Цезарь тоже участвует в этом!
Когда Катилина услышал, что именно для него готовят, он стиснул зубы и ругнулся. Дважды подряд ему отказывали в регистрации на консульских выборах из-за судебного процесса. И теперь вот – опять судебный процесс. Пора покончить с этими непонятными преследованиями, нацеленными в самое сердце патрициата. И кто этим занимается? Такой выскочка, как Катон, потомок раба! На протяжении жизни многих поколений Сергиям отказывали в высоких должностях из-за их бедности. Так происходило и с Юлиями Цезарями, пока богатства Гая Мария не позволили им вновь подняться. Что ж, Сулла вознес Сергиев еще выше, и Луций Сергий Катилина собирался усадить весь свой род в курульные кресла из слоновой кости, даже если для этого ему придется перевернуть весь Рим! Кроме того, у него была очень амбициозная жена – прекрасная Аврелия Орестилла. Он любил ее до безумия и хотел доставить ей удовольствие. А это означало – стать консулом.
И только когда Катилина понял, что суд состоится перед выборами, он решился на активные действия. На сей раз его оправдают вовремя, чтобы он успел баллотироваться. И он отправился к Марку Крассу и заключил сделку с этим сенаторским плутократом. В обмен на поддержку Красса в суде Катилина, став консулом, проведет в сенате и трибутных комициях два любимых Крассовых проекта: жители Галлии по ту сторону Пада станут полноправными римскими гражданами, а Египет официально войдет в империю Рима как область, подконтрольная Крассу.
Хотя Красс никогда не считался выдающимся адвокатом и не блистал ни техникой построения защиты, ни особым умом, ни великим ораторским искусством, он тем не менее обладал репутацией грозного сутяги – из-за упрямства и огромного желания всеми силами защитить даже самого бедного из своих клиентов. Его также уважали во всаднических кругах и искали дружбы с ним, потому что в основе всех деловых предприятий Рима лежал капитал Красса. В ту пору все жюри были тройственные: на треть они состояли из сенаторов, на треть – из всадников, принадлежавших к восемнадцати старшим центуриям, и на треть – из всадников младших центурий, tribuni aerarii. Поэтому Красс имел огромное влияние по меньшей мере на две трети любого жюри, и это влияние распространялось на тех сенаторов, которые заняли у него деньги. Все вышесказанное означало, что Красс не нуждался в подкупе жюри, чтобы обеспечить желаемый приговор. Жюри было настроено вынести правильный вердикт. С точки зрения Красса, разумеется.
Защита Катилины была проста. Да, он действительно отрубил голову своего шурина Марка Мария Гратидиана. Он не отрицает этого, потому что не может этого отрицать. Но в то время Катилина являлся одним из легатов Суллы и действовал по приказу Суллы. А Сулла хотел выстрелить головой Марка Гратидиана в сторону Пренесты, дабы убедить Мария-младшего в том, что самонадеянному юнцу не удастся дольше бросать вызов Сулле.
Цезарь председательствовал в суде, он терпеливо слушал речи обвинителя Луция Лукцея и его команды помощников и очень скоро понял, что суд не намерен приговаривать Катилину. Вердикт – ABSOLVO – большинством голосов. И даже Катон потом не смог найти убедительного доказательства, что Красс подкупил жюри.
– Я же говорил тебе, – напомнил Цезарь Катону.
– Это еще не конец! – рявкнул Катон и торжественно удалился.
Было выдвинуто семь кандидатур на должность консула, когда регистрацию прекратили. Картина вырисовывалась любопытная. Поскольку Катилина был оправдан, его зарегистрировали. А это означало, что к нему надлежало относиться как к претенденту на один из двух консульских постов. Как и говорил Катон, Луций Сергий Катилина был очень знатного происхождения. Он по-прежнему был обворожителен и обладал даром убеждения. Некогда перед ним не устояла весталка Фабия. Теперь настал черед избирателей. Катилина имел немало сторонников. Возможно, среди них и нашлось бы чересчур много людей, оказавшихся в рискованном финансовом положении, близком к банкротству, однако это отнюдь не умаляло его влияния. Кроме того, теперь все знали, что его поддерживает Марк Красс, а Марк Красс управлял очень многими выборщиками из первого класса.
Другим кандидатом оказался муж Сервилии – Силан. К сожалению, его здоровье оставляло желать лучшего. Будь он здоров и энергичен, он легко набрал бы нужное количество голосов. Но все помнили о судьбе Квинта Марция Рекса, оставшегося единственным консулом из-за смерти своего младшего коллеги, а потом и консула-суффекта. По внешнему виду Силана нельзя было уверенно сказать, что он благополучно протянет этот год, и никто не считал, что разумно отдавать всю власть одному Катилине, без коллеги. И даже поддержка Красса не играла тут решающей роли.
Еще одним был отвратительный Гай Антоний Гибрида, которого Цезарь безуспешно пытался осудить за пытки, нанесение увечий и убийство греческих граждан во время войн Суллы с Грецией. Гибрида избежал справедливого возмездия. Общественное мнение в Риме вынудило его уехать в добровольную ссылку на остров Кефалления. Порывшись там в древних курганах, он стал обладателем сказочного богатства, так что, когда он вернулся в Рим и узнал, что его изгнали из сената, он попросту начал все сначала. Прежде всего он вновь вошел в сенат, став плебейским трибуном. На следующий год с помощью взяток получил должность претора, горячо поддержанный амбициозным и способным «новым человеком» Цицероном, у которого имелась причина быть ему благодарным. Бедный Цицерон оказался в безвыходном финансовом положении из-за своей страсти к собиранию греческих статуй. Гибрида попросту одолжил ему денег, чтобы тот мог выпутаться. С тех пор Цицерон всегда брал его сторону. И сейчас знаменитый оратор усердно поддерживал Гибриду, поскольку Цицерон и Гибрида намеревались баллотироваться на консульские посты вместе. Цицерон внесет в их союз респектабельность, а Гибрида – деньги.
Человеком, который мог оказаться серьезным соперником Катилины, был, без сомнения, Марк Туллий Цицерон. Но у Цицерона не было знатных предков. Он был homo novus, «новый человек». Знание законов и ораторское искусство позволили ему подняться по cursus honorum, но большинство центурий первого класса, как и boni, считали Цицерона самонадеянным селянином. Консулами, безусловно, должны становиться исключительно римляне – и обязательно из знатных семей. Все, разумеется, знали, что Цицерон – честный и очень способный человек (равно как и то, что Катилина – весьма темная личность). И все равно в Риме полагали, что аристократ Катилина более достоин консульского звания, нежели выскочка Цицерон.
После оправдания Катилины Катон посовещался с Бибулом и Агенобарбом, который был квестором два года назад. Все трое заседали теперь в сенате – иными словами, пустили корни в ультраконсервативном лагере boni.
– Мы не можем допустить, чтобы Катилина стал консулом! – пронзительно кричал Катон. – Он соблазнил ненасытного Марка Красса, чтобы тот поддержал его!
– Согласен, – спокойно проговорил Бибул. – Вместе они разрушат устои mos maiorum. В сенат набьется полно галлов, а Рим приобретет на свою голову еще одну провинцию.
– Что нам делать? – спросил Агенобарб, молодой человек, более известный своим темпераментом, чем интеллектом.
– Мы поговорим с Катулом и Гортензием, – предложил Бибул, – и разработаем способ отвлечь первый класс от пагубной идеи сделать Катилину консулом. – Он прокашлялся. – Советую отправить на переговоры Катона.
– Я отказываюсь быть переговорщиком! – выкрикнул Катон.
– Да, я знаю это, – терпеливо проговорил Бибул, – но факт остается фактом: со времени Великой казначейской войны для большинства римлян ты стал легендой. Ты можешь быть самым младшим из нас, но ты и самый уважаемый. Катул и Гортензий хорошо знают это. Поэтому держать речь будешь ты.
– Это должен быть ты, – недовольно пробормотал Катон.
– Мы, boni, против тех, кто возносит себя над равными себе по положению, а я – boni, Марк. Любой, кто в данный момент подходит на эту роль лучше остальных, должен вести переговоры. Сегодня это ты.
– Чего я не понимаю, – сказал Агенобарб, – так это почему мы вообще должны искать встречи. Катул – наш предводитель, он и должен нас собирать.
– Он сейчас сам не свой, – объяснил Бибул. – Когда Цезарь унизил его в сенате своей выходкой с «боевым тараном», Катул утратил влияние. – Холодный, ясный взгляд перешел на Катона. – Да и ты вел себя с ним не слишком тактично, Марк, когда Вибия судили за мошенничество. С Цезарем все ясно, он соперник. Но любой предводитель очень много теряет, когда его порицают собственные приверженцы.
– Он не должен был говорить того, что сказал мне!
Бибул вздохнул:
– Иногда, Катон, от тебя больше вреда, чем пользы!
Катон написал записку, приглашавшую Катула на разговор, и поставил свою печать. Приятно удивленный Катул прихватил с собой своего шурина-зятя Гортензия (Катул был женат на Гортензии, сестре Гортензия, а Гортензий был женат на сестре Катула Лутации). То, что Катон искал его помощи, пролило бальзам на его раненую гордость.
– Согласен, нельзя допустить, чтобы Катилина стал консулом, – сурово подтвердил он. – Его сделка с Марком Крассом теперь известна всем, ибо ни один человек не в силах противостоять искушению похвастать удачей. На этой стадии он был убежден, что не может проиграть. Я много думал о проблеме и пришел к выводу, что мы должны использовать хвастовство Катилины о его союзе с Марком Крассом. Немало всадников ценит Красса – но лишь потому, что существуют границы его влияния. Думаю, значительное число всадников не захочет усиления влияния Красса благодаря притоку клиентов из-за Пада и египетским деньгам. Другое дело, если бы они поверили в то, что Красс поделит с ними Египет. Но к счастью, всем известно, что Красс не поделится. Хотя формально Египет будет принадлежать Риму, фактически он станет личным царством Марка Лициния Красса. Царством, которое он тотчас начнет обирать до нитки.
– Беда в том, – заговорил Квинт Гортензий, – что все остальные ужасно непривлекательны. Силан – да, если бы он был здоров. Но он болен. Кроме того, из-за своего недуга он отказался принять провинцию, когда закончился срок его преторства, и это произведет плохое впечатление на выборщиков. А некоторые из кандидатов – Минуций Терм, например, – безнадежны.
– Еще имеется Антоний Гибрида, – напомнил Агенобарб.
Бибул скривил рот:
– Предположим, мы согласимся на Гибриду. Пусть он скверный человек, но так монументально инертен, что никакого вреда Риму принести не сможет. Однако в таком случае нам придется согласиться и на самоуверенного прыща Цицерона.
Наступившее угрюмое молчание нарушил Катул.
– Которая из двух неприятных кандидатур предпочтительнее? – медленно проговорил он. – Хотим ли мы, boni, чтобы нами командовал Катилина с Крассом, победоносно дергающим его за ниточки? Или нам больше по душе низкорожденный хвастун Цицерон?
– Цицерон, – сказал Гортензий.
– Цицерон, – сказал Бибул.