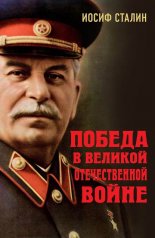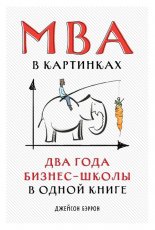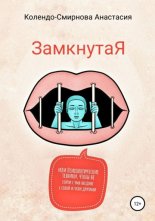Дом на краю света Каннингем Майкл

— Но если все-таки что-нибудь случится…
Я задержала дыхание и взглянула на него. Вот на самом деле почему я его ни о чем не расспрашивала: боялась, что вместо образа Джонатана-холостяка мне придется привыкать к образу урезанного в правах сексуального изгоя. Я понимала, что мне могут позвонить Бобби, Клэр или кто-то, кого я вообще никогда в жизни не видела, и продиктовать адрес больницы.
— Ну, — сказала я, — если что-нибудь случится…
— Если что-нибудь случится и тебе придется как-то разбираться с нами обоими — и с папой и со мной, — я не хочу, чтобы ты развеивала наш прах по пустыне. У меня от одной этой мысли мороз по коже. Хорошо?
Я ничего не ответила. Встала и разлила кофе.
— Значит, ты хочешь проделать это в Вудстоке? — спросила я, ставя на стол дымящиеся чашки.
— Может быть. Еще не знаю.
— Твое дело, — сказала я. — Как ты решишь, так и будет.
— Я понимаю. Я найду место. Может быть, съездим в кино?
— А может, лучше сыграем в «Скрэбл»?
— Замечательно, — отозвался он.
— Прекрасно. Ты начинаешь.
На следующий день мы отправились в аэропорт. Шкатулка с прахом Неда лежала в Джонатановой черной сумке на ремешке, между носками и нижним бельем. Я сказала, что я поведу, и Джонатан не протестовал. Было непривычно пасмурно, небо затянуто тяжелыми, но уже опроставшимися от дождя тучами, выползающими из-за Скалистых гор. В воздухе, как всегда, дрожал серебристый свет без тени, источником которого могла быть как земля, так и атмосфера.
Джонатан рассказывал мне о своем растущем интересе к плотничеству, когда я свернула с автострады на боковую дорогу.
— Эй, — сказал он. — Тут что, можно срезать?
— Нет. Нельзя.
— Куда мы едем?
— Сейчас увидишь.
— Я опоздаю на самолет, — сказал он.
— Не опоздаешь. Ну а в крайнем случае полетишь на следующем.
Узкая лента недавно заасфальтированной дороги вела в горы, к коттеджам богатых вдовцов и вдов. Там жил один из моих клиентов. Его дом был настолько искусно вписан в ландшафт, что почти сливался со скалами. А на полпути к этим фешенебельным жилищам находилась неглубокая лощина, скрывавшая один из сюрпризов пустыни: подземные воды залегали тут неглубоко, не заболачивая почву, но делая ее достаточно влажной для сочной травы и даже небольшой осиновой рощи, трепещущей в постоянной экзальтации.
Я остановилась в лощине. В такой облачный день это место казалось особенно красивым. Прозрачно светились бледные стволы и зеленые листья осин, а тонкий, как спица, солнечный луч высекал сноп искр из грубого красного бока соседней горы.
— Джонатан, — сказала я, — давай развеем прах здесь. Давай закончим с этим.
— Здесь? — переспросил он. — Почему здесь?
— А почему нет? Смотри, как здесь красиво.
— Да, но…
Он поглядел на заднее сиденье, где стояла его сумка.
— Доставай шкатулку, — сказала я. — Давай. К чему откладывать?
Он медленно обернулся назад, расстегнул сумку и с величайшей осторожностью извлек из нее шкатулку.
— Ты уверена? — спросил он.
— Абсолютно. Пошли.
Мы вылезли из машины и сделали несколько шагов в густой сухой траве. Джонатан нес шкатулку. Лениво жужжали мухи, на вершине большого розового камня застыла серая ящерка, настороженная и стремительная, как маленькая молния.
— Действительно красиво, — сказал Джонатан.
— Я иногда проезжаю через это место, — сказала я. — Там дальше живут мои клиенты. И теперь, когда бы ты ни приехал, мы бы могли тут бывать, если захочешь.
— Открыть шкатулку? — спросил он.
— Да. Это просто. Ты понимаешь, как она открывается?
— Думаю, что да.
Он дотронулся до защелки, но вдруг отдернул руку, так и не подняв крышки.
— Нет, — сказал он. — Я не могу. Это неправильное место.
— Солнышко, это просто пепел. Давай развеем его и будем жить дальше.
— Нет, я обещал. Это не то место. Он не этого хотел.
— Забудь о том, чего он хотел, — сказала я.
— Ты можешь забыть. Я не могу.
Он так крепко вцепился в шкатулку, что у него побелели пальцы. Словно он всерьез опасался, что я попытаюсь ее вырвать.
— Это несправедливо, — сказала я.
— Я не знаю, справедливо это или нет, но это правда. Мама, почему ты вышла замуж за папу?
— Я тебе уже говорила.
— Ты говорила, что на тебе были белые туфли, хотя День труда давно прошел, и что у отца были красивые густые волосы, и так как ты не смогла найти ни одного аргумента против, ты согласилась. Но разве это достаточная причина для того, чтобы выйти замуж и столько лет жить вместе? Или наша семья образовалась просто потому, что ты считала, что так положено: выйти замуж, завести ребенка?
— Ты все-таки думай, что говоришь, молодой человек. Я любила твоего отца. Ты не жил в этом доме. Не просыпался по ночам, когда он начинал задыхаться и паниковать.
— Верно. Но скажи, ты любила его? Вот что я хочу понять. Я знаю, что ты жертвовала собой, что ты помогала ему и все прочее. Но была ли ты в него влюблена?
— Матерям таких вопросов не задают.
Он продолжал сжимать в руках шкатулку.
— Мне кажется, я был влюблен в него, — тихо сказал он. — Я его обожал.
— Он был обыкновенный человек.
— Знаю. Ты думаешь, я этого не знаю?
Некоторое время мы не двигаясь стояли на краю осиновой рощи. Ничего не происходило. Совсем ничего. Джонатан сжимал в руках шкатулку. Его лицо приняло упрямое выражение. Глаза превратились в две узкие щелочки. Спустя несколько минут я сказала:
— Джонатан, ты должен найти кого-нибудь для себя.
— Я уже нашел, — сказал он.
Я испытала что-то вроде легкого головокружения, звенящий страх высоты и незащищенности. Мы всегда были такими осмотрительными и деликатными. И вот теперь, после стольких лет этой игры, когда надо было так много чего сказать друг другу, нам стало трудно общаться.
— Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, — сказала я.
Он раздраженно глядел куда-то мимо меня, и я снова увидела четырехлетнего малыша, которого знала лучше, чем саму себя. Только теперь это был человек с траурными, немного опустошенными кабинетными чертами, стареющий в манере английского профессора.
— Ты все не так себе представляешь, — сказал он наконец. — Наша жизнь совсем не такая, как ты думаешь.
— Я достаточно хорошо знаю женщин, — сказала я. — И поверь мне, ни одна женщина не позволит тебе иметь равные с ней права на ее ребенка.
Теперь он смог посмотреть на меня. Твердым и горящим взглядом.
— Ребекка не ее ребенок. Ребекка наш ребенок, — сказал он.
— Фигурально выражаясь.
— Нет. Буквально. Ни Бобби, ни Клэр, ни я не знаем, кто отец. Вот так.
Это была ложь. Я чувствовала — сама не знаю почему, — что он и эта женщина не любовники. Он выдумал это, как часто делал в детстве. Но я не стала его разоблачать.
— И Клэр тоже этого хотела?
— Да.
— Она могла сказать, что она этого хочет, — заметила я. — Она могла думать, что этого хочет.
— Ты совсем не знаешь Клэр. Ты думаешь, что говоришь о ней, а на самом деле говоришь о другом человеке.
— Нет, мой дорогой. Это ты ее не знаешь. А я-то как раз знаю, что значит верить в то, что люди, с которыми ты живешь, на самом деле не такие и что твоя жизнь тоже скоро будет совсем другой. Так вот, существуют универсальные законы. Женщина не будет делиться ребенком.
— Мама, — сказал он подчеркнуто спокойным голосом. — Мама, ты говоришь о себе. Это ты бы не стала делиться своим ребенком.
— Ты можешь послушать меня? Уходи и найди кого-то для себя. Рожай собственного ребенка, если ты этого хочешь.
— У меня есть ребенок, — сказал он. — Ребекка моя в той же мере, в какой чья-то еще.
— Три — нечетное число. Один обычно лишний.
— Мама, ты порешь чушь, — сказал он. — Ты ни черта в этом не понимаешь.
— Пожалуйста, выбирай выражения. Ты все-таки с матерью разговариваешь.
— А ты, пожалуйста, не спекулируй своим положением. Ты сама завела этот разговор.
И на это мне было нечего возразить. Это я спряталась в брак, в простую, безопасную круговерть бытовых мелочей. И теперь, стоя на краю осиновой рощи посреди пустыни, я завела этот разговор.
— Я только одно хочу сказать, — пояснила я, — похоже, есть что-то вроде критической массы. Даже когда людей только двое, это совсем не просто.
— А я, — сказал он, — сильно подозреваю, что все эти разговоры о критической массе не более чем попытка оправдания собственного статуса. Бобби, Клэр и я счастливы вместе и не собираемся расставаться.
— Но есть уроки истории.
— Ничто не стоит на месте. Мама, неужели ты не видишь, что мы живем уже совсем в другом мире? Может быть, завтра вообще конец света, так почему же мы должны вечно во всем себе отказывать?
— Люди рассуждают о конце света с тех пор, как мир стоит. Однако он все не наступает, да и сам мир не слишком-то изменился.
— Как ты можешь так говорить? — воскликнул он. — Посмотри на себя.
Я знала, что стою под открытым небом на меловой, красно-серой земле. Я знала, что на мне джинсы и замшевая куртка.
— Ты думаешь, что, когда дойдет до выяснения отношений, — сказала я, — Бобби выберет тебя? Ты на это рассчитываешь, да? Ты думаешь, что Клэр уйдет в тень, а вы с Бобби будете вдвоем растить этого ребенка, так, что ли?
Он взглянул на меня, и вдруг я все поняла. Все: его страсть к мужчинам, его чувство вины, его горечь и гнев. Я почувствовала это, потому что его гнев был женским гневом. В нем жило женское чувство предательства. Ему казалось, что его несправедливо вытеснили на периферию, что его любят не те и не за то. Был миг, когда я его испугалась. Испугалась собственного сына в этом безлюдном месте. Мы защитились молчанием. Это было единственное, что нам оставалось, чтобы не наброситься друг на друга с диким визгом, чтобы не начать кусаться и царапаться. Выяснять отношения более спокойным образом мы не могли — нам обоим было слишком не по себе.
— Ты не знаешь, о чем говоришь, — тихо повторил он, и в общем-то я готова была с этим согласиться. Мы потеряли друг друга. Мы были незнакомцами в некоем глубоком, непроницаемом смысле, бежавшем как подземная река под покровом нашей сердечной привязанности.
— Давай попробуем успеть на самолет, — сказала я.
— Давай.
— Что касается праха, это твое дело. Просто дай мне знать, что ты решил, когда решишь.
Он кивнул.
— Может быть, я когда-нибудь передам его Ребекке, — сказал он. — Вот, малыш, это тебе в наследство от семьи.
— А ты думаешь, ей будет понятно, что с ним делать?
— Если мое воспитание будет для нее хоть что-то значить, то да. Я хочу, чтобы, когда она вырастет, у нее не было проблем с тем, куда деть прах деда.
— Что ж, чудесно. Мне кажется, это было бы очень хорошо для нее.
— Ммм.
— Ладно, поехали, — сказала я. — Иначе ты точно пропустишь свой рейс.
Мы опять сели в машину и всю оставшуюся дорогу до аэропорта молчали. Джонатан положил шкатулку с прахом обратно в сумку и застегнул «молнию». Сидя за рулем, я пыталась сформулировать какое-нибудь родительское напутствие, но так и не смогла найти нужных слов. Хотя у меня было что ему сказать. Но на понимание этого ушло почти шестьдесят лет. Я хотела сказать ему, что мертвым мы должны еще меньше, чем живым, и что наша единственная, хотя и весьма сомнительная, возможность счастья — в безусловном приветствии перемен. Но я не смогла этого выговорить.
Так как мы опаздывали, я затормозила перед самым терминалом.
— Пока, мам, — сказал он.
— До встречи. Береги себя.
— Я только этим и занимаюсь.
— Не уверена. Беги. А то опоздаешь.
Он выпрыгнул из машины и перекинул сумку через плечо. Прежде чем броситься к самолету, он подошел к машине с водительской стороны.
— До встречи, — сказал он.
Может быть, он болен? Или просто стареет? Он выглядел ужасно изможденным. С неестественно большими глазами на осунувшемся лице.
— Джонатан, позвони мне, когда долетишь, хорошо? Просто чтобы я знала, что все нормально.
— Хорошо. Конечно.
Он наклонился к открытому окну, и я поцеловала его, некрепко, но прямо в губы. На прощанье. А еще через несколько секунд он, не помахав и не оглядываясь, скрылся из виду.
Джонатан
Мы с Бобби приехали на станцию за несколько минут до прихода поезда. Мы встречали Эрика. На таких пригородных станциях, обычно состоящих из бетонной платформы да небольшого — в данном случае темно-вишневого — зданьица размером с сарай, особенно остро ощущаешь всю степень своей заброшенности. Самое главное в прибывающем поезде то, что через пару минут он отправится дальше. Глядя на серебристую змею, огибающую ближайший холм, я уже представлял себе облако пыли, которое состав закружит при отправлении. Кусочки угля и бесхозный бумажный стаканчик взметнутся вверх и снова осядут, и все опять будет как было — тихо и сонно. На другой стороне полотна в зарослях крапивы и рогоза ржавел скособоченный красный автомат для продажи газет.
Я позвал Эрика, потому что мне было одиноко. Нет, неправда. К чему лукавить?! Переезжая в Вудсток, я рассчитывал, что здесь будет больше незанятых голубых. Я рисовал себе картины знакомства в барах и на дворовых распродажах. Но неожиданно выяснилось, что все местные голубые уже разбились на пары. И в конце концов я позвонил Доктору Филгуду и пригласил его на выходные.
Я нервничал и поэтому положил руку на плечо Бобби. Я не видел Эрика больше года. Кроме нас с Бобби на платформе находилась всего одна встречающая — тучная пожилая дама, со все возрастающим раздражением рывшаяся в своей белой соломенной сумке. Поезд выехал на финишную прямую. Персонаж из моей прежней, чуть более предсказуемой жизни должен был вот-вот посетить меня в моем новом, буколическом мире.
Поезд загрохотал и остановился. С тяжким стоном раскрылись двери. Сошла семья, потом лысый человек в коричневом костюме, за ним молодая полная женщина, которую встречала пожилая толстуха с соломенной сумкой. Я уж подумал, что по каким-то причинам Эрик вообще не приехал, как вдруг он появился на верхней ступеньке железной лесенки с голубым парусиновым чемоданом в руке.
Я все понял, как только взглянул на него. Когда такой поджарый человек, как Эрик, худеет даже на два килограмма, это и то заметно. А он похудел по меньшей мере на пять. Его кожа приобрела землисто-серый оттенок.
Он улыбнулся и начал медленно спускаться по ступенькам, словно балансируя невидимым кувшином на голове. Когда он ступил на перрон, Бобби подхватил его под локоть.
— Привет, — сказал Эрик, — вот и я.
— Вот и ты, — сказал я.
Поколебавшись секунду, мы обнялись. У меня было чувство, что я обнимаю связку жердей. Это был ужас. У меня закружилась голова, кровь застучала в висках. Мне захотелось броситься бежать, кинуться с платформы в рогоз. Мир раскололся на куски, перед глазами запрыгали разноцветные искры. В тот момент я был готов столкнуть его вниз, под поезд, чтобы его измололо в ничто. Чтобы он аннигилировался.
Но вместо всего этого я сжал его костлявые плечи и сказал:
— Рад тебя видеть.
Поезд тронулся, разгоняясь в сумасшедшем облаке сверкающей пыли.
— Спасибо, — сказал он. — Большое спасибо за приглашение. Сто лет не был за городом. Привет, Бобби.
Они с Бобби обменялись рукопожатием. Заметил ли что-нибудь Бобби или нет, сказать было трудно. Во всяком случае, на лице у него ничего не отразилось. Он взял у Эрика чемодан и понес его к машине с равнодушно-невозмутимым видом старого слуги. Эрик передвигался более или менее нормально, не считая того, что в его походке появилась особая старческая осмотрительность, будто его кости были мягкими и ломкими, как воск.
— Как добрался? — спросил я.
— Замечательно. Очень хорошо. Красивая дорога. Здесь правда красиво, да?
— Да, если в принципе любишь все такое.
Он моргнул. Прямые шутки Эрик понимал, с легкой иронией дело обстояло хуже.
— Нам нравится, — сказал я. — В этом месте есть законченность. Здесь все именно так, как и должно быть за городом: тишина, покой, скука…
— Аа, — сказал он. — Что ж, хорошо. Это хорошо.
Мы сели в машину и поехали домой. Бобби за рулем, Эрик рядом с ним на переднем сиденье, я сзади, на том месте, куда обычно сажают ребенка. Мы ехали знакомой дорогой, вокруг тянулись луга, на которые уже легла печать надвигающейся зимы, и мне безумно захотелось зарыться, исчезнуть в этих желтовато-зеленых стеблях. Четырнадцать месяцев назад, когда мы с Эриком последний раз занимались любовью, мы приняли меры предосторожности. Но меньше чем за год до этого вообще никак не предохранялись. Я провел кончиками пальцев по груди, глядя на траву, колышущуюся под широким небом.
— Бобби, — спросил Эрик, — ты перевез сюда свои пластинки?
— Конечно, — сказал Бобби. — Ты меня знаешь. У нас тут и проигрыватель, и все что нужно.
— Я тебе кое-что привез из города, — сказал Эрик. — Представляешь, оказывается, в финансовом районе есть большой музыкальный магазин.
— Я знаю этот магазин, — сказал Бобби. — Да. Я там бывал.
Мы ехали домой, кое-как поддерживая спазматический разговор. Я с удивлением отметил, что не спрашиваю Эрика о здоровье из деликатности. Не ужас, а именно чувство неловкости не позволяло мне завести разговор на эту тему, как если бы он вернулся с войны, потеряв руки или ноги. Со своего места я видел его грустную плешь, просвечивающую сквозь редкие волосы. И волосы, и кожа потеряли свой блеск, которым — как обнаружилось лишь теперь — они когда-то все-таки обладали. Эрик никогда не казался особенным здоровяком, но сейчас его волосы выглядели какими-то непредставимо безжизненными и ломкими, а кожа высохла и сморщилась. Я же перед лицом его очевидного увядания держался как ни в чем не бывало: указывал на мои любимые пейзажи, рассказывал о чудачествах местного населения и о нашем недавнем посещении сельской ярмарки, где гордо демонстрировались какие-то невероятные призовые огурцы и поросята по четыре центнера. Я все продолжал поглаживать грудь. Мы проехали через Гудзон. Баржи бороздили сверкающую коричневую воду. На дальнем берегу стояли желто-красные деревья, уже прихваченные первыми заморозками. За деревьями торчали облупившиеся усадьбы мертвых миллионеров, уставившиеся в холодное, льдисто-голубое небо.
Когда мы свернули на гравиевую дорожку к дому, Эрик едва не захлебнулся от восторга:
— Но это же потрясающе! Даже не верится, что это ваше.
Я никогда раньше не слышал у него такой интонации, такого голоса, дрожащего от восхищения. В этом было что-то неискреннее, фальшивый перебор. Словно он был женой амбициозного клерка, оказавшейся в загородном доме его начальника.
— Подожди, сейчас ты увидишь, каков он внутри, — сказал я. — Там практически еще ничего не готово.
— Нет, это просто фантастика! Фантастика! — воскликнул он. — И уже не важно, какой он внутри.
— Подожди-подожди, — сказал я.
Клэр с девочкой встретила нас на крыльце. Ребекка, только что выкупанная, уставилась на нас с таким потрясенным видом, словно никогда не видела ничего подобного: трое мужчин вылезают из машины и поднимаются по ступенькам.
— Привет, ребята, — сказала Клэр.
— Привет, — сказал Эрик, — рад тебя видеть. Вы посмотрите, какая малышка!
По лицу Клэр я понял, что она почувствовала неладное. Я почти физически ощущал работу, происходящую сейчас у нее в голове, — ее попытку сопоставить нынешнего Эрика с тем Эриком, которого она видела несколько лет назад. Неужели он и тогда был таким тощим и бледным? А его кожа настолько безжизненной?
— Да, вот познакомься, — сказала Клэр после секундной паузы. — Тебе повезло, сегодня у нас хороший день. Она с самого утра в ангельском настроении. Так что восхищайся ею скорее, долго такое продолжаться не может.
Было видно, что Эрик не знает, как вести себя с детьми. Сохраняя дистанцию в несколько шагов, он произнес:
— Привет, малышка. Привет.
Ребекка, пуская слюни, обалдело глядела то ли на него, то ли мимо. Она уже несколько месяцев как научилась говорить. Дома она могла болтать часами, перемежая общедоступные слова словами своего собственного изобретения. Но при посторонних умолкала и с упорной зачарованностью чуть испуганно смотрела прямо перед собой, ожидая, что произойдет дальше. В этих ее комплексах было что-то жертвенное, что-то почти сексуальное. Я кое-что понял в отцовстве: ребенка во многом любишь именно потому, что видишь его голым. У детей нет тайной жизни. По сравнению с младенцами все остальные кажутся такими закрытыми, закамуфлированными, вечно скрывающими какие-то маленькие грустные тайны. Спустя полтора года я понял, что в принципе могу себе представить, как со временем Ребекка начнет меня раздражать, сердить, расстраивать, но никогда уже она не сможет стать мне чужой. Ни при каких обстоятельствах — даже если будет весить сто пятьдесят килограммов. Или поклоняться тотему, или совершит преступление с целью наживы. Мы сроднились, и эту внутреннюю связь уже невозможно нарушить.
— А обнять? — сказал я ей.
Клэр с неохотой передала Ребекку мне. Когда я ее взял, она взглянула на меня с упрямым изумлением.
— Привет, мисс Ребекка, — сказал я.
И вдруг она расхохоталась, так неистово, словно я выпрыгнул из коробки, как игрушечный чертик.
Я крепко прижал ее к себе. Я уткнулся носом в ее пухлое плечико и вздохнул.
— Действительно интересно, — сказал Эрик, — в смысле, как вы тут живете. Действительно, очень-очень интересно.
— Мягко говоря, — сказала Клэр. — Заходи, я покажу тебе твою комнату. Как же мне всегда хотелось сказать кому-нибудь эту фразу!
Клэр и Эрик вошли в дом, Бобби последовал за ними с чемоданом. Я с Ребеккой остался на улице. В полдневном, золотистом, наполненном особой октябрьской тяжестью воздухе четко вырисовывалось каждое дерево на горном склоне. Между двумя опорами и перилами лестницы был туго натянут шестиугольник паутины, в центре которого сидел толстый крапчатый паук. Сколько мы ни боролись с паутиной, местные пауки — одни яркие, другие бледные, как пыль, — ткали ее снова. Ребекка что-то забормотала, а потом начала дико бить в ладоши — верный признак приближающегося плача. Я поглаживал ее по голове в ожидании неминуемых слез. У меня мелькнула мысль убежать с ней, просто взять ее с собой в горы.
— Еще очень много дел, — прошептал я. — Надо починить полы. А кухня вообще не начата.
Мы повезли Эрика на экскурсию в ресторан, который к тому времени функционировал настолько хорошо, что мы с Бобби даже могли оставить его на несколько часов на нашу повариху Марлис и ее любовницу Герт, новую официантку. Начиная все это, мы пытались воспроизвести то, чего нам так и не удалось обнаружить на пути из Аризоны в Нью-Йорк: немного нелепое маленькое кафе, где подавали бы добротные блюда, только что приготовленные своими руками. Как выяснилось, этого хотели не только мы. Наш ресторанчик всегда был набит до отказа, а по выходным очередь из желающих вытягивалась на полквартала. Было и приятно, и немного неловко видеть столько людей, жаждущих такой незамысловатой пищи, как хлеб и картофельные лепешки, суп и тушеное мясо, пироги двух-трех видов. Иногда я чувствовал себя обманщиком. Ведя перекрученную, невротическую жизнь, мы притворялись наивными простаками, превратившими в профессию украшение салатными листьями яблок, купленных у хозяина сада, находящегося меньше чем в десяти милях от нашего дома. Нашим главным поставщиком джема и консервированных овощей была одна местная старушка. Впрочем, половина посетителей «Домашнего кафе» щеголяла в загородной одежде, заказанной по каталогам, и в грубых свитерах, связанных в Гонконге и Гватемале. Так что я думаю, все всё понимали.
— Это просто великолепно, — воскликнул Эрик.
Ресторан уже закрылся, но несколько человек еще дообедывали. В сердечной теплоте, с которой нас приветствовали Марлис и Герт, как всегда, сквозила едва уловимая ненависть. Я обнаружил, что немного стесняюсь Эриковой бледности и худобы — я словно бы выставил напоказ малоприятную тайну собственной извращенности, которую до сих пор мне удавалось неплохо скрывать под маской невинности.
Марлис увела Бобби в кухню, чтобы сообщить ему, что из продуктов нужно перезаказать, и продемонстрировать течь в посудомоечной машине, которую ей каким-то образом удалось временно заделать. Как выяснилось, даже небольшой и довольно популярный ресторан функционирует в обстановке перманентного кризиса. Оборудование ломалось, загоралось и выходило из строя в самый неподходящий момент. Продукты доставляли побитые или неспелые, в муке заводились черви. Предпочтения посетителей следовали жесткой, но совершенно непредсказуемой схеме. Продукты, которых мучительно не хватало на одной неделе, на следующей вдруг оказывались никому не нужны и портились, лежа на полках. Прибыль была довольно постоянной, но маленькой, и все время казалось, что чего-то не хватит и нужно еще печь пироги, резать новую порцию картошки, срочно звонить поставщику овощей и скандалить из-за коробки вялого салата. Иногда я заглядывал в зал и с удивлением отмечал, что все столы заняты и люди едят, как ни в чем не бывало обсуждая свои дела. Они верили, что это нормальный ресторан, и даже не задумывались о нашей постоянной борьбе с гниением, паразитами, бесконечным мелким жульничеством поставщиков, о всем том, что предшествовало попаданию этой простой пищи на их белые керамические тарелки. В тех редких случаях, когда поступали жалобы, что недожарен бекон или переварены яйца, я едва сдерживался, чтобы не закричать: «Неужели вы не понимаете, как вам повезло, что вы вообще что-то получили? Неужели вы этого не понимаете? Где, черт побери, ваша благодарность?» Я оценил привлекательность сверхбыстрого замораживания продуктов, которые можно просто разогреть в микроволновой печи. Вкус почти тот же, и при этом никаких забот. Все уже нарезано кубиками или замешено, свернуто в трубочку или нарублено. Нет риска, что сгниет. И хранится сколько угодно. Еще два года назад мы смотрели на владельцев всех этих ярко освещенных безлюдных придорожных кафе как на личных врагов, продающих некачественную еду из жадности и лени. Теперь я скорее видел в них жертв. Они просто не выдержали искуса соблазнительной практичности.
Герт предложила нам с Эриком перекусить. Кофе горячий, и вроде бы оставалось еще два куска брусничного пирога. Может быть, она догадалась, что Эрик болен? Может быть, именно в этом заключалась подлинная причина ее заботливости? Эрик был явно очарован Герт, которая и вправду была очаровательна: румяная, с сильным лицом и длинными пепельными волосами. Она бросила хорошую работу в издательстве, предпочтя здешнюю жизнь с Марлис. Она одевалась под фермершу — ситцевые платья, длинные вязаные кофты с пуговицами, — но при этом была очень хорошо образованна: знала русский, когда-то редактировала книгу большого поэта. Когда мы ответили «Спасибо, нет» на ее предложение о кофе с пирогом и она снова вернулась в зал, я еле сдержался, чтобы не прошипеть: «Мы сильно подозреваем, что она подворовывает».
— Здесь все так мило, так по-домашнему, — сказал Эрик своим новым, восторженным голосом.
— Без этого нельзя, — отозвался я. — Интегральный аспект нашего метода привлечения посетителей.
— А кто эти дети? — поинтересовался он, указывая на фотографии на стенах.
— Понятия не имею. Мы купили их по цене доллар — пять снимков в комиссионной лавке на Гудзоне. Наверное, к сегодняшнему дню большинство из них спились, превратились в попрошаек или отбывают срок в исправительных учреждениях. Другие живут на трейлерных стоянках с шестью детьми.
Эрик одобрительно кивнул, словно такую будущность можно было признать вполне благополучной. Из кухни появился Бобби, сопровождаемый Марлис, крупной, веснушчатой, с волосами абрикосового цвета.
— Похоже, — сказал Бобби, — посудомоечная машина долго не протянет. Выглядит она, честно говоря, неважно.
— Только этого нам и не хватает, — отозвался я. — Доставка новой займет несколько недель как минимум.
Марлис, глядя на меня, изобразила в воздухе что-то вроде боксерского апперкота.
— Здорово, мясничок, — сказала она. Я поднял руки над головой:
— Только не бей.
Это был выработанный нами с Марлис способ совместного прохождения сквозь запутанный лабиринт сексуальности и отношений начальник — подчиненный. Мы платили Марлис совсем неплохие деньги, и при этом она постоянно отвешивала нам подзатыльники, щипала за щеку, со всего размаху шлепала по заду. Я был ее начальником, и в то же время мне приходилось симулировать нешуточный ужас перед физической расправой, что, впрочем, учитывая вышесказанное, было не так уж сложно. Марлис была ширококостной, спокойной, с богатым и разнообразным жизненным опытом. Она как-то починила посудомоечную машину в самый разгар утренней суеты. Она была прекрасной пловчихой и горнолыжницей, знала названия деревьев и трав.
— Ну, пока совсем не сломается, придется обходиться тем, что есть, — сказал Бобби. — А в крайнем случае будем мыть вручную… до первого санинспектора.
— Роскошная жизнь хозяина ресторана, — сказал я Эрику, который согласно кивнул.
Обедали мы дома, разговаривая преимущественно о ребенке.
Мы с Клэр воспользовались присутствием Эрика как лишним поводом обсудить интересующие нас подробности детского воспитания. Передавая по кругу блюда с кукурузой, помидорным салатом и гамбургерами, мы, перебивая друг друга, рассказывали разные истории, высвечивающие ту или иную особенность характера Ребекки, сетовали на обилие моральных и физических проблем, связанных с родительством, и, наконец, представили свою тщательно разработанную стратегию, как с наименьшими потерями ввести ее в мир любви и зарплат. Идеально воспитанный Эрик, обладавший, казалось, генетически запрограммированной вежливостью, изображал невероятный интерес к обсуждаемым вопросам. Степень искренности определить было невозможно.
Уложив Ребекку, мы посмотрели фильм, взятый Клэр в видеопрокате. («Мы не должны, — рассуждала она еще до приезда Эрика, — полагаться исключительно на разговоры. Надо смотреть фильмы, играть в какие-нибудь игры, что-нибудь делать. Если бы могла, я бы пригласила артиста с дрессированной собакой».) После фильма все начали потягиваться, зевать и жаловаться на жуткую измотанность, что, в общем-то, соответствовало действительности. Да, решили мы, пора ложиться спать. Эрик, сжавшись, сидел на стуле, засунув ладони между коленями, как будто в комнате стоял жуткий холод. Он был таким сморщенным, таким подчеркнуто непритязательным, таким заранее на все согласным! Он был из породы гостей, чьи желания неизменно совпадают с желаниями хозяев. И тут неожиданно для самого себя я спросил:
— Эрик, ты давно такой?
Он поглядел на меня удивленно-осуждающе, часто моргая. А ведь он может считать, что это я его заразил, подумал я. Что не исключено.
— Мне казалось, что это незаметно, — сказал он.
Его голос звучал едва слышно, чуть громче гудения батареи. Но при этом он сердито моргнул и еще крепче сдавил ладони коленями.
— Мне последнее время уже лучше, — сказал он. — В смысле, я думал, я выгляжу как обычно.
— Сколько ты уже болеешь? — спросила Клэр.
Перед тем как я задал свой вопрос, она встала, чтобы заварить чай, и так и застыла возле кровати. Бобби сидел молча. Эрик задумался, словно припоминая.
— Уже больше года, — сказал он. — Сначала я не мог в это поверить. Как-то странно — так ясно представлять себе симптомы, а потом и вправду начать их испытывать. Какое-то время я думал, это просто нервы. Ну а потом… Пять месяцев назад мне поставили диагноз.
— Почему же ты не позвонил? — спросил я.
— А что бы от этого изменилось? — сказал он новым голосом, совершенно потерявшим вежливую приподнятость и звучавшим теперь резко и зло. Такой интонации я еще никогда у него не слышал. — Лекарств нет, — сказал он. — Все равно ты бы не мог мне помочь, только бы дергался.
— Я был у тебя, когда ты уже знал, что болен. И ты даже не упомянул об этом, — сказал я и тут же вспомнил, что в нашем случае вообще трудно говорить о каких бы то ни было отношениях. Общение практически целиком сводилось к сексу и разделенному одиночеству.
Он посмотрел на меня. Было что-то невероятно страшное в его глазах.
— Честно говоря, — сказал он, — мне было стыдно. Когда я раньше думал об этом, когда я, ну, как бы представлял себе, что со мной может такое случиться, я понимал, что буду испытывать страх, злобу, вину. Это понятно. Но мне почему-то еще и стыдно.
— Солнышко, все нормально, — сказала Клэр. Эрик кивнул.
— Разумеется, — сказал он. — Конечно нормально. А как же иначе?
— Никак, — сказала Клэр. — Извини.