Собор. Роман с архитектурой Измайлова Ирина
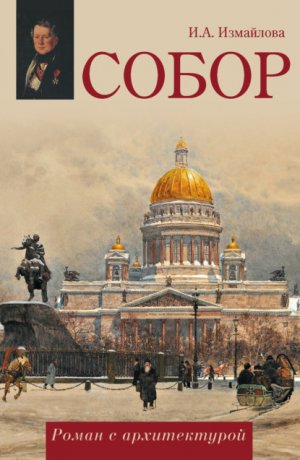
– Бог же с вами! Извините… Какой вы горячий…
Элиза перевела дыхание и перекрестилась, но тут же глазами указала Огюсту на бедного сухоруковского невольника, который в это время привстал с земли и смотрел на все происходящее бессмысленными, мутными от боли глазами.
– А что будет с этим человеком, мсье? – спросил Монферран.
Помещик фыркнул.
– Он ни к чему не годен, мне до него потребы нет никакой. А если вам так его жалко, извольте, я вам его продам. Покупайте.
Щеки Огюста залил румянец.
– Слышишь, Лиз, для начала мне предлагают стать рабовладельцем! Мсье Сухоруков, я купил бы у вас беднягу, чтобы вы не убили его, но у меня нет денег.
– Ах, денег у вас нет, зато гордости много! – не скрывая пренебрежения, помещик опять сплюнул. – Ну, ну, стало быть, и не купите. А впрочем, если вам уж очень хочется, извольте, я готов вам отдать этого щенка за ваши пистолеты, они мне нравятся.
– По рукам! – воскликнул Огюст, не заметив даже оскорбительного тона господина Сухорукова и боясь только, как бы тот не передумал.
Но Сухоруков явно обрадовался такой сделке.
– Прекрасно! – возопил он. – Сейчас же и поеду с вами в город, да там, в крепостной экспедиции, все и оформим. За оформление подьячим я, так уж и быть, заплачу сам…
Говоря это, он деловито разрядил ружье, спустил его курок и потом повернулся к своему невольнику:
– А ну, вставай, Алешка, сукин сын! Полезай на козлы, к кучеру: он, кажись, сейчас карету-то вытянет из грязи. И в Псков по прямой дорожке, на моей земле дороги славные! Продаю тебя, скота, этому белобрысому французишке, пускай он из тебя, твари паршивой, дух вышибает!
Два часа спустя они доехали до Пскова и там, в крепостной экспедиции совершили сделку, после чего коробка с пистолетами генерала Шенье торжественно была передана господину Сухорукову.
– А теперь, – сказал ему Монферран, – возьмите на себя труд, мсье, сказать господам чиновникам, что я прошу их составить еще документ об освобождении мною этого невольника.
Сухоруков дико глянул на молодого человека и во весь голос расхохотался.
– Да вы действительно сумасшедший! Ну, да будь по-вашему, скажу. Только вот уж за этот документ извольте платить сами!
– Заплачу, – сквозь зубы проговорил Огюст. – Переведите только все, что нужно, и я более вас не задерживаю.
Еще через полчаса все было закончено. Начальник крепостного стола, выйдя в коридор за странным путешественником, распрощался с ним на ужаснейшем французском языке, а затем объяснил сидевшему в конце коридора на табурете Алешке, что тот свободен и может, стало быть, идти, куда ему вздумается. Тот, ничего не понимая, выслушал это сообщение и ошеломленно уставился сначала на начальника стола, потом на своего нового хозяина, который так неожиданно и сразу перестал быть ему хозяином.
– Отпускаете, барин? – еле слышно спросил он.
У него был чуть хрипловатый, еще почти мальчишеский голос, и Огюст, рассмотрев наконец его лицо, увидел, что он действительно едва ли не мальчик, ему было не больше восемнадцати-девятнадцати лет. Лицо у него было округлое, несмотря на сильную худобу, некрасивое, но удивительно привлекательное, благодаря мягкому взгляду серых, чуть-чуть раскосых глаз, чистых, будто у ребенка.
Вопрос Алешки Огюст понял, вернее, не зная слов, угадал его смысл.
Кивнув, молодой человек проговорил как можно яснее два русских слова, выученных в Париже:
– Да. Иди.
И улыбнулся, чтобы у бедняги исчезли все сомнения.
К концу этого сумасшедшего дня путешественники, чувствуя себя совершенно разбитыми, водворились наконец в один из номеров захолустнейшего трактира славного города Пскова.
Обеда, а вернее сказать, ужина Огюсту не удалось истребовать, и из пространных речей и жестов хозяина он понял, что у того вроде бы кончились припасы, а лавки уже позакрывались, но завтрак непременно будет. Однако же приезжим был предложен чай и весьма солидный кусок пирога с козлятиной, которым они и насытились, оставив еще порядочный кусок на утро, чтобы завтрак заказать самый дешевый.
Хозяин был очень учтив и ловко умел обращаться со своим немалым запасом французских слов (он знал их около десяти).
Путешественникам была отведена комната под самой крышей трактира. В комнате стоял шкаф красного дерева, времен, вероятно, императрицы Елизаветы, дальний угол возле небольшого окошка занимала широкая кровать безо всякого полога, рядом с ней пристроился табурет с умывальным тазом и кувшином, дальше – столик с кривым зеркалом и пара стульев, а в углу, противоположном кровати, возле самых дверей, громоздился величественный широченный сундук.
Улечься спать усталым путникам долго не удавалось: оказалось, что в комнате очень холодно, и пришлось требовать, чтобы затопили печь. Ее затопили, и молодые люди наконец легли, но уже за полночь проснулись от духоты. Печь, которую с весны не топили, напустила в комнату дыма, и от него у обоих запершило в горле.
Огюст встал, накинув халат, зажег свечу, сильнее выдвинул заслонку печи, чтобы, чего доброго, еще и не угореть, и затем распахнул окно.
– Сейчас проветрится, – сказал он, высовывая голову наружу и вслушиваясь в тишину города, спящего мертвым сном.
– Пока проветрится, я задохнусь, – Элиза тоже встала и надела халат. – Я выйду на лестницу, Анри, там прохладно. Подышу минут пять и вернусь.
– Хорошо, только во двор одна не выходи, – сказал ей вслед молодой человек.
Она, бесшумно ступая мягкими туфлями, прошла через комнату, отперла дверь, и, толкнув ее плечом, вышла. Прошла, быть может, минута, и вдруг с лестницы донесся короткий возглас и вслед за тем резкий испуганный крик: «Ах! Анри!»
Огюст, как кошка, прыгнул к кровати, сорвал с крючка свою саблю и молниеносно обнажил ее, затем другой рукой ухватил со столика подсвечник со свечой и, высоко подняв его над головой, вылетел на лестницу.
Он тотчас увидел Элизу, прижавшуюся к стене посреди верхнего пролета, а чуть ниже, возле самых ее ног, – фигуру человека, который, очевидно, для чего-то расселся, а то и разлегся на площадке, и на которого мадмуазель де Боньер наступила, спускаясь в темноте к раскрытому лестничному окну.
– Анри, ничего страшного, я зря закричала, – поворачивая бледное лицо к своему спутнику, прошептала Элиза. – Но… прямо под ноги!
– Что это значит?! Что тебе здесь надо, негодяй?! – Монферран замахнулся саблей и тут же в растерянности опустил ее: в незнакомце, смотревшем на него снизу вверх робким и преданным взором, он узнал бывшего сухоруковского крепостного, своего сегодняшнего вольноотпущенника.
– Как ты сюда попал?! – ахнул молодой архитектор и выпалил вспомнившуюся ему кстати русскую фразу: – Какого чьерта?!
Юноша встал и низко поклонился, так что его нечесанные волосы, упав на лоб, закрыли брови и даже глаза. Потом он заговорил мягким голосом, немного нараспев, но изо всей его речи Огюст понял лишь несколько слов и из этих слов уяснил, что непрошенный гость не желает оставлять недавних хозяев.
– Но что тебе от меня надо, а? – сердито воскликнул Огюст. – На что ты мне нужен? Ступай себе с Богом!
И он энергично махнул рукой в сторону двери. Но юноша затряс головой:
– Христом Богом, барин…
И продолжал еще что-то говорить, умоляюще сложив руки.
– Анри, по-моему он хочет остаться у тебя на службе, – сказала Элиза, все это время с величайшим сочувствием смотревшая на лохматое, оборванное существо.
– Это я и так понял! – раздраженно ответил Монферран. – Но мне же нечем ему платить! Да и вообще, что за нелепость – завести себе русского слугу, не умея по-русски говорить! Наймем в Петербурге какого-нибудь француза, их там сейчас больше, чем когда-либо…
– А мне кажется, в России русский слуга будет полезнее, – заметила молодая женщина.
– Да, тебе кажется? – Огюст уже готов был сорваться. – А не кажется ли тебе, что в этом хотя бы ты могла бы меня не учить, Лиз?
– Я учу тебя не так уж часто, – без тени обиды проговорила она. – Но, в самом деле, Анри, возьмем его… по-моему он один на свете!
– Возможно. Но у меня, в конце концов, не приют для сирот!
– Будьте, барин, милостивы, – продолжал парень, видя, что его не понимают, но во всяком случае, слушают. – Возьмите за ради Христа!
– Да при чем здесь Христос?! – взорвался Огюст и схватил юношу за локоть. – Ну-ка, в комнату заходи, нечего топтаться на лестнице. Заходи, поговорим!
Они все втроем вошли в номер, и молодой архитектор, заперев дверь и швырнув свою саблю в угол, уселся за столик и жестом велел гостю сесть напротив на второй шаткий табурет. Элиза, не снимая халата, вновь забралась в постель и села, подтянув колени к подбородку и обняв их руками.
Старательно припомнив все русские слова, выученные им в Париже, Монферран вздохнул поглубже и проговорил, пальцем тыча в бывшего невольника:
– Ты как имя? Альеша?
Сухоруков называл своего крепостного Алешкой, но это имя запомнилось Огюсту немного по-другому, и он, сам того не ведая, произнес его именно так, как и следовало.
Парень радостно кивнул.
– Ага. Алеша. Алексей. Алексей Самсонов…
– Так! – Огюст опять перевел дыхание, – Вы… ты… Тьфу! Вы желание… (О, Господи, как это?!) А! Желание служить?
– Ага, ага! – Алексей опять закивал, и опять светло-каштановые лохмы весело рассыпались по его круглому лбу. – Очень даже большое желание имеем послужить вам, ваша милость! А что я языка вашего не смыслю, так ведь то не беда: перейму враз!
Огюст жалобно покосился на Элизу. Она улыбнулась.
– Чему ты радуешься? Ну, вот что он говорит? – на висках молодого человека начал проступать пот. – Вот привязался, в самом деле! Ну послушай, Альеша (дальше он уже никак не мог сказать по-русски), послушай и пойми: я взял бы тебя на службу, но мне нечем тебе платить, понимаешь? У меня денег нет!
Вскочив с табурета, он схватил с вешалки свой фрак, тряхнув его над столом, вывернул карманы, а затем, вытащив из внутреннего кармана кошелек, вытряхнул на стол все, что там оставалось.
– Видишь? Совсем мало! Ну чем я стану тебе платить? Чем, а?
Алексей замахал руками и заговорил быстро, горячо, обиженно.
– Ох, с ума ты меня сведешь! – Огюст вытер лоб платком. – Ну что с тобой делать? Ты что же, совсем один? Отец или мать есть у тебя?
Слово «отец» и «мать», на русском и французском почти одинаковые, были поняты Алексеем тотчас. Он мотнул головой. И опять прошептал:
– Нету у меня никого. Ни мамки, ни батьки, ни сестер, ни братьев. Родня так, кой-какая, да что в ей проку? Кому я нужен? Меня боле трех лет и в деревне почти что не видали, как хозяин-то, Антон Петрович, изволили меня в дворовые забрать… Барин! Христом Богом вас прошу!
– Ну, полно, оставь Христа в покое! – не выдержал Монферран. – Бог с тобой, сегодня оставайся, куда ты среди ночи пойдешь? Утром подумаю, куда деть тебя. До Петербурга, наверное, возьму с собой, а там, может, куда-нибудь пристроишься, город большой! Да, Элиза? Повезем этого красавчика в Санкт-Петербург? Если там действительно бегают по улицам медведи, во что я, впрочем, нимало не верю, то он весьма подойдет для такого пейзажа!
– Анри! – с упреком заметила Элиза. – Ты бы лучше дал ему чего-нибудь поесть, он же, наверное, голодный…
Огюст пожал плечами.
– Возможно! А что я ему дам? У нас остался кусок пирога с мясом, но мы сами собирались его съесть утром.
– Ну так съедим что-нибудь другое, – мадмуазель де Боньер бросила на своего возлюбленного взгляд, от которого он к своей досаде тут же густо покраснел. – Бедняга едва на ногах держится. И, по-моему, у тебя вино во фляжке тоже осталось?
Минуту спустя пирог с козлятиной и наполненный до ободка стакан мадеры были водружены на столик перед ошарашенным Алешей.
– Быстро ешь, и спать! – скомандовал Огюст.
– Это мне никак? – вытаращив глаза, спросил юноша.
– Тебе, тебе, ну а кому же еще? Давай скорее, мы ведь тоже устали!
Алексей опять отбросил с лица волосы, и открылась широкая едва затянувшаяся рана на его лбу. Кое-где из нее еще выступали капельки крови.
«В самом деле, куда он пошел бы! – подумал Монферран, раскаиваясь в недавней своей черствости. – Он потерял столько крови, что странно, как вообще ходить еще может. Надо его взять, а может, действительно выйдет хороший слуга…»
И молодой архитектор совсем уже ласково проговорил, пододвигая пирог и мадеру к самому носу Алексея:
– Ну, ешь же, нечего так смотреть! И спи. Вон, на сундуке, как раз места хватит!
Юноша не заставил повторять еще раз. За несколько мгновений он уничтожил большой кусок пирога и осушил стакан, и по лихорадочному блеску его глаз видно было, что он и в самом деле почти умирал от голода.
– Ну и тварь этот Сухоруков! – прошептал Огюст и опять указал Алеше в сторону сундука. – А теперь спать! Понял? Спать!
Алексей перекрестился, что-то еще сказал, подняв на архитектора свои выразительные полураскосые глаза и, встав с табурета, шмыгнул в угол, где тотчас улегся на сундуке, не смущаясь отсутствием подстилки.
Огюст раскрыл свой саквояж, вытащил оттуда походный плед и, точно прицелившись, кинул его новому слуге.
– Укройся, не то здесь холодно!
И, обращаясь к Элизе, добавил:
– Плед все равно придется выстирать, он запылился в дороге…
Утром, договорившись с хозяином трактира относительно кареты, Монферран узнал у него же, где найти дешевую лавку старьевщика, и в этой лавке купил стираную, но крепкую полотняную рубаху, холщовые штаны и суконную куртку, заштопанную в нескольких местах, но еще довольно опрятную, а затем, не без помощи старьевщика, отыскал и башмаки, очень стоптанные, однако не дырявые и, кажется, подходящие по размеру. Все вместе обошлось в один рубль семьдесят копеек.
Вернувшись в трактир, Огюст увидел, что Элиза успела умыть и постричь их юного слугу, когда же тот, скинув свои лохмотья, переоделся в принесенные хозяином вещи, путешественники его не узнали. И без того привлекательное лицо его стало совсем милым, а фигура оказалась такой статной, что впору было лепить с него античного атлета.
– Вот тебе и медведь! – восхитился Огюст. – Это уже совсем другое дело…
Но Элиза была как-то странно невесела и взволнована, и когда Алеша вышел на лестницу, чтобы почистить хозяйские башмаки, проговорила, сдерживая слезы:
– Анри, знаешь, когда я ему мыла голову и волосы стригла, я заметила… у него вся спина в рубцах, некоторые совсем свежие, едва затянулись… Бог вознаградит тебя за то, что ты спас великомученика!
Огюст, нахмурившись, отвернулся и ответил:
– Жаль, что я не застрелил скотину… Но не с этого же было начинать карьеру в России! Слава Богу, что я вчера сгоряча не прогнал мальчишку!
После завтрака хозяин трактира сообщил постояльцам, что карета их ждет, но когда они вышли во двор, кучер, хитрый малый с сизоватым носом давнего пьяницы, пожаловался на плохие подковы у лошадей и стал просить обождать, покуда он добудет молоток – подбить гвозди.
Огюст ничего не понял из его болтовни, но сообразил, что его морочат: он видел отлично, что подковы у лошадей новенькие. Однако спорить с кучером было бесполезно, тем более, не владея языком, а лишняя задержка сулила еще один день пути, и архитектор с ужасом подумал о своем почти пустом кошельке, из которого теперь, очевидно, следовало извлечь полтинник, чтобы сунуть проклятому пройдохе и ускорить отъезд.
Но тут вдруг из дверей трактира вышел Алеша с хозяйским саквояжем в руках и, мигом поняв, что происходит, подскочил к кучеру.
– Ах ты, сукин сын, сволочная рожа! – крикнул он, ставя саквояж на землю и упирая руки в пояс новой рубахи. – Ты что тут ваньку ломаешь? Али на дураков напал? Кто ж те поверит, что новые подковы подбивать надо, да еще, что не в кузне, а этак, на дворе? Деньги тянешь, гад ползучий?! А ну, залазь на козлы, да вожжи бери, а не то, так и с Богом катись со двора. Я ж знаю, где карету найти, найду еще и за дешевле!
– Тихо, тихо ты, разорался! – кучер сердито подтянул кушак и нехотя стал разбирать вожжи. – Коли не боишься, что подковы соскочут в дороге, так и ладно, поехали. Садитесь себе, господа хорошие. Больно мужик у вас горласт…
– Скажи на милость! – воскликнул Монферран, когда они уселись, и карета тронулась. – А от мальчика-то еще и какая польза!
– А я что тебе говорила! – Элиза с торжеством посмотрела на него и осторожно подмигнула сидевшему напротив них Алексею. – В России надо иметь русского слугу. Вот увидишь, с ним мы уже послезавтра будем в Петербурге.
Ее слова сбылись. Утром двенадцатого июня, миновав городские заставы, путешественники по размытой очередным дождем дороге въехали в столицу Российской империи.
Филипп Филиппович Вигель, хотя и был от природы язвителен и даже ехиден, и случая пустить острое словцо в адрес ближнего своего не упускал, однако же не чуждался и благих порывов, и порою рад был помочь ближнему, если это особых хлопот не доставляло, и считал поэтому, что все этой его слабостью пользуются.
По молодости лет, а было ему ровно тридцать, он порою принимал еще ловкое притворство за искренние изъявления чувств, поэтому любил, когда его благодарили лица, получившие от него ту или иную услугу, причем в отличие от людей более солидных, ценил и одни лишь словесные излияния. Как всякий человек, обладающий незаурядной сообразительностью и более чем заурядными способностями, он хворал воспалением тщеславия, но в этой болезни не признавался никому, и себе самому в первую очередь, объясняя свое раздражение против людей одаренных и ярких внешним сходством их жизни и поведения с жизнью и поведением всех простых смертных. «Дескать, что же ты за гений, коли бранишь кухарку из-за простылых щей!» И тому подобное, в том же роде.
Карьеру свою Филипп Филиппович делал осторожно и умно и верил, что сумеет многого добиться. И начало его уже радовало: в тридцать лет он стал начальником канцелярии такого солидного заведения, как только что созданный Комитет по делам строений и гидравлических работ, что и давало ему возможность порою оказывать маленьким людям великодушное покровительство и с удовольствием принимать их благодарность.
Но назойливых просителей Вигель не любил, ибо настойчивые просьбы приходилось слышать тогда, когда для исполнения требовались значительные усилия, а прилагать их неизвестно кого ради, он не собирался.
– Боже, ну чего он от меня-то хочет?! – завопил Филипп Филиппович, когда один из младших чиновников канцелярии сообщил ему, заглянув в его кабинет, что его просит видеть «тот давешний французик».
– Сказать, что не примете? – осведомился чиновник, уже пятясь.
– Да нет, пускай уж заходит, он же не отстанет! – зло проговорил Вигель, мысленно прикидывая, как бы раз и навсегда спровадить визитера.
Но тот вошел такой непринужденной походкой, без тени робости или искательства посмотрел на начальника канцелярии, с таким небрежным изяществом кинул на подоконник свою шляпу, так открыто и приветливо улыбнулся, что раздражение Филиппа Филипповича вдруг сменилось любопытством. Ему захотелось выслушать «французика».
– С чем вы ко мне, мсье Монферран? – спросил он, мысленно любуясь своим французским произношением.
– Увы, с тем же самым, – ответил визитер, усаживаясь на предложенный ему стул и слегка откидываясь на спинку, как человек, уставший от долгого хождения пешком. – Увы, мсье, с тем же, с чем я приходил к генералу Бетанкуру. Если в ближайшую неделю-две я не найду места, мне придется умереть с голоду или наняться куда-нибудь гувернером.
На языке у Вигеля вертелся вопрос: «И что вы предпочтете?» – однако он сдержался и сказал совсем другое:
– Но послушайте, мсье, работа вам была предоставлена, если не ошибаюсь, в полном соответствии с вашей рекомендацией. И, надо сказать, мсье Бетанкур не всем оказывает подобные любезности. Наняться рисовальщиком на фарфоровый завод не так легко. А вы что наделали? Заломили такую цену, что у министра финансов волосы зашевелились на голове! Три тысячи рублей в год! Это же плата главному архитектору на большом строительстве! Само собою, вам отказали. Вы что же, не понимали, что откажут?
Монферран посмотрел на Вигеля своими ясными синими глазами и ответил, опять улыбнувшись:
– Понимал. Я на то и рассчитывал.
Начальник канцелярии усмехнулся.
– Ну да. Вам не захотелось разрисовывать сервизы, будучи архитектором. А мсье Бреге в своем письме называет вас именно хорошим рисовальщиком, ибо сам не архитектор и об архитекторских ваших способностях ничего написать не может. Но ваш хитроумный ход плохо для вас закончился. Мсье Бетанкур два раза подряд давать рекомендации не станет, он ни с кем не нянчится.
– Понимаю, – просто сказал Огюст. – Потому я и пришел не к нему, а к вам.
– А чем я могу быть вам полезен? – уже без ехидства спросил Филипп Филиппович.
– Разве не вы в основном нанимаете служащих в Комитет? – спросил Монферран.
– Положим, если и я… Хотя, как вы понимаете, правом личного выбора я здесь не располагаю, я только чиновник. А вы что же, хотели бы войти в состав Комитета? И в какой сфере градостроительства желаете проявиться, или, может быть, и начальствовать?
Огюст и бровью не повел в ответ на эту явную издевку и так же спокойно отпарировал:
– Я еще слишком мало знаю Петербург, мсье Вигель, чтобы взять на себя такую ответственность. Но я слышал, что вам требуется начальник чертежной мастерской. Может быть, на эту должность я вам подойду?
– Может быть, и подойдете, – задумчиво произнес Филипп Филиппович, все с большим интересом разглядывая молодого архитектора. – Но только, на этой должности вас может утвердить один Бетанкур. Он и никто другой.
– Разумеется. Однако мне говорили, что он обычно прислушивается к вашим советам и уважает ваше мнение.
Стрела была точно направлена в цель. Бледные, рано утратившие свежесть щеки Филиппа Филипповича покрыла пунцовая краска.
– Даже если вы льстите, мсье Монферран, то красиво это делаете! И все-то вы слышали, и все-то вы знаете. Да, Бетанкур меня здесь не держал бы, если бы мне не доверял. Но у него очень строгий подход к вопросам такого рода… Правда, советы он иногда слушает, но чаще советы, исходящие не снизу, а сверху. Хм! Я могу предложить вас на должность начальника чертежной и даже обещаю вам, что сделаю это, ибо вы мне нравитесь. Не улыбайтесь, действительно нравитесь. Перед тем, как вы сюда вошли, я придумывал, как бы вас спровадить, а сейчас думаю, как сделать, чтобы вы остались в Комитете. Да! Но мсье Бетанкур может отклонить мою просьбу. Генерал наш суров.
Огюст на миг опустил глаза, потом поднял их и тихо сказал:
– Но вы тогда напомните генералу, что мое имя известно его величеству императору, и что у императора хранится альбом с моими проектами, который я имел честь ему преподнести два года назад в Париже. Быть может, одобрение его величества, которое он мне высказал письменно, станет тем самым «советом сверху», о котором вы сейчас говорили.
Вигель улыбнулся.
– Бетанкур знает о вашем альбоме, будьте покойны. Еще когда вы две недели назад впервые здесь появились, он велел справиться, кто вы такой и откуда взялись, и знает ли вас кто-нибудь где-нибудь. Вы в России, мсье, здесь нельзя без этого. Однако же, что греха таить, сам император никакого интереса к вам с тех времен не проявлял, а спрашивать его мнения по поводу устройства вашего в Комитет генерал, само собою, не станет. Но я действительно напомню его светлости, что император отнесся к вам благосклонно. Словом, вы можете рассчитывать на мою поддержку, но обещать ничего точно я вам не могу. Через несколько дней зайдите ко мне.
Этой фразой господина начальника канцелярии разговор, однако, не закончился, и полчаса спустя оба молодых человека вместе вышли на улицу и зашагали по нарядной, ослепительной в лучах июньского солнца, набережной Невы.
– Куда вы направляетесь, мсье? – спросил Вигель, рассчитывая узнать, где поселился столь заинтересовавший его француз.
– Мне нужно сегодня еще сделать один визит, – с прежней своей великолепной улыбкой ответил архитектор. – Но сейчас… (тут он взглянул на часы) сейчас еще рано. Быть может, вы позволите пригласить вас отобедать?
Из предыдущих речей Огюста проницательный господин Вигель легко догадался, что с деньгами у архитектора более, чем трудно, и что он находится сейчас на пороге самой отчаянной нужды. Кроме того, и щегольской костюм, так ловко сидевший на ладной фигуре мсье Монферрана, был все тот же самый, тот же, что поразил чиновников Комитета две недели назад, стало быть, он был единственный.
К чести своей Филипп Филиппович несколько секунд медлил с ответом. Но тут же утешил себя тем, что отказ может обидеть француза.
– Извольте, – поклонившись, ответил он.
И они зашли в подвернувшуюся на пути ресторацию… Заказав превосходный обед для своего нового знакомого, сам Огюст почти не притронулся к еде, объяснив это тем, что пообедал перед посещением канцелярии и что вообще старается днем есть меньше, чем утром, ибо в его роду многие были склонны к полноте. Он только пощипывал шпинат, да небрежно отпивал из бокала отменный темный портвейн.
– Ей же ей, лихой малый! – про себя подумал Вигель, уписывая зайчатину с укропом, наслаждаясь лещом в сметане и с тоской переполненного желудка посматривая на блины с медом. – Ей-же-ей, надо уметь так держаться!.. Но этак он к концу обеда упадет в обморок!
Однако Монферран смотрел на господина начальника канцелярии с таким очаровательным и милым весельем, так непринужденно беседовал с ним, так равнодушно взирал на пустеющие тарелки и блюда, наконец так спокойно отодвинул и свой шпинат, не съеденный даже до половины, что у Вигеля зародились сомнения.
«Кто его знает, а может быть, и в самом деле ему есть не хочется? Эдакое самообладание для неустроенного, мягко говоря, человека… притом же совсем молодого, невероятно… А впрочем, не старше ли он, чем кажется?»
Под каким-то благовидным предлогом Филипп Филиппович в разговоре осведомился, сколько лет его возможному протеже. И услышал:
– В январе исполнилось тридцать.
Вигель чуть не поперхнулся портвейном.
– Ба! И мне столько же… Но я вам не дал сразу больше двадцати пяти.
Огюст вздохнул.
– Боюсь, что мсье Бетанкур тоже. Такое уж лицо! Вы ему скажите, пожалуйста, что я не мальчик, как он, возможно, думает.
– Скажу, скажу, – смеясь, пообещал Филипп Филиппович.
Через некоторое время молодые люди дружески распрощались, и Огюст зашагал пешком по направлению к Конюшенной площади, неподалеку от которой, в одном из самых дешевых трактиров, находилось его нынешнее пристанище.
По дороге ему, как назло, все время попадались навстречу лотошники с пирожками и торговки сластями, вертевшие перед собою разноцветные связки пряников, и он мысленно посылал их ко всем чертям, ибо все его мужество ушло на угощение господина Вигеля, как и, увы, почти все содержимое его кошелька.
Когда он сворачивал с Невского проспекта на набережную Екатерининского канала, навстречу ему вдруг вывернулась летящая во всю мочь лошадиной четверки карета. Проезжая часть была в этом месте довольно узка, и ее почти целиком покрывали лужи, оставшиеся после недавно прошедших обильных дождей. С ужасом увидев широкий веер брызг, окруживший карету, Монферран шарахнулся от нее в сторону и почти вплотную притиснулся к стене дома. Однако брызги достали его, и несколько капель грязи задрожали на рукаве его фрака.
– Невежа! – закричал молодой человек вслед кучеру, одновременно выхватывая из кармана платок, чтобы успеть смахнуть капли, покуда они не впитались в ткань.
Карета остановилась. Из нее высунулся и обернулся назад господин в светлом цилиндре, с благообразным и тонким лицом, окруженным, будто клубами дыма, густыми, мастерски подвитыми бакенбардами.
– В чем дело, мсье? – спросил он с тем великолепным парижским произношением, которым, как успел убедиться Огюст, отличались все русские аристократы. – Мой кучер вас задел?
– Чуть не раздавил! – воскликнул архитектор, поспешно закончив манипуляцию с платком и убирая его, чтобы не выдать истинной причины своего отчаянного возгласа. – Велите ему, мсье, лучше смотреть на дорогу, не то ваша карета кого-нибудь да сшибет!
– Извините меня! – проговорил седок и, задрав голову к козлам, что-то коротко и негромко сказал кучеру, отчего тот побледнел и начал было какую-то робкую фразу, но хозяин оборвал его еще более кратким и на сей раз просто угрожающим окриком, после чего вновь обратился к Огюсту:
– Однако же, мсье, рад, что так удачно обошлось. Не беспокойтесь, я накажу этого разиню.
И тогда Огюст вдруг вспомнил, в какой стране он находится, и понял, что кучера ожидает не вычет из жалования и даже не сердитая хозяйская затрещина, а наказание, очевидно, совсем иное…
– Ради Бога, ваша светлость! – вскрикнул он, успев рассмотреть на дверце кареты княжеский герб. – Прошу вас, не надо никого наказывать! Ваш кучер не виноват, я сам зазевался… Он ехал, как то положено, но я задумался и вышел из-за угла прямо вам навстречу.
Седок посмотрел на архитектора с некоторым удивлением, потом улыбнулся одними кончиками губ и пожал плечами.
– Как вам будет угодно, мсье. Но за что же тогда вы обругали меня?
– Не вас, а как раз кучера и ни за что, а от досады, что пришлось так шарахнуться… Примите мои извинения, если отнесли это на свой счет.
– Я не обижен, – господин в цилиндре учтиво кивнул и хотел уже захлопнуть дверцу, но вдруг спросил с интересом: – А вы, простите меня, недавно приехали в Петербург?
– Меньше трех недель назад, – ответил молодой человек. – А это так видно?
– Не особенно, однако же… Вы из Парижа?
– Да.
– И, вероятно, службу себе ищете?
– Ищу, – ответил Огюст, несколько уязвленный неделикатной проницательностью хозяина кареты. – Однако, если ваша светлость хотели предложить мне место учителя или гувернера, то это мне не подходит. Я архитектор по образованию.
– Вот как! – поднял брови любознательный вельможа. – И у вас хорошие рекомендации?
– Плохие, мсье, не то бы я уже устроился, а не бродил пешком по петербургским лужам. Но в будущем, надеюсь, удача мне улыбнется.
– От души вам того желаю, – засмеялся хозяин кареты. – Однако если все же фортуна вас обманет, и вы вздумаете поискать более скромной службы, отыщите меня, это нетрудно. Я живу на набережной Фонтанки, в особняке напротив Михайловского замка. Меня зовут князь Лобанов-Ростовский. Запомните.
– Запомню, – с трудом подавляя раздражение, Монферран вежливо поклонился. – Но как знать, князь, быть может, вам придется разыскивать меня раньше, чем мне вас? Особняка у меня в ближайшие годы не будет, и я не знаю, где отыщу себе квартиру, однако представиться вам – теперь мой долг. С вашего позволения, Огюст де Монферран. И в ответ на вашу любезность я всегда к вашим услугам, если вам потребуется новый дом или загородная вилла.
И, еще раз откашлявшись, Огюст повернулся и зашагал дальше по набережной, стремясь поскорее миновать узкое место и выйти на площадь. Минут через пять или шесть он был уже возле трактира.
Трактирчик, маленький, деревянный, скромно, но ловко втиснувшийся между двумя каменными домами, был выстроен в два этажа. В нем было только пять номеров, и они все помещались на втором этаже, а первый был занят кухней, залой, помещениями для прислуги и комнатами хозяйки. Хозяйка, энергичная, еще не старая вдова, немка фрау Готлиб, жила в двух комнатах, вдвоем с незамужней девятнадцатилетней дочерью, которую мечтала побыстрее выдать замуж, и потому жила на небольшой пенсион, а доходы от трактира откладывала на приданое Лоттхен. Комнаты в трактире сдавались за небольшую плату, не то на них едва ли нашлось бы много охотников, однако хитрая фрау умела выудить из постояльцев деньги, предлагая им множество мелких услуг: стирку их белья, приготовление обеда, либо из хозяйской снеди, либо из той, что они сами себе покупали, отправку писем, и все тому подобное, не говоря уже о ее собственных улыбках, реверансах, пожеланиях доброго утра и приятной ночи.
Войдя в трактир, Огюст постарался поскорее прошмыгнуть мимо залы, из которой доносились всевозможные кухонные запахи, но едва он поднялся на второй этаж, как ему ударил в лицо аромат куриного бульона, и он тихо чертыхнулся.
«Это проклятый чиновник из второго номера заказал себе курицу! – в сердцах подумал молодой архитектор. – Лентяй пузатый! Нет, чтобы сойти вниз и пообедать в зале… В номер заказывает! Ишь ты, герцог! А что, интересно, ухитрился купить Алексей на оставленные ему десять копеек? И обедала ли Элиза или ждет меня?»
Он отворил дверь своего номера, и куриный запах буквально оглушил его.
– Что это значит?! – воскликнул он, от удивления прирастая к порогу.
В крохотной клетушке-прихожей, превращенной за неимением лучшего в привратницкую, на низкой лавке-лежанке, сидел Алексей и старательно начищал вторую (и последнюю) пару хозяйских башмаков. Увидав Монферрана, он по привычке хотел было встать, но заметив уже знакомое хозяйское движение, разрешающее остаться на месте, только чуть-чуть приподнялся и склонил голову в поклоне, отчего-то прикрывая ладонью левую щеку.
– Здравствуйте, мсье, – проговорил он по-французски, уже почти ничего не напутав в произношении.
Они с Огюстом вот уже три недели старательно учили друг друга своим языкам, и каждый обнаруживал успехи, тем более, что обоим просто необходимо было выучиться побыстрее. Алексей оказался необыкновенно способен к учению. Он успел не только во французском языке, но и в русском: будучи совершенно неграмотным, он, едва оказался в Петербурге, Бог весть, с чьей помощью в считанные дни выучил буквы русского алфавита. Он уже начал разбирать надписи на лавках и трактирах и пытался читать афиши на столбах. При этом у него был великолепный характер: мягкий и ласковый, он никогда не бывал назойлив, в нем не было даже тени раболепия, что казалось невероятным при том, какую школу юноша прошел у прежнего своего хозяина.
– Здравствуй, Алеша! – старательно выговорил Огюст давно выученное русское приветствие. – А что этот здесь так?..
И он показал себе на нос.
– Нос это, ваша милость! – с готовностью ответил слуга.
– Сам ты есть нос! Что такой вот это?
Он кивнул на дверь в комнату. Алексей развел руками.
– Жен се па[35], про что вы спрашиваете, мсье!
В дверях комнаты раздался смех, и появилась Элиза. Она не вышла в прихожую, потому что больше двух человек там не помещались, и Огюст сам поспешно шагнул ей навстречу.
– Откуда у нас такой запах? – спросил он, целуя Элизу, но через ее плечо заглядывая голодным взором в комнату, где на столе, покрытом простенькой скатертью, белела суповая миска.
Элиза взяла его за руку, втащила в комнату и усадила за стол.
– Ешь скорее, пока не остыло. Не знаю, что и думать, милый… Это ведь уже второй раз. То неделю назад откуда-то появилось мясо, когда денег совсем не оставалась. Потом я продала кольцо. Неделю деньги были. Сегодня кончились. Ну, завтра я собираюсь продать медальон…
– А без этого никак нельзя? – огорченно спросил Огюст.
– Никак, Анри, даже если ты вот-вот найдешь место. Но это все пустяки! Еще есть браслет и цепочка… Дело не в этом. Сегодня у Алеши было десять копеек, и вдруг он ухитрился заказать фрау Готлиб курицу, да еще вон пряников каких-то принес… И еще… – она запнулась.
– Ну? – спросил Огюст, подвигая к себе тарелку, которую Элиза наполнила золотистым бульоном с аппетитной домашней лапшой.
– В тот день, когда появилось мясо, – прошептала Элиза, – Алексей пришел с разбитой рукой: прямо все пальцы были разбиты. Он прятал, да я-то увидела. А сегодня, ты не заметил? На левой щеке синяк.
– Вот еще шутки! – растерянно и почти испуганно проговорил Монферран. – И что это все значит, а? Не таскает же он где-то этих кур?
– Что ты! – возмутилась Элиза. – Украсть Алеша не способен. Но это очень странно. Ты спроси у него. Может, тебе он скажет.






