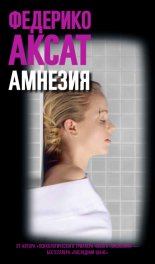Введение в мифологию Баркова Александра

Это божественно красивый эпизод. Постоянно его все воспроизводят, и очень много изображений Ханумана как раз связано с ним. Итак, Хануман говорит, что он сейчас слетает в Гималаи, летит туда, но при его появлении целебные травы прячутся. Тогда Хануман увеличивается в размерах (а что ему – при его-то возможностях!), поднимает всю вершину горы и несет ее, как официант поднос, на одной руке. Такие изображения летящего Ханумана с вершиной горы очень и очень распространены. Он приносит Джамбавану вершину горы, Джамбаван находит нужную травку, Лакшману исцеляет, и он готов снова вступить в бой.
Ну и наконец финальный этап битвы, когда Рама поражает Равану. Причем перед битвой Вибхишана, третий брат, приходит к Раме, отрекается от злых деяний своих братьев. Но естественно, кто-то должен род продолжать, больше ни для чего Вибхишана не нужен.
Равана повержен, Рама возвращает себе Ситу.
И вот здесь начинается, как бы это сказать помягче, черт-те что. В любых неиндийских версиях «Рамаяны» зло побеждено, ракшасы разбиты, Равана убит, Сита вернулась к мужу, и единственное, что остается сделать, – это вернуться в родную страну. Предполагается, что Рама искал Ситу настолько долго, что за это время срок изгнания истек, а что не истекло, истечет, пока они будут возвращаться домой. То есть всё, это финал, больше тут ничего быть не может.
Но как я уже сказала, это индийская поэма, здесь кончается эпос, здесь поэма строится на теме разлуки. И тему эту хочется усилить. И что же у нас получается? Сита возвращается к Раме, тот… от нее отказывается. Почему? Потому что она слишком долго прожила в доме другого мужчины. И даже если Равана и не касался ее, то всё равно Ситу оскверняли нечестивые взгляды Раваны и нечестивые помыслы. И такую жену Рама принять не может, и пусть Сита идет куда угодно, а Рама сражался отнюдь не для возвращения Ситы, а чтобы отомстить Раване за нанесенные оскорбления. Логика отдыхает.
Сериал продлен на новый сезон, зрители плачут от счастья. Насчет «сериала» я не шучу, наши сериалы – это замена эпоса в современных условиях. И логика везде одна: зритель хочет еще? – будет еще.
Вернулись к Сите. Она от горя при таких словах приказывает сложить погребальный костер и живой входит в огонь, потому что ей жизнь не мила. Бедную женщину хорошо можно понять.
Но Агни, бог огня, на руках выносит ее из костра, тем самым доказывая ее чистоту и невинность. И Рама внезапно говорит, что, дескать, он и не сомневался в невинности Ситы, а всё это устроил, просто чтобы все убедились, что Сита чиста, невинна, и Рама может благополучно снова ее в качестве жены вернуть.
Они возвращаются в Кошалу, в родную страну. Долгое время живут вместе. Но когда уже Сита беременна, когда она ждет рождения их сыновей, то тут снова начинается. Они живут некий астрономический срок жизни – полубоги же, – а люди сменяются, поколение за поколением. И вот уже люди начинают говорить о том, что Сита, дескать, не чиста. И Рама под давлением, так сказать, общественности беременную Ситу отсылает в леса, в обитель поэта Вальмики, где она живет, и там она рождает двух сыновей – Кушу и Лаву.
Поэт Вальмики однажды весной видит брачные танцы журавлей. Но к журавлям подкрадывается охотник. Поэт видит, как охотник поражает самца, и Вальмики проклинает охотника. И слова проклятия у него вырываются изо рта мерными стопами двустишия.
Такими двустишиями Вальмики пишет поэму о деяниях Рамы, то есть он пишет «Рамаяну». Оцените: в текст «Рамаяны» входит история сложения поэмы. Вальмики учит этому сказанию Кушу и Лаву. И они в обличье простых жителей лесов прибывают в столицу, прибывают к царю, то есть к Раме, и перед ним исполняют это самое сказание.
Причем эпизод с убийством журавля идет в поэме в качестве зачина, задавая именно литературный колорит, то есть образ разлуки, который станет, как уже было сказано, сквозным. Рама, спрашивает, откуда же эти мальчики? кто их родители? Они отвечают, что они не знают своего отца, но вот их мама живет у Вальмики. Приказывают привести мать. Так Рама видит Ситу. А Сита говорит, что в знак доказательства ее чистоты пусть разверзнется земля и ее поглотит. Земля, мать Ситы, разверзается и ее поглощает. Таким образом, Рама теряет жену уже навсегда.
Очень благодатная тема для страданий от разлуки. Но шутки шутками, а всё действительно так и есть. На примере «Рамаяны» мы прекрасно видим, как мифологическое сказание превращается в воинский эпос, а позже – в мелодраму. Тенденциозность обработки эпоса понятна. И вот эта седьмая книга «Рамаяны», построенная на бесконечных разлуках, создана много, много позже основного текста. Едва ли ее, честно говоря, можно признать удачной.
Любопытно, откуда происходит сюжетный ход, связанный с Кушей и Лавой. Это, скорее всего, вторичное объяснение. В Индии существовала категория певцов, которые назывались «кушилавы». Происхождение этого термина нам неизвестно, а объяснение, что «кушилава» происходит от имен Куши и Лавы, которые были первыми исполнителями «Рамаяны», – это явно вторичный этимологический миф.
Вообще, исполнители эпоса – это были в первую очередь колесничие «суты». Колесничие очень часто формировались из смешанных каст: брак между брахманкой и кшатрием. И в обязанность сут просто-напросто входило развлечение своего господина сказаниями, и поэтому неудивительно, что в «Махабхарате», к которой мы уже переходим, значительная часть поэмы – это просто то, что рассказывает колесничий своему господину.
Если полное исполнение «Рамаяны» требует примерно месяца, то полное исполнение «Махабхараты» требует четырех месяцев, и индийцы по этому поводу говорят очень возвышенно: «Чего нет в “Махабхарате”, нет в Индии». Европейцы по этому поводу говорят менее возвышенно, называя «Махабхарату» литературным чудовищем.
Действительно, в «Махабхарату» вошла практически вся индийская культура, существовавшая на протяжении полутора тысячелетий. Поскольку значительную часть временных событий «Махабхараты» занимает изгнание героев в леса, где у них приключений не будет, а они будут сидеть в лесах двенадцать лет, слушая сказания святых подвижников, то в «Лесную книгу» «Махабхараты» входит такое количество разнообразных сказаний, что просто нет слов. Кстати, в «Махабхарату» входит и «Рамаяна» тоже, как раз ранняя версия «Рамаяны», без этих самых жутких дополнительных разлук. Так что действительно «Махабхарата» охватывает полностью индийскую культуру за эти полтора тысячелетия. Сюжет ее, если попытаться сказать в двух словах, – это борьба двоюродных братьев, Пандавов и Кауравов, борьба за власть над Северной Индией. Я замечу, что основа «Махабхараты» – эпос племен, которые пришли в Северную Индию с запада, племен, которые, я уже говорила, сначала вели кочевой образ жизни, позже – полукочевой.
«Махабхарата»
Считается, что в основе Махабхараты лежат исторические события, которые проходили в Северной и Центральной Индии. Ученые проводили раскопки на месте Хастинапура, знаменитого по эпосу города, и нечто они нашли, поскольку кто ищет, тот всегда найдет, но, как говорится, далеко не всегда то, что искал. И то, что в эпосе описывается как великолепные, роскошные дворцы, облицованные мрамором, чуть ли не с хрусталем и так далее, это в реальности оказалось едва сохранившимися остатками глинобитных хижин, которые, впрочем, на этапе перехода от кочевого общества к оседлому, естественно, казались ариям дворцами.
Но в основе Махабхараты всё-таки события не столько исторические, сколько вполне традиционный эпический сюжет. Итак, вражда двух семей, двух родов двоюродных братьев. Пять братьев Пандавов и сто братьев Кауравов.
Начнем мы с Кауравов, они, в конце концов, и старше. Что мы о них знаем? Их отец – слепой царь Дхритараштра, что само по себе уже интересная характеристика. Их сто, и родились они следующим образом: их мать родила не ребенка, и не десять, и не сто детей, она родила кусок мяса, который был поделен на 101 часть, помещены эти части были в сосуды с топленым маслом, и в положенное время из этих сосудов родились, чтобы не сказать – вылупились, – сто сыновей и одна дочь. Одним словом, Кауравы имеют отчетливые черты мифических змеенышей, а их отец – черты владыки смерти. При этом старший из Кауравов – Дурьодхана – это главный злодей, второй – Духшасана – наиболее яростный, наиболее гневный. Опять-таки, такую пару мы уже неоднократно видели. Причем Кауравам, как и положено эпическим врагам, чужда хитрость, они честны, хотя и далеко не положительны. Так вот честность Кауравов так отчетливо противостоит хитрости, которую с завидной регулярностью проявляют Пандавы, и особенно их советчик Кришна, что по этому поводу даже существовала теория инверсии, что, дескать, некогда главными героями эпоса были Кауравы, и они были хорошие, потому что они честные. А потом сменилась политическая власть, эпос перевернули с ног на голову, главными героями стали Пандавы, они стали считаться хорошими, хотя они хитрецы и безнравственные, и прочее в том же духе.
Что можно по поводу теории инверсии сказать? Что, безусловно, эта прямота Кауравов – не честность, а простодушие эпического врага. Но, что любопытно, теория инверсии, хотя она в науке была отвергнута уже очень давно, неожиданно получила очень яркое воплощение в литературе. Уже упомянутые мною Олди написали прекрасную трилогию «Черный Баламут», свою версию событий «Махабхараты», которая как раз и построена на том, что Кауравы – достойные, а Пандавы – наоборот. А уж Кришна так уж вообще персонаж практически отрицательный. Но это не более чем художественный образ, и просто я на этом специально останавливаюсь, чтобы потом не возникало ошибочных мнений, что, дескать, эта самая инверсия имела место. Ее конечно же не было.
Основной причиной соперничества двоюродных братьев является царство, кроме того, их соперничество принимает форму угона стад, что отголосок очень архаичной формы быта. И действительно, сражение между Пандавами и Кауравами проходит вполне традиционно – в два этапа. И первый этап – это их сражение из-за стад, принадлежащих будущему союзнику Пандавов, а потом уже их противоборство обретает максимальную степень в битве на Курукшетре.
Сами Пандавы одновременно считаются сыновьями Панду, по которому и носят это имя, и при этом они являются сыновьями богов. Согласно индийским представлением, если царь, да, собственно, даже не обязательно царь, любой человек не мог иметь детей (а это, как уже было сказано, самое страшное бедствие и для него, и для его предков), то следовало провести обряд, на который приглашался благочестивый брахман, он проводил с супругой этого мужчины ночь, оставлял ее беременной, и при этом брахман получал плату как за проведенный обряд, а родившиеся дети считались вполне законными детьми мужа этой женщины. Царь Панду в свое время был проклят за то, что он убил пару ланей во время брачных игр. Он был проклят, и соитие с женщиной сулило ему смерть. У царя было две жены. (Я нарочно пока не касаюсь более ранних витков родословной главных героев, мы начинаем с середины, с самых важных.) Итак, у Панду было две жены, и они, соответственно, рожали не от мужа, а они рожали от богов. Старшая царица Кунти своего старшего сына Юдхиштхиру рождает от Дхармы, бога закона. В самом слове «дхарма» основное ключевое понятие для индийской культуры и позже затем для культуры буддистской; оно происходит от глагола со значением «держать», в общем, то, на чём мир держится, и буквально означает «закон», но можно переводить и как «добро в высшем смысле». Итак, Юдхиштхира – воплощение справедливости, персонаж, иногда выглядящий нерешительным, невоинственным, – одним словом, в своих проявлениях весьма сдержанный, причем его невоинственность трактуется в вполне брахманском духе: помимо убивания врагов есть и другие достойные способы победы. Хотя это изначально, может быть, просто некоторая его нерешительность.
Второй сын, Бхимасена, – это сын Ваю, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Его эпитет – «волчье брюхо», прожорливый невероятно, сильный, могучий, характер неукротимый, натура широкая, любит и ненавидит во всю ширь – одним словом, персонаж весьма колоритный, и неудивительно, что в дальнейшем у него будет любовное приключение с демоницей-ракшаси. И судьбу одного из батальных эпизодов на Курукшетре решает сын Бхимасена от этой самой ракшаси – полуракшас, полу… я не знаю что, получеловеком его называть как-то не хочется. Словом, Бхимасена – неукротимая сила, его оружие в лучшем случае дубина-палица, а то он любит сражаться ближайшим деревом, выдранным с корнем.
Противоположность Бхимасене – Арджуна, сын Индры, колесничный боец, знаток воинского искусства, воинской магии, благородный, красивый – словом, все достоинства при нем.
И наконец, у второй жены Панду, у Мадри, у нее от Ашвинов, божественных близнецов, два сына, тоже близнеца, Накула и Сахадева, о которых, в общем, в первую очередь говорится, что они прекрасны и в них влюбляются просто все женщины, которые их видят.
По поводу структуры семьи братьев-Пандавов Жорж Дюмезиль писал, что эта она вполне отражает три социальные функции индоевропейского общества, то есть Юдхиштхира соответствует царско-жреческой функции, Арджуна и Бхимасена воплощают в себе воинскую функцию, два ее аспекта, и двуединые близнецы – функцию третью, земледельческую, то, что связано с плодородием.
При этом у Кунти, старшей жены Панду, был и старший сын Карна. Когда Кунти была еще совсем девочкой, к ее отцу прибыл великий мудрец, и царевна за ним ухаживала, прислуживала ему фактически как служанка, и он был так доволен ее поведением, что сообщил ей мантру, то есть магическую формулу, которая позволяла вызывать любого бога. После чего мудрец удалился. Царевна осталась во дворце, стала взрослеть дальше, и с ней стали случаться, так сказать, странные состояния, которые в подростковом возрасте бывают с каждой девушкой. Словом, она, весьма смущенная тем, что у нее начались месячные, решила вызвать бога солнца Сурью, чтобы спросить, а что, собственно, с ней происходит, поскольку, видимо, сексуальное образование в Индии тогда было ниже необходимого уровня. Сурья явился и предложил царевне стать его возлюбленной, пообещав ей, что после этого девственность к ней вернется и никто не узнает о происшедшем. Что и произошло. И у нее родился сын Карна, который, поскольку он сын солнца, рождается с вросшим в тело золотым панцирем и золотыми серьгами. Естественно, что царевна вынуждена сына спрятать, и в итоге он растет среди колесничих. О том, чей он сын, он совершенно не знает, считает своим отцом Первого Колесничего. Затем уже, когда все царевичи выросли и сам Карна вырос, его судьба приносит в Хастинапур – город, где живут Пандавы и Кауравы, – и он становится другом Дурьодханы. Причем Дурьодхана возводит его в царское достоинство, просто потому что это его друг, и Карна с лихвой платит Дурьодхане за дружбу верностью. И что самое интересное, по логике индийской культуры Карна – это герой отрицательный. Казалось бы, почему? Он ведь верный друг, и Дурьодхана с ним был щедр просто по дружбе, почему эти качества воспринимаются негативно? Ответ заключается в том, что, согласно логике индийской культуры, каждый должен следовать своему долгу. И когда Карна узнает, что он сын Кунти и кто его настоящий отец, то он обязан оставить Дурьодхану и перейти на сторону Пандавов, быть вместе со своими кровными братьями. В то время как Карна верен дружбе, то есть движим чувствами личными, а не чувством долга. И именно поэтому, хотя Карна во всём подобен Арджуне и в чём-то даже его превосходит, именно поэтому потом, когда они сходятся в поединке, Карна гибнет. И Карна осуждаем, потому что личные чувства осуждаемы в рамках индийской культуры. Нам этого не понять, для нас проявление личных чувств – это высшее достоинство, и считается правильным действовать вопреки законам, но по побуждению сердца, а в тогдашней Индии такое крайне и крайне осуждалось.
Теперь попробуем разобраться с генеалогией этого рода. Без схемы это будет довольно сложно, но придется. Схему при случае нарисуете сами, чтобы действительно во всём в этом разобраться.
Итак, жил-был царь Шантану, и его избирает в мужья богиня Ганга. От этого брака рождается герой, который в основном действует под именем Бхишма, то есть «грозный». Он сын царя и богини, и, мало того, он воплощение Дьяуса, древнейшего бога неба, одного из наиболее древних богов вообще всего индийского пантеона. Неудивительно, что главным героям он приходится двоюродным дедом. Отец Бхишмы, поскольку Ганга его оставила, хочет жениться на рыбачке Сатьявати, но случается незадача, отец Сатьявати упирается и говорит, что, дескать, у тебя могут быть другие жены, другие сыновья, они моих будущих внуков свергнут, и поэтому я не хочу отдавать тебе свою дочь. Рыбак вынуждает царя Шантану дать клятву, что тот не возьмет других жен, но тут выясняется, что есть же старший сын, а у него же тоже будут дети, значит, между возможным потомством Сатьявати и самим Бхишмой или его потомками может вспыхнуть вражда; одним словом, всё это приводит к тому, что Бхишма из любви к отцу дает обет безбрачия, который и соблюдает. У Шантану и Сатьявати рождаются два сына, и Бхишма им находит жен, сначала женится один, но погибает, потом женится на этих же двух женах другой, но тоже погибает. В итоге оказывается ситуация весьма трагичная, когда есть две вдовы-царицы, Шантану к тому времени в живых уже нет, его сыновей в живых тоже. А как же продлевать род? И тогда Сатьявати рассказывает, что у нее есть вообще-то старший сын, и это ни больше ни меньше, как сам Вьяса, имя, которое в переводе означает «расчленитель». Как излагает «Махабхарата», Вьяса еще в утробе матери выучил все четыре Веды. Собственно, именно он разделил Веды на четыре части (за что и назван Расчленителем), и вообще он величайший мудрец. При этом обликом он страшен немыслимо, и, видимо, манеры у него тоже эксцентричные. Тем не менее делать нечего, чтобы род не прервался, необходимо приглашать Вьясу, чтобы он зачал двум царицам детей. Вьяса прибывает, и настолько он страшен, что в момент соития старшая царица закрывает глаза, и в наказание за то, что царица не пожелала смотреть на великого мудреца, ее сын рожден слепым. Этот сын и есть Дхритараштра, отец ста братьев Кауравов. Вторая царица во время соития побледнела, и за это ее сын рожден бледным, и, собственно, имя «Панду» в переводе означает «бледный», и это отец Пандавов.
Бхишма, поскольку он чрезвычайно благочестив, имеет возможность сам выбрать день и час своей смерти, и так он живет себе и живет, и вот уже и отца пережил, сводных братьев пережил, и вот уже один из племянников погиб, то есть Панду, поскольку он всё-таки возжелал свою младшую жену Мадри, и это привело его к сбывшемуся проклятию и к смерти. Итак, одного из племянников уже нет, и вот уже внуки подрастают, и уже внуки женятся, а Бхишма всё живет и живет, и жить он будет в аккурат до великой битвы. Такова предыстория этого рода. То есть мы видим потомков богов и плюс к тому уже одну аватару – воплощенного бога Бхишму.
Но тут дело, конечно, подходит и к другой аватаре. И в числе героев появляется Кришна. Кришна, который достаточно быстро становится другом Пандавов и их советчиком. Причем советы Кришны с завидной регулярностью весьма и весьма далеки от идеалов чести, и уже позже это трактуется как принципиальная непознаваемость бога, дескать, бог – за пределами человеческих законов и людям не понять его логику. А изначально, конечно, речь идет о том, что Кришна как персонаж имеет хорошо выраженные черты трикстера. И действует хитростью.
Далее как бы первое предварительное изгнание Пандавов. Они уезжают в город на празднества, но их там собираются убить, строят для них дом деревянный, пропитанный смолой, чтобы его поджечь, но Кришна дает Пандавам совет, Пандавы прорывают подземный ход, по нему спасаются, вместо них погибают совершенно другие люди, а Пандавы неузнанными бродят и приходят на сваямвару царевны Драупади. Условия сваямвары вполне традиционные: надо некий исполинский лук натянуть и выстрелить; и там же, на сваямваре, очень много различных царевичей, и там же, кстати, и Кауравы, и там же вместе с ними их друг Карна. Но когда приходит их очередь и Карна вполне успешно натягивает лук, с чем никто не мог справиться всё еще, то Драупади говорит: «Я не выберу сына возницы». Таким образом, Карне даже попытки не предоставляется, хотя понятно, что он мог бы справиться. В итоге лук натягивает и стреляет из него Арджуна, ему достается Драупади, он вместе с ней и с братьями приходит к своей матери, царице Кунти, которая разделяла с ними эти странствия. Мать, еще не видя их, слышит, что они говорят, мол, с нами благостыня, то она произносит: пусть она принадлежит всем вам. Таким образом она невольно обрекает Драупади на многомужество, что в итоге и происходит. Драупади становится женою всех пятерых братьев Пандавов. По этому поводу что можно сказать? Дело в том, что в Северной Индии и по ту сторону Гималайских хребтов, в Тибете, действительно была распространена полиандрия – многомужество. Так что это отголосок вполне реальных обычаев. С другой стороны, Драупади имеет черты богини плодородия. И ее многомужество – это одно из проявлений этих черт. Потом, кстати, оскорбление Драупади будет служить основным поводом к войне, к битве на Курукшетре, хотя, конечно, понятно, что причины другие, но поводом является оскорбление Драупади.
Теперь я замечу, что сюжет «Махабхараты» строится на повторах, и дублирование эпизода, как уже говорилось, – это один из важнейших сюжетообразующих ходов в эпосе вообще. Есть два изгнания Пандавов, первое – предварительное, когда они спасаются от гибели в смоляном доме и в итоге добывают себе Драупади в жены. И второе – основное, когда они проведут двенадцать лет в лесах. (Забегая вперед, точно так же будет две войны Пандавов с Кауравами: из-за стад царя Вираты и основная битва на Курукшетре.)
Почему идет мотив изгнания? Заметим, изгнания у нас и в «Рамаяне», изгнания у нас и в «Махабхарате». Откуда берется этот мотив? Дело в том, что изгнание, лишение имущества, лишение жилья, лишение всех прав – это своего рода бесстатусность перед воцарением. Фактически изгнание нужно воспринимать как форму инициации, причем инициации царской: прежде чем вознестись и стать царем, ты должен пройти через самый-самый низ и быть лишенным абсолютно всего. Это мы видели в «Рамаяне», и еще четче это в «Махабхарате».
Итак, Пандавы с Драупади возвращаются в Хастинапур, и происходит раздел царства, они уходят на север, там чудесным образом строят город себе Индрапрастху, где живут, потом приглашают туда Дурьодхану, отчасти издеваются над ним, отчасти бахвалятся своими чудесами. Одним словом, конфликт становится неизбежен, и Кауравы вызывают Пандавов на игру в кости. Игра в кости достаточно хитрая; в ней были определенные и довольно сложные правила. Это своего рода испытание на воцарение, и от имени Кауравов с Пандавами играет дядя Кауравов Шакуни, весьма искусный в этом деле. Юдхиштхрира, который считает себя большим знатоком игры в кости, принимает его вызов. Они играют, Юдхиштхрира последовательно проигрывает все свои драгоценности, затем проигрывает царство, затем одного за другим своих братьев, затем самого себя и затем ставит на кон последнее, что у него осталось, их общую жену царицу Драупади, и проигрывает так же и ее. Духшасана силой притаскивает Драупади в зал собраний, издевается над ней, Дурьодхана хлопает себя по бедру в знак того, что Драупади станет его наложницей; Бхимасена, естественно, кричит вне себя, он клянется сокрушить бедра Дурьодханы. Но тут в дело вступает старый Дхритараштра, который обращается к Драупади со словами утешения и говорит, что Юдхиштхрира проиграл самого себя, следовательно, не имел право ставить на кон жену, так что Драупади свободна и никто не должен с ней обращаться как с рабыней. Он утешает ее и предлагает ей выбрать дар, и она сначала просит, чтобы Дхритараштра вернул свободу Юдхиштхрире, затем – свободу остальным братьям. Она даже не просит вернуть им царство, потому что говорит, что братья свое царство вернут себе сами. Впрочем, царство им тоже возвращают. И потом следует вторая игра в кости, когда на кону стоит уже нечто иное, и проигравший должен уйти в леса на двенадцать лет, а тринадцатый год прожить неузнанным. Если на тринадцатый год проигравшая сторона будет кем-либо опознана, то надо уйти в леса еще на двенадцать лет. И эту игру Юдхиштхрира также проигрывает. Так что братья и Драупади с ними вынуждены двенадцать лет жить в лесах. И тут начинается книга третья «Махабхараты», книга «Лесная», сюжет которой, собственно, был уже пересказан: Пандавы живут в лесах. Чтобы создать у слушателя полноценное ощущение двенадцати лет, что делают сказители? Всё предельно просто – они наполняют эти двенадцать лет рассказом о том, что слушают Пандавы. То есть Пандавы сидят там, в лесу, вокруг, естественно, полным-полно всевозможных святых отшельников, и они рассказывают Пандавам различные истории. И это практически весь сюжет, за вычетом парочки эпизодов «Лесной» книги. Там, конечно, немереное количество разнообразных сказаний.
На тринадцатый год Пандавы приходят к царю Вирате под видом различных умельцев. Юдхиштхрира притворяется брахманом, Бхимасена устраивается на кухню в качестве повара (не столько готовит, сколько ест сам), Арджуна – учителем музыки, и Накула и Сахадева тоже на каких-то простых должностях. Драупади к супруге Вираты приходит служанкой. И всё бы ничего, и никто их не узнавал, и всё было в порядке. Но вот случилась первая неприятность: на Драупади положил глаз тамошний полководец Кичака и возжелал ее. Бедная Драупади в слезах прибежала к Бхимасене, просила защитить ее от домогательств. Бедную женщину можно понять. Бхимасена, который, как известно, не отличался ни сдержанным характером, ни особой покладистостью, узнав о том, что грозит его жене, вырвал с корнем ближайшее дерево и объяснил Кичаке, что тот был совершенно не прав, после чего то же самое пришлось объяснять всей родне Кичаки, потому что они захотели в отместку Драупади сжечь на погребальном костре полководца, который вот так ее хотел. Бхимасена, опять-таки, и это объяснил, и, в общем, от Драупади пришлось отстать. Дальше случилась следующая неприятность: стада Вираты угоняют Кауравы. Арджуна берет на колесницу юного царевича, сына Вираты, царевич боится вступать в бой (еще мальчик совсем), но Арджуна уверяет его, что всё будет в порядке, и сам в какой-то момент доверяет царевичу вожжи, а сам берет свой волшебный лук (подарок Индры) и побеждает Кауравов, отбивая стада. Тут как раз приходит срок окончания их пребывания неузнанными, и они открываются царю Вирате, заодно заключают с ним родственный союз. Все уже, конечно, готовятся к войне, причем Кришна делает вид, что своими советами пытается поддержать мир, но ведет себя так, что фактически он обе стороны к войне подстрекает. При этом он в итоге отдает свое войско Дурьодхане, с которым он тоже вроде как в неплохих отношениях, а сам в качестве простого колесничего принимает участие в битве на стороне Пандавов. Кришна становится колесничим Арджуны.
И вот приходит день битвы на Курукшетре. При этом старый Бхишма, дед Пандавов и Кауравов, вынужден возглавить войско Кауравов, хотя его симпатия на стороне Пандавов. Наставники Кауравов и Пандавов, опять-таки, все в том же самом войске. Вообще у Кауравов такой хороший численный перевес.
Перед битвой Арджуна в смятении: он должен биться против своих наставников, против своего двоюродного деда. И потом, как бы ни были плохи Кауравы, против своих двоюродных братьев. Он не хочет биться против них, он снимает с себя доспехи и говорит, что гори оно огнем это царство, биться я не могу и родных убивать я не должен. Но тут в дело вступает Кришна, который, собственно, и произносит ему в ответ «Бхагавадгиту»: он говорит о том, что Арджуна должен биться по долгу кшатрия, по долгу воина. Он должен быть вне любви и ненависти. Для него должно существовать только чувство долга. А результаты, плоды – это всё его не касается. Он должен сражаться, потому что он кшатрий. После этого Арджуна готовится вступить в битву. Здесь же очень показательный эпизод, когда Пандавы перед началом битвы идут к своему двоюродному деду Бхишме и просят у него, как у старшего родича, благословения на битву с ним. Опять-таки, поскольку и те и другие – кшатрии и должны биться не по ненависти или любви, не движимые личными чувствами, а только движимые чувством долга, то Бхишма их охотно на это благословляет.
Начинается битва. Описания сражений в «Махабхарате» весьма мощные, соответственно, это всевозможные громовые стрелы, это главные герои, которые тысячами и десятками тысяч в день убивают простых воинов, это копье, которое пролетает сквозь тело одного из главных героев, вонзается в землю, отчего главный герой почувствовал себя оглушенным и до конца этого дня не принимал участия в битве. Согласно «Махабхарате», за восемнадцать дней битвы было перебито что-то около миллиона человек. Словом, масштаб гипербол, безусловно, впечатляет. Некоторые так вообще видят в описании громового оружия, которое применяют обе стороны (по тексту, это магическое оружие, оружие богов, полученное в ходе весьма суровых обучений, испытаний), так вот, некоторые вообще видят чуть ли не очередное нашествие марсиан. Опять же, я об этом говорю, потому что такая точка зрения достаточно широко распространена, и лучше б, наверное, ей быть распространенной поменьше.
Изначально войсками Кауравов руководит Бхишма, и Пандавам приходится весьма и весьма туго. Но они в какой-то момент обращаются к Бхишме с вопросом: «О дед, подскажи нам, как тебя убить?» И тот сам дает ответ на этот вопрос. Мотив вполне узнаваемый: для эпического героя смерть в той или иной форме есть самоубийство. И в итоге в него стреляют из-за спины одного из персонажей, который изначально был рожден девушкой, но потом превратился чудесным образом в юношу. Бхишма смертельно ранен. И, уже умирая, он просит, чтобы ему дали напиться, Арджуна стрелой бьет в землю, начинает бить родник. Тогда Арджуна делает для Бхишмы ложе из стрел, поднимая на вонзенных в землю стрелах умирающего двоюродного деда. Здесь, по идее, должна быть гибель Бхишмы, но, как уже говорилось, «Махабхарата» – это эпос изначально воинский, который позже был обработан в брахманской среде и принял черты эпоса дидактического. Так вот, Бхишму оставляют в живых. И в имеющемся у нас тексте «Махабхараты» Бхишма уже после битвы на Курукшетре произносит огромнейшее, совершенно нечитаемое поучение, в котором он рассказывает Пандавам, как должен править царь. Это уже, конечно, нарушение эпических законов, но нельзя не отметить этот факт сам по себе.
Дальше предводителем войска Кауравов становится Дрона. Дрона – это наставник, воинский учитель и Пандавов и Кауравов, который больше всего на свете любит своего сына Ашваттхамана. И когда Пандавам приходится совсем туго, то по совету Кришны Дроне сообщают, что Ашваттхаман убит. И, опять же по совету Кришны, убивают слона с тем же именем, и Дрона обращается с вопросом к Юдхиштхире, правда ли, что убит Ашваттхаман. И Юдхиштхира, воплощение честности, воплощение справедливости, отвечает: «Да, Ашваттхаман убит», а потом шепотом добавляет: «Слон…» То есть солгать он не может, но вот таким образом он говорит правду, тем самым всё равно солгав. Широко распространенный в эпических текстах прием – лгать правдой. После этого Дрон отказывается уже биться, и его легко убивают.
Перед битвой Карна ссорится с Бхишмой и говорит, что он не вступит в битву, пока Бхишма жив. Это яркая, очень известная параллель к ссоре Ахилла с Агамемноном, с той лишь единственной разницей, что по степени божественности Карне с Бхишмой явно тягаться не приходится, ну да ладно. Но после гибели Бхишмы Карна вступает в бой, и затем идет один из центральных эпизодов «Махабхараты» – это поединок Арджуны и Карны. Как я уже говорила, герои примерно равны друг другу по воинской мощи, но на стороне Арджуны высшая справедливость, высший закон по индийским понятиям. И поэтому в какой-то момент земля начинает поглощать колесо колесницы Карны. Заметим, что для такого типа героя гибель через ноги – это вполне нормально, но вот здесь это мотив связывается не с ним, а с его колесницей. И в этот момент Арджуна его убивает. И, опять-таки, это идет как торжество чувства долга над недостойными воина индивидуальными страстями, индивидуальными привязанностями.
Очень жесткий, впечатляющий, но не в лучшем смысле, эпизод – смерть Духшасаны. Бхимасена, когда его повергают в бою, начинает терзать его тело и пить его кровь, и уже сам Бхимасена уподобляется ракшасу. Впрочем, с ракшасами у него много общего, даже сыночек, который в один из моментов боя приходит очень серьезно на выручку Пандавам и при этом погибает. И кстати, вот такой вот сын, побочный сын одного из героев, безумный исполин, дикарь огромного роста, огромной ярости, при этом обреченный погибнуть, – это образ не специфически индийский, это образ очень характерный для эпоса, и параллели встречаются нам, например, во французских сказаниях. Так что ничего такого особенного в полуракшасе – сыне Бхимасены нет.
Финал битвы. После еще нескольких дней войско Кауравов разбито, от него остается всего несколько человек, и остается сам Дурьодхана. Он прячется рядом с полем битвы, он прячется на дне озера и там сидит под водой. Гринцер и другие исследователи пишут, что здесь очень четко проявляются в образе Дурьодханы его как раз змеиные черты, поскольку действительно Кауравы имеют черты змеев и, кстати сказать, сама по себе битва на Курукшетре символически воспринимается как земное воплощение боя Индры с Вритрой, где функцию Индры воплощает его собственный сын Арджуна, а функцию Вритры – вообще Кауравы как совокупность змеев. К вопросу о параллелях: первое сражение Пандавов с Кауравами, освобождение стад Вираты – это, естественно, отголосок другого важнейшего мифа, индийского мифа Вала, похищения коров.
Итак, Дурьодхана прячется под водой, приходят пятеро Пандавов и Кришна. И здесь Юдхиштхира вызывает Дурьодхану на бой, говоря, что всё царство достанется тому, кто победит в этой схватке. Иными словами, он готов ради поединка с Дурьодханой поставить на кон результат всей битвы, всего этого чудовищного истребления людей. Дурьодхана соглашается выйти. И против него, что неудивительно, выходит Бхимасена, и они начинают биться на излюбленном оружии обоих – на палицах. И, несмотря на то что Дурьодхана истомлен и битвой, и поражением, он начинает одолевать. Тогда стоящий рядом Кришна бьет себя по бедру, напоминая Бхимасене о том, что тот клялся сокрушить бедра Дурьодханы, и Бхимасена наносит удар по бедрам – удар запрещенный. Удар ниже пояса в прямом и переносном смысле. Разбивает Дурьодхане бедра и оставляет его умирать, а сами Пандавы уходят. Истекающего кровью, умирающего Дурьодхану находят три воина, среди которых вот тот самый Ашваттхаман, сын Дроны, который и так исполнен ненависти к Пандавам за убийство отца обманом, а тут они еще видят умирающего царя.
И Ашваттхаман ночью нападает на лагерь Пандавов, где самих Пандавов, по счастью для них, не оказалось. Идет ночное избиение спящих. Ашваттхаман и еще два воина поджигают лагерь, становятся у выходов и всех, кто пытается выбежать из горящего лагеря, убивают. Этот сюжет находит идеальную параллель в «Илиаде»: ночная вылазка Одиссея и Диомеда, когда они точно так же громят спящий лагерь союзников Трои. И в общем-то, остается открытым вопрос, что это. Это или очень высокая степень совпадения, которая, конечно, может объясняться сходными условиями ведения войны, сходными воинскими хитростями, или же всё-таки это просто эпический сюжет, который восходит к индоевропейской общности.
В итоге от всего войска Пандавов остаются только пять Пандавов и Кришна. Затем они возвращаются в город, не очень-то это удастся назвать «с победой», но, как бы то ни было, Дурьодхана всё-таки умирает, и остальные три воина, с ними связан отдельный сюжетный ход, но, скажем так, они из сюжета исчезают.
Пандавы возвращаются с победой. И вот здесь происходит уже упомянутый мною ранее эпизод, когда слепой Дхритараштра хочет якобы обнять Бхимасену, на самом деле – его задушить. Но его слепоту обманывают чурбаном в доспехе, который слепой старик искорежил, а Бхимасену он бы просто убил.
Судьба Дхритараштры – уход в отшельничество, и царство достается Пандавам. Несмотря на кажущуюся победу, битва на Курукшетре – это начало конца, это начало Кали-юги, то есть черного периода в истории человечества. Для индийцев, как и для греков, история делилась на Золотой век, Серебряный, Медный и последний – это «Кали-юга», Черный век.
Кали-юга начинается с битвы на Курукшетре, и в дальнейшем всё идет хуже и хуже, и царство Пандавов оказывается обреченным. Точно так же обречено и царство Кришны. Хотя он царь в своей стране, но люди забывают законы, забывают свой долг, от чудовищного избиения мужчин женщинам приходится вступать в брак с кем попало, от этого смешиваются касты. И заканчивается всё тем, что народ Кришны просто избивает друг друга, и Пандавы не могут их защитить.
В конце концов сами Пандавы уходят за пределы мира, поднимаясь на гору Меру. Юдхиштхира, как воплощение справедливости, – он живым восходит на небеса, и позже к нему присоединяются уже умершие братья и Драупади. Так финал «Махабхараты» оказывается трагичен, и, вероятно, это результат обработки эпоса в брахманской среде. Естественно, что для брахманов воинские подвиги сами по себе особой ценности не имеют. Поэтому «Махабхарата» оказывается произведением, в котором вот эта тенденциозная и, в значительной степени, противоположная изначальному замыслу обработка сюжета приводит к очень ярким и заметным противоречиям.
От короля Лира к товарищу Сухову
Судьба мифологического клише в художественном мышлении
Общим местом является утверждение, что культура корнями уходит в мифологию. Но что стоит за этими словами? Значит ли это, что мифологический пласт в современном художественном мышлении – это лишь трансформированные осколки-архетипы, о которых писал еще К. Юнг? Или же речь идет о сохранности и воспроизведении цельной мифологической системы, утратившей внешнюю чудесность, но сохранившей глубинную значимость?
Справедливы оба суждения. Однако обычно исследователи основное внимание уделяют первому (так, Е. М. Мелетинский отмечает ориентацию ранних форм романа на героический эпос, генетическую связь романа с волшебной сказкой, который «возникает в результате трансформации героического эпоса и сказки, часто в ходе их взаимодействия»). Нам уже приходилось писать о том, что эпос и сказка восходят к гораздо более архаическим повествовательным формам – сказаниям о герое-первопредке (творце современного облика мира, победителе чудовищ), и мы утверждаем, что сюжет современного произведения может сохранять даже такие архаические представления. Более того, вся структура литературного произведения, вся система образов может строиться с сохранением законов мифологического повествования (разумеется, при утрате мифологического содержания). Эту сохранившуюся структуру архаических текстов, используемых авторами еще с конца Возрождения и в течение Нового времени неосознанно, в силу традиции, будем называть «мифологическим клише».
Мифологическое клише – это цельная система, где заранее заданы образы-архетипы, отношения между ними, сюжетные линии и тип оценок. Следование мифологическому клише никак не связано у автора ни со сверхъестественным элементом в повествовании, ни с фольклорными мотивами, ни, вообще говоря, со знакомством писателя с мифологией как таковой. Мифологическое клише – застывшая схема, «каркас произведения», где то, что в фольклорных текстах было сверхъестественным, в литературных стало значительным, выдающимся, однако вполне человеческим, а волшебство перешло в метафоры.
Автором мифологическое клише употребляется интуитивно (после Юнга нет необходимости доказывать, что образы-архетипы, входящие в клише, принадлежат сфере бессознательного). Жизнеспособность клише объясняется преемственностью традиции: исторически развиваясь, сюжетное повествование демифологизируется по содержанию, но сохраняет архаическую форму; кроме того, знакомство каждого будущего писателя с литературой начинается со сказок, мифов, героических преданий – произведений, где сохраняется архаическая логика, еще не застывшая в статичной форме клише. Конечно, нарисованная схема не обязательно будет воплощена. Возможны случаи, когда автор перерабатывает уже существующий до него сюжет, основанный на мифологическом клише, однако традиционные схемы использует механически, лишая их изначального смысла, отчего вся система клише рушится.
Чтобы продемонстрировать правильность сформулированной гипотезы, рассмотрим произведения, казалось бы, совершенно разные: трагедии Шекспира «Король Лир» и «Гамлет», роман Пушкина «Евгений Онегин» и классику отечественного кинематографа – сюжеты фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Белое солнце пустыни».
Инициация героя
Центральное место в кругу мифологических сюжетов (сказаний о богах, героического эпоса, волшебной сказки) занимает инициация героя, то есть путешествие в потусторонний мир (временная смерть), общение с его хозяевами и в результате получение магических сил, оружия и т. п. Обряд инициации у архаических народов, как правило, включал увод посвящаемых близкими родственниками в лес, мучительные пытки в шалаше, вход в который изображал пасть хозяина мира смерти, различные ритуалы, символизирующие поглощение и изрыгание посвящаемого зооморфным прародителем, многочисленные испытания, наконец, возвращение в племя и женитьбу.
Шекспировский Эдгар, как всякий посвящаемый, вначале лишается своего социального статуса – он изгнан отцом из-за клеветы брата. Именно в лес бежит Эдгар. Там он расстается с человеческой одеждой, превращаясь (точно следуя логике обряда!) едва ли не в дикого зверя:
- Приму нарочно самый жалкий вид
- Из всех, к каким людей приводит бедность,
- Почти что превращая их в зверей.
Более того, поскольку Эдгар изгнан, ему, чтобы уцелеть, следует стать невидимым, а в мифологическом мышлении аналог невидимости – нищета:
- Лицо измажу сажей, обмотаюсь
- Куском холста, взъерошу волоса
- И полуголым выйду в непогоду…
Описание пыток, которым подвергают себя сумасшедшие, напоминает инициатические испытания. О том же, изображая «бедного Тома», сам Эдгар рассказывает Лиру: «Черт носил его через костры огненные…» – проход через огонь как символ рождения заново обязательно присутствует в мифах об инициации; «Черт подкладывал Тому ножи под подушку, подсыпал яд ему в похлебку» – посвящаемым действительно давали наркотики или слабые яды, чтобы убедить их в том, что они умерли и воскресли; «Соблазнял его скакать верхом на гнедом через мосты-жердочки за своей тенью…» – переход по мосту толщиной в человеческий волос (этот мост идет через реку, отделяющую мир живых от мира мертвых) часто встречается в мифах, описывающих обряд. Как всякий посвящаемый, Эдгар вступает в общение с духами: «Берегитесь моего демона, вот он рыщет. Брысь, Смолкин! Брысь, нечистый!»
Встречаясь в шалаше посреди степи с королем Лиром, «бедный Том» так описывает себя (заметим, в третьем лице, что можно сопоставить с утратой личности в состоянии «временной смерти»): «Он питается лягушками, жабами, головастиками и ящерицами…» Это поедание человеком пищи мертвых в мифе, мяса тотема, хозяина мира смерти, в обряде символизировало поглощение человека патроном инициации; столь неэстетичное «меню» «бедного Тома» может быть сопоставлено с вообще присущей владыке мира смерти отвратительностью облика.
Цель инициации Эдгара, согласно логике клише, абсолютно традиционна – юноше нужны небывалые силы, чтобы победить своего личного врага Эдмонда. В образе последнего мы узнаем классический тип злодея, обладающего многими чертами мифического Змея – владыки мира смерти, главного врага героя. Это и невероятная жестокость (Эдмонд готов уничтожить брата и отца, отдает приказ о казни Лира и Корделии), и соблазнение женщин (шекспировский герой соблазняет сразу обеих старших дочерей Лира; «Такой рожден, чтобы увлечь любую», – говорит о нем Гонерилья). Мы не видим развития характера Эдмонда, напротив, герой предстает уже принявшим решение и полным сил для его осуществления. Откуда у Эдмонда силы, чтобы одолеть отца и брата? Можно ли предположить, что, согласно логике клише, его инициация уже позади? Ответом послужат слова Глостера: «Он девять лет был в отъезде и скоро опять уедет…» – длительное пребывание вне дома аналогично пребыванию в ином мире.
«Змеиным» чертам в образе Эдмонда соответствуют те же черты в образе преданной ему Гонерильи; «золотой змеей» называет ее герцог Альбанский. Он прямо сравнивает свою жену с уродливым Сатаной.
Для Шекспира и его современников порочность Эдмонда предопределена внебрачным происхождением. Эдгар и Эдмонд воплощают в себе силы неписанного человеческого закона и всегубящего разрушения; Эдмонд обладает некоторыми чертами мифического Змея, тем самым Эдгар оказывается в роли героя-змееборца. Родство Змея и его противника – непременный элемент древнейших мифов: Змей настолько силен, что только его родственник может обладать такой же сверхъестественной силой. Победив брата, старший сын Глостера возвращает себе доброе имя и титул – так же герой мифов, пройдя посвящение, получал власть и богатство.
В самом же Глостере причудливо сочетаются два мифологических образа: ложный герой, оказывающийся не в состоянии выдержать инициацию и погибший, и слепой владыка иного мира, отец Змея. Ложный герой – часто встречающийся в архаических мифах персонаж, чьи неудачи должны оттенять выдающиеся достоинства собственно героя; именно таким героем предстает Глостер по сравнению с Лиром. С другой стороны, слепота приводит Глостера к истинному видению событий; с мифологической точки зрения это означает, что человеку, который не видит мир людей, открыт мир духов и потому доступно всеведение (вспомним греческого слепого провидца Тиресия, скандинавский миф об Одине, отдавшем глаз за мудрость и т. д.). Слепота – непременный признак владыки смерти. (Баба-яга русских сказок, индийский Дхритараштра – отец «змеев» Кауравов, который, подобно Глостеру, абсолютно пассивен и невольно потакает злодействам сыновей.)
Судьбу Эдгара и Эдмонда Шекспир излагает языком мифологического клише, соблюдая его вплоть до мельчайших деталей. Привнесение истории Глостеров в трагедию о короле Лире является заслугой именно Шекспира, а не его литературных предшественников.
Какое же отношение ко всему этому имеет центральный персонаж – король Лир? Судьба короля, лишившегося всего, от горя потерявшего рассудок, скитавшегося среди нищих, а затем обретшего истинное понимание жизни, напоминает судьбу посвящаемого. Уход короля в начале трагедии от привычного существования, отказ от власти, начало цепи его скитаний вполне могут быть сопоставлены с уводом посвящаемых в лес, лишением социального статуса перед инициацией. Далее следует «раздевание», причем проходит оно в несколько этапов. На первом этапе Лир постепенно лишается своей свиты – в древнем обряде это лишение посвящаемых одежды. Владения дочерей Лира мало напоминают иной мир, мы вправе провести это сравнение только потому, что сам король исторгнут из привычной ему жизни. Но нет сомнения в том, что степь, в которую уходит Лир, – это самое сердце мира духов: там «на много миль в округе нет ни куста», там бушует сверхъестественная буря.
Ночная тьма часто встречается в описаниях иного мира, так же и Лир уходит в степь ночью. Душевную боль, заставившую короля бежать в ночь и в бурю, можно сравнить с инициатическими пытками. Лир называет себя жертвой стихии:
- Так да свершится
- Вся ваша злая воля надо мной!
- Я ваша жертва – бедный, старый, слабый…
Спутники короля приводят его к шалашу. Именно в шалаше происходит встреча Лира с тем, кто одним видом своим заставит короля взглянуть на мир по-иному, – с «бедным Томом». В чём же сходство и в чём различие между тем, что случилось в шалаше с Лиром, и тем, что происходило в инициатической хижине с посвящаемым?
В обряде сам облик хижины символизировал владыку мира смерти, и в мифах владыка представлялся ожившим трупом, выглядевшим отвратительно. Именно так и описывает себя «бедный Том»:
- Глядел он парой глаз, больших как месяц,
- Он был рогат и с тысячей носов.
- То был какой-то бес.
«Бедный Том», в отличие от шута и Кента, не пытается что-либо объяснить Лиру, однако вид несчастного оказывается для короля красноречивее наставлений спутников, точно так же и в обряде, и в мифе только встреча с владыкой иного мира перерождала посвящаемого. Шекспир очень точно следует законам инициации. (Сцены блуждания короля Лира в степи отсутствовали у предшественников Шекспира, гений которого столь точно воспроизвел те формы, что были присущи архаическому посвящению, наполнив их совершенно новым содержанием.)
Во время обряда посвящаемого заворачивали в шкуру тотемного животного, тем самым символизировалось превращение юноши в этого зверя, приобретение истинного родового облика. В трагедии же происходит обратное – Лир срывает с себя одежды. Однако смысл здесь тот же – обретение истинного облика: «Все мы с вами поддельные, а он [ «бедный Том»] – настоящий. Неприкрашенный человек и есть именно это бедное, голое двуногое животное, и больше ничего. Долой, долой с себя всё лишнее!.. (Срывает с себя одежды.)»
Поначалу Лир был убежден, что почести, воздаваемые ему как королю, относились к нему как к человеку. Шекспир стремится доказать, что истинная сущность человека – вне богатства и положения в обществе. Потому и срывание одежд Лиром здесь – символ его отречения от социального статуса. У предшественников Шекспира, начиная с Гальфрида (Джеффри) Монмутского, говорилось о бедности, в которую впал Лир, лишенный всего дочерьми, однако только у Шекспира Лир сам уподобляет себя «бездомным нагим горемыкам», разрывая со своим прошлым (о значимости раздевания в обряде инициации сказано ранее). Отсюда становится понятно, почему трагичен финал у Шекспира: если его предшественников интересовала судьба короля, лишенного владений и снова обретшего их, то Шекспир создает трагедию о пути короля к человеку в себе. Возвращение к прежнему Лиру невозможно. У Гальфрида Монмутского король, «сразившись с зятьями, одержал верх над ними. Затем, восстановив свою власть над всеми своими былыми подданными, он на третий год умер». Благополучен финал и в анонимной дошекспировской трагедии о Лире. Шекспир обрекает своего героя на смерть не только потому, что хочет показать несправедливость мира, этого требует внутренняя логика развития образа – после посвящения вернуться в прежнее качество нельзя.
В архаических мифах герой, странствуя по иному миру, пройдя посвящение, встречался с хозяйкой. В образе Корделии есть черта, прямо роднящая ее с героиней мифов, – она проводница. Еще в первой сцене девушка, как бы предрекая грядущие события, обвинила сестер в еще не проявленной жестокости, она же сумела разыскать переодетого Кента и чудесным образом нашла безумного отца. Встреча Лира с Корделией может быть сопоставлена с заключительным этапом обряда – возвращением посвящаемого в племя: там он снова обретает человеческий облик, став после инициации совершенно другим.
Тяготы странствий с королем разделяет шут. С точки зрения мифологического клише его можно считать магическим помощником – отдельной от героя персонификацией его качеств, «умом» Лира. Пока король превратно судит о действительности, его «ум» находится подле него, когда король обретает понимание мира, его ум лишается внешней персонификации и шут уходит из действия. (Так мифологическое клише позволяет ответить на трудноразрешимый для литературоведов вопрос о причине таинственного исчезновения шута из дальнейшего хода событий.) Но этим мифологические черты в образе шута не исчерпываются. Социальное положение шута позволяет сравнить его с обитателями иного мира – он бедняк из бедняков, к тому же «дурак», то есть ему предназначена роль полоумного, над «глупостью» которого потешается знать. Безумие и нищета, как уже отмечалось, символ принадлежности к иному миру. В образе шута прослеживаются черты потустороннего учителя, аналогичного сказочным старцам-странникам, проводящим как бы «предварительную инициацию» героя (они помогают герою добыть волшебное средство, с помощью которого тот совершает основные деяния). Так и шекспировский шут подготавливает Лира к пониманию истины, полное осознание которой произойдет при встрече с «бедным Томом».
Как можно убедиться на примере «Короля Лира», не только отдельные образы-архетипы продолжают существовать в литературном произведении, но и сохраняется вся структура мифа об инициации. Несомненно, она воплощается в тексте неосознанно, в силу художественной традиции, однако с точностью до деталей. Проблемы «Короля Лира» – это проблемы общечеловеческие, поэтому оказывается возможным и даже необходимым говорить о них языком мифа. И даже там, где архаический образ, казалось бы, отрицается (Лир в шалаше), логика мифа всё равно соблюдена, но с обратным знаком (вместо заворачивания в шкуру происходит раздевание, но это воплощение одной и той же идеи лишения обычной одежды).
Еще на одном моменте следует задержать внимание – на «двойном посвящении» в шалаше (Лир выступает в роли патрона инициации для Эдгара, а Эдгар – для Лира). Эта взаимная инициация не есть знак разрушения логики мифа, напротив, она встречается, например, в таком архаическом эпосе, как «Калевала» (герой, будучи проглочен, ест чудовище изнутри, в результате чего мудрость приобретают оба).
Неприятие лучшего
О воплощении мифологического клише в «Евгении Онегине» уже однажды приходилось писать, хотя и чрезвычайно кратко.
Начало романа – традиционная для сказки (и в меньшей степени для эпоса) недостача (смерть дяди) и отлучка героя (Онегин уезжает в деревню). Петербург, который покидает герой, представлен как мир обыденности («завтра то же, что вчера»), сам Онегин, несмотря на его хандру, часть этого мира. В деревне дело обстоит совершенно иначе.
В первой же строфе второй главы мы встречаемся с мифологическим образом: «Огромный, запущенный сад, Приют задумчивых дриад»; далее дом дяди называется замком, и, кроме того, поэт подчеркивает, что в этом доме время не идет («календарь осьмого года»). Таким образом, деревня воспринимается как аналог иного мира, а его обитатели, соответственно, жители мира смерти: помещики ездят на «домашних дрогах» (дроги, согласно словарю Даля, «колесница для отвоза покойников»), а дядя встречает Онегина, будучи мертвецом.
Мир смерти (негативная ипостась иного мира) традиционно представляется миром чудовищ, ярче всего это выражено во «Сне Татьяны»:
- Сидят чудовища кругом:
- Один в рогах с собачьей мордой,
- Другой с петушьей головой,
- Здесь ведьма с козьей бородой,
- Тут остов чопорный и гордый,
- Там карла с хвостиком, а вот
- Полужуравль и полукот.
В ином мире герой встречается с хозяйкой. Татьяна описана в романе как безусловно иномирное существо – и с точки зрения ее роли в сюжете, и с точки зрения роли в мире людей (при первой характеристике героини воспроизводится мотив рождения иномирного ребенка в человеческой семье). Нечеловек в человеческой семье разительно отличается от сверстников, с одной стороны, быстрым (или мгновенным) возмужанием, поскольку такой герой – воплощенный предок, он сразу рождается взрослым. Героиня не знала детства:
- Но куклы даже в эти годы
- Татьяна в руки не брала…
- И были детские проказы
- Ей чужды…
С другой стороны, если воплощенный предок рождается среди людей, то он может долгое время оставаться в неподвижности, накапливая магическую силу перед свершением подвигов (как, например, былинный «сидень» Илья Муромец). Эту черту в образе Татьяны Пушкин подчеркивает неоднократно:
- Дитя сама, в толпе детей
- Играть и прыгать не хотела
- И часто целый день одна
- Сидела молча у окна.
На московском балу она тоже не танцует.
Когда герой из иного мира должен родиться в мире людей, он всё равно сохраняет свои прежние потусторонние связи, оставаясь людям чужд. Данный мотив также воплощен в романе: вместо человеческих друзей у Татьяны – книги (это может служить и своеобразным преломлением мотива мудрости хозяйки иного мира). Другое воплощение мотива – связь Татьяны с луной, которая в сцене написания письма предстает фактически третьим действующим лицом, едва ли не более активным, чем няня («вдохновительная луна» выступает в роли советчицы, участливой подруги, в отличие от непонимающей старушки).
Сказанное об иномирных чертах героини можно обобщить словами романа:
- Дика, печальна, молчалива,
- Как лань лесная боязлива,
- Она в семье своей родной
- Казалась девочкой чужой.
Важно отметить, что сравнения с животными в романе чрезвычайно редки и являются своеобразным знаком иномирности. Всё это, а также роль Татьяны в сюжете позволяет видеть в ее образе отражение мифологических представлений о хозяйке иного мира, владычице леса (которая в мифологии, как правило, предстает в образе лани – например, греческая Артемида). Согласно мифологическому клише, жениться на хозяйке и есть цель переправы героя в иной мир. Однако в романе свадьба не состоялась. Но это не является отрицанием мифологического клише. В мифологических текстах (особенно в героическом эпосе) нередко встречается мотив отвержения героем любви богини. Этот мотив возникает в эпоху ранней государственности, когда отношение к иному миру становится по преимуществу негативным. Такое отношение людей к «чужакам» в высшей степени характерно для русских былин, в том числе былины о Дунае, о сходстве романа с которой речь пойдет далее.
Итак, и образы, и сюжетные ходы романа строятся на основе мифологического клише. Это относится и к образу Ленского. В системе персонажей Ленский занимает особое место: он чужд и одновременно близок Онегину. Ленский также приезжает в деревню, но не из столицы России, а из «Германии туманной», его называют «полурусским». Вообще говоря, для героя русского литературного произведения этого вполне достаточно, чтобы он был обречен на гибель, поскольку особенностью русского мифологического мышления является отношение к иноземцу как к врагу, даже если он помогает. Обреченность Ленского следует и из его роли в сюжете. Он подобен Онегину, но ошибается в выборе ценностей (заблуждается в Ольге), то есть является воплощением архетипа ложного героя – неудачника.
Средоточием мифологических мотивов в романе является «Сон Татьяны». Итак, Татьяне снится, что она идет в темноте по снежному полю (мрак и холод – атрибуты мира смерти), она должна перейти ручей (сравним с рекой смерти, текущей на границе самого сердца иного мира – Стикс греков, черная река Маналы в «Калевале» и т. п.). В роли перевозчика (в романе – помогает перейти) выступает медведь, являющийся в русской мифологии хозяином леса (то есть мира смерти). Поскольку переправа в центр иного мира имеет в большей или меньшей степени инициатический характер, то неудивительно, что путь Татьяны описывается как частичное раздевание (о его роли сказано в предыдущей главе) или растерзывание (аналогично пути шумерской богини Инанны в «страну без возврата»):
- То длинный сук ее за шею
- Зацепит вдруг, то из ушей
- Златые серьги вырвет силой;
- То в хрупком снеге с ножки милой
- Увязнет мокрый башмачок;
- То выронит она платок…
Наконец Татьяна падает, и медведь ее несет, причем
- Она бесчувственно-покорна,
- Не шевельнется, не дохнет…
то есть подобна мертвой; в мифологии перевозчик тождествен поглотителю, а переправа – временной смерти. Далее следуют «шалаш убогий», пир в котором сравнивается с похоронами (прямое сопоставление с миром смерти), и традиционные для мифологии образы пирующих чудовищ. В качестве хозяина мира смерти выступает Онегин – складывается ситуация, аналогичная «Королю Лиру»: Онегин и Татьяна, так же как и Лир и Эдгар, являются посвящаемым и патроном инициации друг для друга. Целью «инициации» Татьяны, вероятно, следует считать получение провидческого дара – она узнает о грядущей смерти Ленского.
Однако вернемся к судьбе Онегина, к его «инициатическим» странствиям. Можно с полным правом говорить о пребывании Онегина в деревне как об инициации потому, что он возвращается в Петербург совершенно другим, неузнанным и почти что невидимым:
- Но это кто в толпе избранной
- Стоит безмолвный и туманный?
- Для всех он кажется чужим.
- Мелькают лица перед ним
- Как ряд докучных привидений…
- Кто он таков? Ужель Евгений?
(Понимая слово «туманный» буквально, можно сказать, что Онегин описывается как призрак, и подтверждается это тем, что людей он видит как привидения – в мифологии живые люди и иномирные существа невидимы друг для друга.) С внешней стороны его новая встреча с Татьяной может быть рассмотрена как воплощение мотива «муж на свадьбе своей жены» – вспомним «Одиссею», былину «Добрыня в отъезде»: герой отправляется в иномирное странствие и возвращается, когда его жену насильно выдают замуж. Очевидно, что этот мотив в романе сильно трансформирован и, главное, повторим, касается лишь внешней стороны событий. Здесь интересно совсем другое: трагическая невозможность счастья для весьма незаурядных главных героев.
Позволим себе отступление в область русских былин. Речь пойдет об упомянутой былине о Дунае, которую Пушкин, несомненно, знал (в собственных примечаниях поэта к «Онегину» упоминаются «Древние российские стихотворения» Кирши Данилова, и былина о Дунае входит в этот сборник). Сюжет былины напоминает «Онегина»: два друга, Дунай и Добрыня, едут в Литву (иной мир) добывать невесту (правда, не себе, а князю Владимиру), в Литве есть две королевны, одну из них Добрыня увозит в Киев в жены князю, а на другой, богатырке, женится Дунай и также увозит в Киев, но там и он, и его жена погибают. В обоих случаях речь идет о двух друзьях и двух сестрах, один из друзей гибнет, герой вместо добывания невесты для себя отдает ее другому. Однако дело не в сюжетном, а в идейном сходстве романа и былины.
Дунай, герой-чужак, связан с иным миром (былинная Литва), его жена, литовская богатырка Настасья, тоже, оттого в системе ценностей русского эпоса они обречены на гибель. Не из-за недостатков, не из-за враждебности – только из-за иномирности. Поэтому былина заканчивается не счастливой свадьбой, а невольным убийством Дунаем своей жены и его самоубийством. Именно это клише воспроизведено в романе: образы и Татьяны, и Онегина обладают чертами иномирности, поэтому герои обречены. Татьяна остается на духовной высоте, Онегин сражен, но жизнь обоих приводит к краху. Не только сюжет, но и идейная линия романа строится на мифологическом клише.
Борьба со змеем
В классическом кино сюжеты едва ли не в большей степени, чем в классической литературе, связаны с мифологическим клише.
«Ирония судьбы, или С легким паром!» Рязанова сама по себе является произведением культовым: ну какая же новогодняя ночь без этого фильма и кто станет смотреть его не в новогоднюю ночь? Нельзя не отметить, что связь с ритуалом непременна для значительного корпуса мифологических текстов.
Время действия в фильме – новогодняя ночь – сразу же обозначается как мифическое, как время всевластия потусторонних сил. Такая ночь (обычно перед зимним солнцестоянием или праздниками, на которые перенесена его символика, – Рождеством, кельтским Самайном и т. п.) – время контактов с иным миром и его обитателями, причем эти контакты прекращаются с наступлением утра (вспомним гоголевскую «Ночь перед Рождеством»). Вступить в контакт с иным миром человек мог, придя в место, принадлежащее обоим мирам. В русской усадьбе таким местом считалась баня – место, где человек появлялся на свет, где обмывали покойного, где ставили угощение духам неупокоенных мертвецов, гадали (именно в новогодние дни) и т. д. Относительно фильма комментарии излишни.
Для контакта с потусторонними силами человек должен выйти из обычного психологического состояния в одну из крайностей – либо в экстаз, либо в сон. Экстатическое возбуждение достигалось многими способами, наиболее распространенным было принятие галлюциногенов или опьянение (например, на ритуальном опьянении как средстве достижения контакта с богом строилось дионисийство). С другой стороны, средством открывания врат иного мира являлся сон (например, возвращение Одиссея из иномирного странствия спящим). Всё это видим в сюжете фильма. Примечательно, что опьянение и сон как средства переправы дополняют друг друга. Еще одна интересная деталь: у Женьки Лукашина, спящего в самолете, из портфеля торчит веник, это не может не вызвать ассоциаций с общеизвестным волшебным перелетом на метле. В дальнейшем Женька будет очень дорожить «ценным» веником, и Надя полетит в Москву, по ее словам, именно чтобы вернуть веник, – так образ веника нашел устойчивое выражение как средство переправы.
В мифологии многих народов потусторонний мир выглядит так же, как и мир людей; героя, прибывшего туда, иномирные силы ждут и потому впускают (московский ключ подходит к ленинградской квартире). Герой встречается с хозяйкой иного мира. Помимо прочих сверхъестественных достоинств хозяйка обладает мудростью, которая в архаическом мышлении неотделима от пения. Еще одна особенность – она воплощение солнечного света, что, как правило, символизируется золотыми или белокурыми волосами. В отличие от живых людей, ее не касается время (замечательно поющая белокурая Надя выглядит так же, как и на фотографии десятилетней давности). Если героиня представляет собой хозяйку солнечного света, то мифологическое клише требует появления ее противника – Змея, связанного с силами Хаоса, смерти. Змей, будучи насильником, стремится завладеть хозяйкой солнечного света (взять в жены, похитить и т. п.), ее должен освободить змееборец.
В образе Ипполита черты Змея присутствуют в избытке. Взять хотя бы способ передвижения Ипполита, он ездит в автомобиле: Змей – существо безногое, однако способное летать или иным образом очень быстро перемещаться; у Ипполита «ботинки на тонкой подошве» – у образов, восходящих к Змею, непременно уязвимы ноги. В мире мрака и холода Змей – безраздельный владыка: Ипполит выезжает на ночной лед реки, на его автомобиль высыпают снег, но с ним ничего не происходит. Наконец, самое интересное: силы Хаоса, смерти, которые воплощает Змей, – это мрак, холод и вода, и Ипполит не только ездит по замерзшей реке, но и моется под душем, причем под холодным, и подразумевается, что его желание «заболеть и умереть» не осуществится – Змей находится в своей стихии, где гибель ему не грозит.
В архаических мифах змееборец, выходя против водяного Змея, дабы уподобиться ему (враг гибнет только от себе подобного), должен быть в опьянении (таков, например, бой индийского громовержца с драконом, поглотившим воды), и Женька, будучи пьяным, встречается с Ипполитом. Еще одна «гастрономическая» деталь – вкушение пищи в ином мире как средство приобщения к нему: неприятие Надей Женьки заканчивается с бокалом шампанского; пищу, приготовленную хозяйкой, откровенно называют стрихнином, однако едят (в мифологии иномирная пища смертельна для всех живых, кроме героя).
Несколько слов о сюжете в целом. Как уже отмечалось, мотив брака с хозяйкой обязателен для архаического мышления и переходит в мифологическое клише. В древних мифах брак в ином мире есть лишь средство получения героем неких природных и культурных ценностей для мира людей. Такой ценностью может выступать и приведенная к людям сама хозяйка – воплощение сил света и жизни. Нередко герой должен делать выбор между хозяйкой и земной женщиной, причем в архаических мифах выбор делается в пользу хозяйки, а в более поздних – наоборот. Здесь клише следует законам архаики.
Не менее ярким воплощением мифологического клише служит сюжет фильма «Белое солнце пустыни», в основе которого лежит всё тот же мотив борьбы со Змеем-насильником. Место действия – владения «Змея», безжизненный иной мир (пустыня и берег моря). Враг-Змей (Абдулла) еще в большей степени, чем в предыдущих примерах, предстает воплощением сил Хаоса, смерти; кроме того, здесь встречается мотив пленников Змея (гарем), изначально он восходит к представлению о царстве мертвых во чреве владыки (вспомним выражение «всепожирающая смерть»), в сочетании с мотивом Змея – похитителя женщин возникает образ бесчисленных пленниц (как и у индийского демона Раваны из «Рамаяны»).
Змееборец должен быть подобен Змею: раз «Змей» – Абдулла предстает владыкой пустыни, то неудивительно, что змееборца зовут Сухов. Как и положено герою, Сухов неуязвим – невозмутимо прикуривает от динамита. Змееборцу необходим «волшебный помощник» – не просто персонификация магических способностей героя, но и обитатель иного мира; обычно в сказках в качестве помощника выступают благодарные животные, жизнь которых спасает герой. Таким благодарным «волшебным» помощником предстает Саид (его первое появление в сюжете – голова, торчащая из песка, – выглядит достаточно сверхъестественно), способный, подобно какому-нибудь русскому Сивке-Бурке, чудесным образом появляться, когда герой позовет его условным кличем (Саид появляется на звуки перестрелки).
Своеобразным испытанием героя служит встреча с иномирной женщиной (нет оснований отождествлять Гюльчатай с хозяйкой – она принадлежит к иному миру, но властью над ним не обладает, она пассивный объект борьбы Змея и героя). Здесь важно отметить следующее. Во-первых, выбор между иномирной и земной женщиной в данном случае герой должен делать в пользу земной (это воплощение мотива отвержения героем любви богини, причем миф подразумевает, что если герой не устоит перед чарами обитательницы иного мира, то останется с ней навсегда, то есть умрет). Во-вторых, здесь вновь встречается мотив ложного героя (Петруха), чьи ошибки и гибель только оттеняют правоту собственно героя. Причиной гибели ложного героя служит нарушение запрета жениться на иномирной женщине. Обстоятельства гибели Петрухи насквозь мифологичны. Обитательница иного мира может обладать смертоносным взглядом и потому должна скрывать лицо под покрывалом. Для героя, принадлежащего к обоим мирам, ее взгляд нестрашен, но ложного героя он губит – когда Гюльчатай «открывает личико», это оказывается Абдулла.
Еще один персонаж, логикой клише обреченный на гибель, – Верещагин. Бывший таможенник соответствует стражу границы потустороннего мира. Жилище Верещагина – своеобразное воплощение образа «благого» иного мира, дом-крепость, где разгуливают павлины, где нет пищи людей (хлеба), но избыток иномирного изобилия (корытце черной икры и, более важное для героев, пулемет и множество разных боеприпасов). В эпосе встреча героя со стражем, как правило, приводит к гибели последнего (например, Илья Муромец и Соловей-разбойник); с другой стороны, страж принадлежит именно к иному миру, а для таких героев желание прийти в мир людей смертоносно (так, по одной из версий, гибнет былинный Святогор). Как видим, в фильме обе мифологические мотивации сохраняются: Верещагин гибнет, решив помочь Сухову, причем не на «своей» земле, а в море; с другой стороны, Верещагин принадлежит к тому же «миру», что и Сухов, и поэтому его смерть может рассматриваться и как «заместительная жертва» – мотив, чрезвычайно распространенный в героическом эпосе.
Из отдельных моментов, основанных на мифологическом клише, интересен образ абсолютно неподвижных аксакалов, у которых Сухов забирает динамит. Их сверхъестественная бездвижность, безучастность ко всему (взрывом с аксакалов сбило тюрбаны, но они даже не шелохнулись), почти полная безмолвность позволяют говорить об их соответствии неподвижным владыкам мира смерти, хранителям сокровищ или магического оружия (в качестве литературного примера вспомним Голову из пушкинской поэмы «Руслан и Людмила»).
Еще одна деталь, чрезвычайно важная с точки зрения клише, – цистерна, в которую прячутся Сухов и женщины. Классическая форма змееборчества – поглощение героя Змеем, так что борьба с чудовищем сводится к рассеканию его изнутри, причем в мифологических текстах мотив поглощения Змеем может заменяться заточением героя в бочке; победа над Змеем является одновременно выходом из чрева-бочки. Это и происходит в финале сюжета.
Приведенные примеры свидетельствуют: литературное произведение нередко оказывается мифологическим каркасом, обтянутым современной тканью (с точки зрения структуры образа нет принципиальной разницы между индийским демоном – похитителем женщин Раваной, передвигающимся на воздушной колеснице, и рязановским Ипполитом, ездящим на автомобиле). В рассмотренных произведениях не просто присутствуют образы, восходящие к мифологическим архетипам, не просто сюжет напоминает архаические мифы – в них сохранена логика мифологического клише. Иными словами, мифология позволяет понять то в этих произведениях, что другим образом объяснить зачастую очень трудно (исчезновение шута Лира, гибель Ленского и т. д.). Только при сохранении логики древних мифов мы вправе говорить, что в произведении воплощено мифологическое клише, в остальных случаях можно констатировать лишь его элементы, осколки, следы, но не более. Примером подобного служит «Гамлет».
Механическое употребление клише
На первый взгляд, в «Гамлете» мифологическое клише представлено не менее широко, чем в рассмотренных произведениях: призрак открывает Гамлету истину, однако принц не имеет достаточно сил, чтобы свершить месть, и силы эти он получает после морского странствия (аналог переправы в иной мир), встречаясь потом с могильщиком (аналог хозяина смерти), затем карает убийцу отца. Такой сюжет действительно соответствует мифологическому клише, но это – не сюжет шекспировского «Гамлета».
Так, Гамлет дважды встречается с тенью отца, и мы вправе ожидать увидеть в этом инициатический мотив, однако он здесь усматривается крайне слабо: хотя призрак и открывает принцу истину, но Гамлет уже сам догадывался о ней («О вещая моя душа!» – восклицает он); при инициации герой получал от духов силы, а Гамлет, напротив, едва ли не слабеет душой, услышав о злодеянии, и не решается действовать. То же касается и мнимого безумия принца. В мифологии безумие – знак связи с иным миром, получение мудрости, магической силы от его обитателей. Мнимое безумие Гамлета никак этим не соотносится.
Аналогично обстоит дело с путешествием Гамлета, Розенкранца и Гильденстерна в Англию. Здесь отсутствует главное в мифе – приобретение героем силы: как уже отмечено, способность к решительным действиям Гамлет обрел раньше этого путешествия.
Заметим, что в «Короле Лире» все мотивы и образы, имеющие мифологический подтекст, были введены самим Шекспиром, в «Гамлете» же эти мотивы заимствованы из произведений предшественников на ту же тему.
Встреча с могильщиком тоже не имеет черт посвящения, в отличие от «Короля Лира», где каждая встреча с нищим фактически соответствует инициации. Здесь – другое: решимость и способность действовать созрела в Гамлете гораздо раньше, а важность этого эпизода – не в мифологическом подтексте, а в тех рассуждениях о жизни и смерти, которые вызывают у Гамлета вид кладбища и произошедшее там.
Если в «Короле Лире» женские образы однозначно соотносились с героинями мифов, то в «Гамлете» такой соотнесенности нет. Иномирную природу Офелии подчеркивает сам Гамлет, называя ее нимфой, – чистая и прекрасная девушка подобна благосклонной к герою хозяйке иного мира, однако она покорна отцу, вершащему волю Клавдия, и поэтому оказывается в числе врагов принца.
Приведенных примеров достаточно, чтобы увидеть разницу между «Королем Лиром» и «Гамлетом». В первой трагедии герои либо благородные и достойные люди, либо нет, характер некоторых персонажей по ходу действия меняется, однако мы не встретим у одного и того же героя совмещения добродетели и порока одновременно. В «Гамлете» абсолютное большинство характеров значительно сложнее – это не титаны, это живые люди с их достоинствами и слабостями. Неудивительно, что они не укладываются в четкие и ясные схемы мифов.
Но есть среди персонажей «Гамлета» один, имеющий прямые аналогии с героем мифов. Это Клавдий, с первых сцен трагедии предстающий злодеем. Призрак говорит о нем как о змее. Клавдий напоминает Эдмонда-«Змея», но как несхожи змееборцы! Насколько решителен Эдгар, настолько же медлителен Гамлет; первый побеждает, второй, одолев «Змея», гибнет. Если Эдгар – прямой наследник героев древних мифов, то Гамлет не имеет с ними почти ничего общего. Шекспир в самом начале трагедии подчеркивает, что принц – не герой-исполин, не свершитель подвигов, говоря словами Гамлета, его дядя «на отца похож не боле, / Чем я на Геркулеса».
Мы сталкиваемся с поразительным явлением: обрабатывая древние предания о Гамлете и Лире, Шекспир идет двумя прямо противоположными путями – он предельно приближается к мифам в «Лире» и столь же удаляется от них в «Гамлете», где большинство героев не только не соответствует прообразам, но и в ходе сюжета логика мифа постоянно отрицается (по сравнению с предшествующими сочинениями на эту тему), хотя в сюжете и присутствует сверхъестественное.
Такая противоположность подходов к мифологии говорит о том, что, во-первых, миф использован именно как клише – интуитивно. Во-вторых, на примере двух произведений одного и того же автора ясно видно, что вечные проблемы (взаимоотношения между родителями и детьми, истинная сущность человека, предательство и воздаяние за него) изображаются именно средствами мифологии, того клише, на котором зиждется вся мировая литература, которое человек неосознанно осваивает с раннего детства из сказок, героических преданий; проблемы же духовной жизни человека, его разлада с самим собой возникли гораздо позже: если древний герой действовал, то герой эпохи Возрождения и позднейшего времени стал больше размышлять, глубина мысли и есть его достоинство. Такой герой далек от мифического, это живой человек.
Корни литературы настолько глубоко уходят в мифологическую почву, что даже при отсутствии логики клише отдельные мотивы, восходящие к архаике, всё равно сохраняются. Здесь может возникнуть вопрос: является ли сохранность клише достоинством или недостатком произведения? Рассматривая произведения безусловно классические, мы старались показать, что такой вопрос неправомерен. Впрочем, клише может служить готовым материалом для литературных штампов, поэтому его наличие или отсутствие ничего не добавляет к художественным достоинствам произведения. Мы лишь стремились раскрыть, насколько последовательно может архаика сохраняться в литературе и до какой степени иногда логика мифа является довлеющей в сюжете.
Список литературы
Альбедиль М.Ф. Забытая цивилизация в долине Инда. М., 1991.
Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. М., 1983.
Ригведа. Избранные гимны. М., 1972.
Антес Р. Мифология в Древнем Египте // Мифология древнего мира. М., 1977, с. 70–78.
Баркова А.Л. Четыре поколения эпических героев // “Человек”, 1996, № 6; 1997, № 1.
Буслаев Ф.И. Русский богатырский эпос // Буслаев Ф.И. Народная поэзия: Исторические очерки. СПб., 1887.
Голосовкер Я. Сказания о титанах. М., 1994.
Гринцер П. А. Древнеиндийский эпос. М., 1974.
Гуревич А. Я. “Эдда” и сага. М., 1979.
Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986. С. 137–152.
Елизаренкова Т.Я. “Ригведа” – великое начало индийской литературы и культуры // Ригведа. Мандалы I–IV. М., 1989.
Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки. М., 1995.
Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
Иванов В.В., Топоров В.Н. Мокошь // Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.II. М., 1992. С. 169.
Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянская мифология // Там же. С. 450–456.
Клингер В. П. Животное в античном и современном суеверии. Киев, 1911.
Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. М., 1976.
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление // Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.
Лосев А. Ф. Античная мифология в историческом развитии. М., 1957.
Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982. С. 259–373.
Матье М.Э. “Тексты Пирамид” – заупокойный ритуал. // Вестник Древней истории. 1947. N 4.
Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. Л.-М., 1961. С. 306–391 (о реформах Эхнатона).
Матье М.Э. Мифы древнего Египта. Л., 1940.
Матье М.Э. Хеб-сед (Из истории древнеегипетской религии). // Вестник Древней истории. 1956. N 3.
Махабхарата. Рамаяна. М., 1974.
Мелетинский Е.М. “Эдда” и ранние формы эпоса. М., 1968.
Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986.
Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. Ч.II. М., 1976.
Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса. М., 1969.
Норман Браун У. Индийская мифология // Мифологии Древнего мира. М., 1977.
Песни, собранные П.Н.Рыбниковым. Под. ред. А. Е. Грузинского. М., 1909–1910. №№ 190 (Исцеление Ильи), 4 (Илья и Соловей), 51, 86 (Святогор), 5, 199 (Илья и Сокольник), 118, 62 (Илья и Идолище), 7, 119, 127 (Ссора с Владимиром и бой с войском Калина), 176 (Три поездки Ильи); 25 (Добрыня и Змей), 129 (Добрыня в отъезде), 192 (Добрыня и Маринка); 27 (Алеша и Тугарин), 38 (Вольга), 165 (Микула), 30 (Ставр), 42 (Сватовство Дуная); 63, 29 (Дюк).
Пропп В.Я. Русский героический эпос. Л., 1955.
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.
Пропп В.Я. Чукотский миф и гиляцкий эпос. // В кн.: В.Я.Пропп. Фольклор и действительность. М., 1976.
Путилов Б.Н. Русский и южнославянский героический эпос. М., 1971.
Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1987.
Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981.
Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Л., 1970.
Старшая Эдда. М.-Л., 1975.
Стеблин-Каменский М.И. Миф. Л., 1976.
Темкин Э.Н., Эрман В.Г. Мифы Древней Индии. М., 1985.
Темкин Э.Н., Эрман В.Г. Три великих сказания Древней Индии. М., 1978.
Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982.
Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. М., 1960.
Штаерман Е. М. Социальные основы религии древнего Рима. М., 1987.
Эдда. Скандинавский эпос / Пер., предисл. и ком. С. Свириденко. М., 1917.