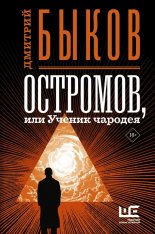Не плачь Вишнякова Наталья

© Вишнякова Н. Н., текст, 2020
© Оформление. ООО «Издательский дом „КомпасГид“», 2020
Памяти Гали Божедомовой
Костя
#не_плачь
1
Да, у меня есть мечта. Я и не отпираюсь. Конечно, не хочется сообщать о ней всем и каждому, как это делал мой брат-близнец Владик, когда ему было года четыре или даже пять. Он, как только кто-нибудь ему «привет» говорил, сразу слабел духом и раскалывался: «А вы знаете, о чем я мечтаю?» И, не успевали ему ответить, что не знают, сразу продолжал: «Я мечтаю о розовом синем попугае». Тут все принимались смеяться, спрашивать, так о розовом или о синем, а может, о розово-синем, и разве такие попугаи бывают, а Владику становилось обидно, и он сразу убегал в другую комнату вместе со своей мечтой.
Я его очень хорошо понимаю. Разве это дело, когда ты им – о самом, можно сказать, сокровенном, а они – смеяться? Не смеялся только дядя Игорь. Поэтому если я и расскажу кому-нибудь о своей мечте, так только ему, хотя он и редко к нам заходит в последнее время.
Делиться нужно с теми, кому доверяешь. Мечтами, я имею в виду. Хотя вчера я умудрился неудачно поделиться с Юлькой розовым капкейком.
Мы с бабушкой очень любим печь что-нибудь в духовке. Пирожки с капустой, пиццу «Маргариту» и булки «Московские» мы уже освоили. Но недавно нам попался на глаза один журнал, а в нем эти злополучные капкейки. Это такие кексики с шапочкой, их можно украсить как хочешь, и поэтому праздник – не только ими лакомиться, но и придумывать, какими они будут. Нам идея с капкейками ужасно понравилась. И мы решили во что бы то ни стало их испечь.
Они получились, как бабушка сказала, отменные. Мне на завтрак остался один кексик, самый красивый, розовый. Но утром я, конечно, проспал и уже не успевал поесть медленно, с толком. А такие вещи, как капкейк с розовой шапочкой, не прочувствовав по-настоящему, есть не интересно, поэтому бабушка положила его мне в портфель.
А тут Юлька. Я смотрел на нее и думал, что в рюкзаке у меня вкуснейший перекус и можно угостить Юльку, но как его делить, если он крошится и мнется? А целый капкейк мне было жалко отдавать, потому что он на самом деле был очень вкусный и я всё утро о нем мечтал. Но и съесть одному теперь, когда мне пришла в голову мысль угостить Юльку, я уже не мог.
И вот я думал, думал, думал, прямо зрел изнутри – и созрел. Решительно достал из пенала линейку, резким движением поставил ее ребром на голову капкейку и одним нажатием перерезал его пополам. Вот и всё.
А она, эта Юлька, посмотрела на меня своими непонятного цвета глазами и говорит:
– Спасибо, не надо.
Я говорю: да чего ты, это же очень вкусно, я сам пек. А она:
– Мне не хочется сладкого.
Покосилась на этого… Субботина, он рядом стоял, хотя и спиной. И отвернулась, как будто я ей цветной капусты предложил пожевать и вареным луком закусить.
Тогда я съел всё сам, сначала одну половину, потом другую. Капкейк был самый обыкновенный, ничего такого волшебного в нем не обнаружилось, и я подумал, что запросто мог бы вообще его не есть. И печь я эти капкейки больше не буду. Какой смысл?
2
Моя мечта – она такая, ни на что не похожая. Когда придет время и я буду рассказывать о ней дяде Игорю, я его сначала предупрежу, чтобы он не очень удивлялся, а то еще в обморок упадет от неожиданности. Мне папа рассказывал, что, когда они с дядей Игорем давным-давно, еще в советские времена, учились в школе, дядя Игорь однажды потерял сознание и шмякнулся прямо на пол в коридоре.
Случилось это так. Заканчивалась длиннющая третья четверть, до каникул оставалась неделя. И папа с дядей Игорем, чтобы как-то дожить до каникул, составили список, сколько неприятных вещей осталось сделать за неделю – ну там два раза спуститься в спортивный зал на физкультуру, пять раз позавтракать в школьном буфете, десять раз переодеть сменку и так далее. Всё-всё посчитали.
А листок, на котором это было записано, папа с дядей Игорем прятали в специальное место под лестницей. Никто не должен был знать о тайнике. Каждый день после уроков заговорщики прокрадывались под лестницу: дядя Игорь вычеркивал прожитое за день, а папа посматривал, чтобы никто их не увидел. Вроде ничего преступного они не делали, но всё равно неприятно, когда кто-то лезет в твою тайну. Можно поделиться всем – яблоком, запасной ручкой, домашним заданием, – но тайной – будьте любезны! Тайна должна всегда ходить за тобой, как тень, и ни к кому не перебегать.
И вот в пятницу, прямо перед каникулами, папа с дядей Игорем спустились к своему тайнику в последний раз, чтобы достать тетрадный листок в клеточку и торжественно вычеркнуть оставшиеся пункты. Дядя Игорь достал листок, развернул, но это оказался вовсе не список скучных дел, а кое-что совершенно иное.
«Игорь, я тебя люблю», – было написано мимо всех клеток. Дядя Игорь как это увидел, так вдруг и упал – в прямом смысле, повалился как мешок, разлегся на лестнице с открытым ртом и закрытыми глазами. Папа тогда страшно перепугался, стал звать на помощь, тормошить бесчувственное тело друга.
Но и разозлился сильно.
Потому что почерк в записке был мамин.
3
Только не надо думать, что я мечтатель без силы воли и серьезного взгляда на жизнь. Во всех книжках такие типы выглядят одинаково тошнотворно: кудри, большие прозрачные глаза, задумчивый взгляд. А у меня уши торчат и стрижка под лохматого ежика. Но мечта – самая настоящая.
Юлька как-то спросила: «Ты за меня мог бы убить?» Я говорю: «А зачем?» Она обиделась. Кивнула так, как будто что-то обо мне поняла, и это окончательно. А вчера мне вдруг пришло в голову: а мог бы я убить за свою мечту? Кого-нибудь, кто ходит и дышит, смеется и бесится на переменках, играет в футбол и с тарзанки в воду прыгает? Такого же, как я? И, как и тогда, с Юлькой, не смог ответить. Потому что всегда встает другой вопрос: зачем? Но зато почти сто процентов, что за эту мечту я сам смог бы геройски пасть – как в тонких книжках про мальчиков, совершавших подвиги. Наверное, смог бы.
Так вот, мама, папа и дядя Игорь учились в одном классе. Папа с дядей Игорем дружили, а мама им всячески вредила, разрушая крепкую мужскую дружбу.
Но дружба папы и дяди Игоря прошла все испытания огнем, водой и маминой вредностью. Тем более что в старших классах мама неожиданно расколдовалась и превратилась в красавицу с хорошим характером.
Она у меня такая – ее всё время нужно расколдовывать.
Однажды, когда у родителей уже были мы с братом, мама не пришла домой. Позвонила папе и сказала, что встретила кого-то там и уезжает с этим кем-то в другой город, «подальше от этого всего» и что она «больше так не может». Папа ужасно расстроился и даже превратился в не-папу: не шутил, не брился, не гулял с нами в парке, как раньше, зато всё свободное время сидел на кухне и смотрел в одну точку – в телевизор.
Хорошо, что мы до маминого ухода успели отпраздновать наш с Владиком день рождения, а то бы он своим кислым видом испортил нам радостный день, которого мы, между прочим, ждали целый год.
Через месяц папа все-таки побрился, взял Владика на руки, зачем-то забрал кактус с подоконника и тоже ушел неизвестно куда. И остались мы с бабушкой вдвоем. Сейчас уже прошло достаточно времени, чтобы я привык жить вдвоем, а не впятером. Но мне всё равно кажется, что утром, когда я еще не весь проснулся, рядом со мной стоят и мама, и папа, и Владик. Поэтому я никогда не приближаюсь к людям вплотную – ведь это место занято, понимаете?
Папа иногда приезжает, примерно раз в месяц. У них с Владиком уже всё хорошо, они живут в большом новом доме, Владик ходит в школу и на футбол, и еще в фотокружок и всё такое. Из папиных рассказов я не понимаю, помнит он обо мне или давно забыл, что у него есть старший брат. По папиным рассказам, Владик всегда передает мне привет, но кто знает, может, папа говорит это из вежливости, чтобы я не обижался.
Папа иногда приезжает, да. Мама – никогда. Я такой и запомнил ее, какой она была в то утро, когда ушла на работу и не вернулась – в белом плаще и яркой косынке на шее. Она пахла весенними духами и улыбалась. Я никак не пойму: она же знала, что больше не придет никогда? Или она встретила кого-то там позже, по дороге на работу? Или вечером, когда спешила с работы домой? Вот она зашла в гастроном, купила килограмм сосисок и батон, огурцов для салата и пачку чая. Немного постояла в очереди к кассе, расплатилась, стала выходить из гастронома с покупками, и тут – бац! – навстречу ей кто-то там ошеломляюще красивый и с цветами. Он ей сразу и сказал – «позвони домой, что больше не придешь и уезжаешь в другой город».
Она позвонила, а потом они наши сосиски съели.
Наверняка так всё и произошло. Я даже уверен в этом – ведь не было дня, чтобы я не представлял себе эту историю во всех подробностях. Иногда я вижу, как кто-то там распыляет вокруг мамы волшебные духи, не весенние, как она любит, а какие-нибудь жаркие, летние, и она забывает, что на свете есть мы с Владиком.
А иногда мне всё представляется совсем без волшебства, и тогда вокруг мамы и кого-то там идет противный, серый, склизкий дождь.
Да я, в общем, совсем привык. Бабушка у меня молодая, веселая и быстрая. Но не настолько молодая, как мама, и совсем не такая веселая, как папа. Совершенно по-другому.
И еще я до мурашек соскучился по Владику. Он же мой близнец, в конце концов! Хотя и младший.
4
Моя мечта похожа на бабушку. Не на мою, конечно, потому что моя бабушка никогда не надевает то, что полагается пенсионерке с двумя внуками, – платок там или халат в цветочек. Моя бабушка занимается йогой и рисует городские пейзажи. И ее никто никогда не называл просто по отчеству, как нашу консьержку – Петровна.
Зато мою мечту, если бы она ненадолго превратилась в человека (пока я сплю, например), можно было бы звать по-простому – Ивановна. Потому что она – матрешка, которую бабушка хранит в серванте. Когда бабушка уходит в магазин или к соседке, я достаю Ивановну и разговариваю с ней. Всё равно она никому никогда не скажет, о чем мы шептались, – все слова проникают внутрь, проходят сквозь семь матрешек и прячутся в сердце самой маленькой.
Там и моя мечта хранится.
По-хорошему, в моем возрасте уже пора мечтать о будущей профессии. Но тут загвоздка в том, что мне нельзя ошибиться. Ведь в будущем я стану преуспевающим, богатым и знаменитым, может быть, даже красивым, и Владик, мама и папа, узнав об этом, снова соберутся в семью, простят друг друга, и мы опять обязательно заживем впятером, а не вдвоем, как сейчас, хотя мне с бабушкой хорошо, даже иногда великолепно.
Как человек выбирает профессию? Берет список из нескольких тысяч работ, читает. Потом вычеркивает те, которые уж совсем никуда. Мне, например, вряд ли когда-нибудь светит стать спортсменом, так что уже легче. После вычеркивания остается тысяча. Тоже много. Из этой тысячи нужно вычеркнуть не очень престижные и малооплачиваемые. Мне, как мужчине, это важно – мне же потом семью кормить все-таки. Остается гораздо меньше – допустим, восемьсот. И среди них нужно отыскать те, которые тебе нравятся больше других в списке. Не президент там Газпрома или актер театра и кино, а те работы, которые получатся у тебя лучше всего.
У меня лучше всего получается готовить еду. Не знаю, может, у меня талант. Даже Юлька заметила. «Вот окончу школу, – говорит, – и буду в твоем ресторане обедать. Будешь меня кормить, Веревкин?» И смеется. Как всегда, смеется и щурит свои глаза непонятного цвета.
Бабушка тоже недалеко ушла. Всё время как бы изумляется: «Неужели, Константин, ты действительно собираешься стать поваром? У нас в роду не было никого, кто хотел бы с утра до вечера стоять у плиты». И по всему видно, что повар для нее – профессия скучная и малопочетная. Она бы ее вычеркнула в первую очередь.
Но при этом в корзине, которую мне подарили на день рождения «от семьи», я нашел большую книгу рецептов Джейми Оливера.
С тех пор, как наша семья уменьшилась до двух человек, день рождения у меня начинается одинаково: я просыпаюсь, а у кровати стоит большая корзина с подарками. На каждом подарке подписано «от папы», «от мамы», «от Владика» – но, конечно, я давно догадался, что на самом деле все эти подарки от бабушки. На Джейми Оливере было по-честному написано – «от бабули». Видимо, она понимала, насколько Джейми Оливер круче бинокля и микроскопа вместе, и не смогла подписаться не своим именем.
Джейми Оливер – мой кумир. У него всё здорово получается, а главное, быстро. Когда я впервые увидел его передачу по телевизору, мне показалось, что я с третьего этажа мгновенно переселился на сто третий.
Может быть, если бы вместо дяди Игоря к нам неожиданно пришел Джейми Оливер, я бы и ему рассказал всё как есть. Он бы точно понял.
5
Когда я о своей мечте думаю, всегда о Владике вспоминаю. Как ни посмотри, а все-таки мы очень похожи. Во всяком случае, были похожи лет до четырех, а как сейчас, не знаю.
Он ведь тоже до трех лет совсем не ходил, и все думали, что он будет как я, но мне кажется, он притворялся из солидарности – мы же близнецы. Просто не хотел, и всё. А потом устал, наверное, ждать, когда его старший брат пойдет, и перестал притворяться. Я всего этого совсем не помню, но почему-то уверен, что так и было.
Бабушка говорит, что до трех лет он сидел под табуреткой в кухне. Каждое утро заползал под нее и там жил: играл, смотрел мультики, ел, разговаривал оттуда со мной и со взрослыми. А когда ему исполнилось три – вот прямо чуть ли не в наш день рождения, – вылез и пошел. Все, конечно, страшно обрадовались. И стали надеяться, что со мной тоже случится чудо. Хотя все доктора сразу сказали, когда я только родился, – надежды нет. Скажите спасибо, что мозги в порядке.
Я даже не обижаюсь, в конце концов, у меня есть брат-близнец, и он сейчас где-то бегает за нас двоих. Но однажды мне попалась книжка, в которой герой выбежал из квартиры на лестничную клетку, вскочил на перила и лихо съехал по ним вниз. Вот это меня почему-то зацепило. Сотни героев в сотнях книжек с утра до ночи гоняют мяч, бегают кросс, лазают по деревьям, делают ногами уйму невероятных и часто совершенно бессмысленных с точки зрения использования этих самых ног вещей, но эти перила в меня прямо врезались. Я потом даже неделю ничего не читал – вдруг и там тоже кто-то едет по перилам вниз.
Если бы я мог пообщаться с Владиком, я бы обязательно уговорил его научиться съезжать по перилам. Мне и вправду кажется, что это ужасно важно. Юлька бы тогда поняла, какой я на самом деле. И уже больше не делала бы вид, что меня нет.
Бабушка, когда я завел беседу на эту тему, и слушать не стала. Хотя обычно она до ужаса терпелива ко всякой болтовне – сказываются занятия йогой. Она много слушает и мало говорит. Зато всегда в точку. А когда я сказал про перила, она вдруг перебила меня и начала, глядя мне прямо в глаза, убеждать:
– Тебе это не нужно! Не нужно, понимаешь? Ты и без этой езды по перилам самый лучший внук на свете! Это я тебе точно говорю, Костя, ты меня знаешь, я никогда не вру! Подумаешь! Да я сама в детстве пробовала по перилам скатиться!
– И как? – не выдержал я.
– Да никак, – досадливо отмахнулась бабушка. – Отбила только себе всё. И сразу решила: больше – никогда! И тебе не советую.
Так я в первый – и единственный – раз узнал, что я – лучший внук на свете. Бабушка всегда разговаривает со мной так, как будто не знает, что я не могу ходить. Как будто это только всем кажется – всем, кроме нее. Это, наверное, на нее так занятия йогой действуют. Иначе как это объяснить? Она же не слепая.
6
Если бы я точно знал, что мечтать можно о нескольких вещах одновременно, я бы много чего задумал. Например, я бы ужасно хотел, чтобы Алексей Иванович однажды взял да и поставил мне настоящую, полновесную, заслуженную пятерку. Мы с бабушкой тогда, наверное, устроили бы себе грандиозный праздник: испекли бы огромную пиццу, сделали лимонад и валялись на диване, как будто у нас других дел нет. И за уроки я бы в этот день вообще не садился.
Алексей Иванович – мой самый любимый учитель. Несмотря на то, что он преподает у нас самое ненавистное, что вообще может быть, – алгебру и геометрию. И хотя у меня явно очень мало шансов стать великим математиком, уроков Алексея Ивановича я жду, как никаких других. Он не рассказывает нам историй из своей жизни, не показывает фотографии своего взрослого ребенка и кота, не обещает нам сходить летом в поход – хотя последнее меня мало касается. Но на его уроках мы сидим тихо, как мыши, а домашку делаем в обязательном порядке. Потому что он – ну просто очень хороший человек. А обидеть хорошего человека – самое распоследнее дело, это каждый знает.
Да, я хожу в школу. Школа тоже очень хорошая. Официально в нее принимают одаренных детей, но, поскольку она находится в нашем дворе, меня тоже приняли.
Всё происходит очень просто: бабушка довозит меня до охраны, а оттуда меня забирает дежурный одноклассник. Здорово, что некоторые кабинеты, как наш, находятся прямо на первом этаже.
Первые четыре года я учился дома, и это было не очень хорошо. Бабушка решила, что сможет учить меня сама, без посторонней помощи. И вроде всё нормально было, она учила, я учился, но с ней я разленился и разбаловался, так что бабушка какое-то время продержалась, а потом сходила в мою будущую любимую школу и договорилась, что к нам домой будут приходить разные учителя в свободное от работы время. Тут-то я и понял, что школа – дело серьезное.
Особенно когда в нашу дверь вдруг вошел Михаил Арташесович – учитель физкультуры. Я ему сразу сказал про врачей и про «надежды нет». А он принес мне резиновое кольцо – кистевой эспандер – и велел наращивать силу рук. Ну, я теперь и наращиваю. А что? Вдруг я все-таки стану поваром и мне понадобятся сильные кисти?
Когда в классе объявили, что на следующий день к ним приеду я, только Юлька вызвалась помогать мне с передвижением.
– Привет, – говорит. – Меня Юля зовут. Поехали скорее, а то сейчас звонок будет.
Я как увидел ее глаза непонятного цвета, так и заблеял, как коза и семеро козлят:
– Приве-е-ет. Я К-к-костя…
Она говорит:
– Я знаю.
А я думаю: «Всё. Теперь она решит, что я идиот и неинтересный собеседник».
И, скорее всего, так и получилось. Пару месяцев она возила меня по маршруту «охрана – класс» и «класс – охрана» и носила мне из буфета завтраки, но, как только я обращался к ней не по делу, тут же косилась на своего Субботина и превращалась в каменную скалу и ледяную глыбу.
А потом ребята ко мне привыкли и стали возмущаться, что меня одна Юлька возит. Сейчас ее дежурство выпадает раз в два месяца – это если не считать каникул, без которых, если честно, было бы гораздо лучше. И без выходных.
7
С тех пор, как Михаил Арташесович научил меня серьезно относиться к своему здоровью, я ни дня не могу прожить без упражнений. Оказалось, что заниматься физкультурой могут даже такие, как я.
Теперь ручной эспандер – мой лучший друг. Я, когда им работаю, представляю, как это пригодится мне в будущем. Вот я пеку блины, играючи перебрасывая сковородку из одной руки в другую. Или идем мы с Юлькой вечером по бандитскому району, а навстречу хулиганы. Лучше, конечно, если один хулиган, а то Юльке тоже придется драться, а ей в этой ситуации нужно быть принцессой. Так вот, он ко мне так наклоняется и наглым тоном говорит: «Закурить не найдется?» И тут я ему – р-р-раз, и приемчик! И – «пойдем, Юля, отсюда, здесь не уважают физкультуру и спорт». Я прямо вижу, как она на меня смотрит этими своими глазами.
На меня вообще-то многие смотрят, и это не так уж и приятно, я вам скажу. Когда люди делают вид, что не замечают меня, даже лучше получается. Понятно, что всё идет по плану. А бывают такие дни, что хоть стой, хоть падай.
Однажды к бабушке в гости приехала ее старая, сто лет назад потерянная подруга. Когда она вдруг отыскалась и появилась на бабушкином горизонте, бабушка страшно обрадовалась. Накрыла стол, сделала прическу, похожую на ту, которая была у нее в молодости, и даже пропустила йогу. Я было сказал «ага!», но бабушка быстро объяснила мне значение слов «уважительная причина», и я понял, что прогулять школу мне не удастся никогда, даже в надвигающемся на меня, как тайфун, подростковом возрасте, когда у меня начисто снесет крышу и потянет на подвиги.
И вот час встречи верных подруг пробил. Я вздохнул с облегчением – всю неделю мне пришлось слушать бесконечную историю о дружбе двух мушкетерш, их приключениях и достижениях. Глядя на свою собственную бабушку, я ни капли не сомневался, что всё так и было. Но чтобы на свете существовала вторая такая же бодрая пенсионерка, от которой всего можно ожидать!
Я сидел в своей комнате и слышал, как заверещал звонок.
– Мариночка!
– Тонечка!
Следом за этим раздались охи, всхлипы и взвизги, местами переходящие в предгрозовые крики ласточек. Когда звуковой ряд начал походить на человеческую речь, я понял, что мне самое время появиться на сцене – то есть в дверном проеме.
– Это мой внук Константин, – представила меня бабушка.
Не знаю, может, когда-то ее подруга и была молодой, но в тот день она оказалась толстой и довольно суетливой женщиной с мелкими кудряшками на круглой голове. Она смеялась и радовалась встрече с бабушкой, но при виде меня выражение ее лица резко изменилось. Нарисованные брови поднялись, губы вытянулись в трубочку. А потом начался кошмар. Она бросилась ко мне и рыдающим голосом принялась меня утешать:
– Ой, бедненький! Ой, это ж беда какая! Такой маленький – и навсегда в этой коляске! Да что ж это такое делается! Ты не плачь, не плачь, – я и не собирался, – и без ножек можно жить, вот мой сосед по даче – он сейчас на заслуженном отдыхе, а раньше как сыр в масле катался, ему много подавали, – и что-то еще в таком духе, я уже не помню.
При этом она без остановки гладила меня по голове, как маленького. Я хотел уклониться, но не мог – был зажат в дверном проеме.
Из трех героев этой сценки двигался только один (хотя и за всех троих), остальные двое остолбенели. Потом бабушке удалось побороть крайнюю степень изумления и вставить пару слов:
– Антонина, что за цирк?
Ничего не изменилось: подруга ревела белугой, я был в плену дверного проема. Тогда бабушка сделала какое-то неуловимое движение. Я сначала подумал, что она хочет обнять старую подругу, но она рукой быстро залепила ей рот.
– Да заткнешься ты когда-нибудь?! – возмущенно закричала она. – Ты не в себе? Совсем уже, что ли?
Подруга замолчала, но было видно, что поведение бабушки ее изумило. Согласен, прозвучало всё это не очень-то вежливо.
– Но как же?… – спросила она, освобождаясь из бабушкиного захвата. – Ведь больной ребенок… Ведь калека… Жалко…
И вот тут моя всегда невозмутимая, как индеец чероки, бабушка крепко взяла подругу под руку и решительно вывела ее на лестничную клетку. И закрыла дверь на замок.
Праздник кончился, не успев начаться.
Бабушка повернулась ко мне, осмотрела меня с ног до головы, убедилась в том, что мне удалось уцелеть и остаться невредимым, и сказала то, что я меньше всего ожидал от нее услышать:
– У индейцев существует пословица: «Есть много способов пахнуть скунсом».
Потом крепко зажмурилась и замычала, как будто у нее внезапно заболели все зубы:
– А ведь я сейчас могла быть на йоге!
И, отжмурившись обратно, решительно направилась на кухню:
– Прошу к столу!
Меня особо не тронула эта история – всё произошло так неожиданно, что я ничего не понял. Хотя было жалко, что бабушка обманулась в своих ожиданиях от встречи с молодостью. Но именно тогда я начал подозревать: моя бабушка индеец. Хотя бы наполовину.
8
Иногда мне становится нестерпимо обидно, что я такой, и «нестерпимо» – ключевое слово. Этим словом можно заменить тысячи других слов о моей болезни; наверное, даже медицинскую карту можно было бы заменить.
Всё, что со мной случилось, – только неудачное стечение обстоятельств. Например, если бы я не полез на свет первым, пропустил бы вперед Владика, неужели всё было бы точно так же? И я бы так же ездил на коляске, и никогда не имел бы дела с лестницами, и так же мечтал бы проехаться вниз по перилам? И мама бы ушла в неизвестном направлении, и папа предпочел бы начать новую жизнь и забыть старую, и у меня не было бы ни одного друга, и Юлька точно так же смотрела бы сквозь меня, как будто я – не заслуживающий внимания жук?
Такие мысли случаются у меня, если я проснусь среди ночи, вокруг темень, один сон закончился, а новый никак не идет. Тогда, оказавшись в пустоте между двумя снами, я почему-то начинаю прокручивать в голове свою историю, и мне так обидно – просто нестерпимо! А чернющие мысли льются и льются, и ничего с ними не поделаешь. Я прячу лицо в подушку и колочу кулаком по кровати: «Нечестно! Нечестно!» И я прямо вижу, как весь мир смеется над тем, какой я сейчас жалкий, беспомощный и глупый. Конечно! У них-то всё хорошо! У всех всё хорошо, кроме меня.
И обои в моей комнате становятся густо-черными, и чернота вокруг меня сжимается…
Тогда я думаю, что на самом деле было бы справедливо, если бы Владик при нашем рождении решил стать старшим братом, а я бы не спорил и пропустил бы его вперед. И сейчас бы я жил с папой и ходил бы в кружок лего, и на футбол бы обязательно записался, а может быть, и на танцы, и на лифте не ездил бы, а поднимался только пешком, и был бы ужасно равнодушен ко всем перилам на свете, даже специально созданным для скатывания.
Но потом я вдруг прихожу в себя, вижу всю эту картину со стороны, и мне становится страшно за Владика. Как он жил бы в коляске? Нет, он не смог бы, точно. Опустил бы руки, выбросил бы ручной эспандер, не стал бы постигать тонкости приготовления пиццы. Только сидел бы под табуреткой да плакал, сидел да плакал – и так целыми днями напролет.
Тогда пускай лучше я. Я уже привык. Мне даже нравится. И вообще мне и так повезло. Во-первых, с бабушкой мне на удивление легко и хорошо. Такие бабушки встречаются очень редко, может, раз в сто лет или даже еще реже. Во-вторых, сейчас она мне помогает, а потом, когда я вырасту, я сам стану ей помогать – это я знаю твердо. А Владик, может, и не смог бы.
В-третьих, мой мозг думает, мои руки работают. Мозг работает, руки думают. Не всем так везет.
А в-четвертых, я никогда не плачу. Может, не умею, а может, просто всё всегда исправляется до того, как наступит настоящая грусть.
Так что пусть всё остается на своем месте. В конце концов, я грущу только по ночам, да и то не так чтобы очень часто. Потом в любом случае засыпаю и сплю до будильника. А утром всё становится хорошо. Особенно если солнечно.
9
– Мы идем гулять, – объявила бабушка.
Обычно мы никуда не ходим, только в школу и обратно. Когда мы движемся к школе, я весь мысленно лечу, потому что полностью настроен на ту череду событий, которая ждет меня в течение дня. И домой возвращаться мне тоже приятно – дом есть дом, это каждому ясно.
А кроме школы, идти особенно некуда. Наш двор не приспособлен для прогулок: тротуары заполнены машинами соседей, а всё свободное пространство занимает детская площадка, где мне особенно нечего делать. Да и ходят сюда одни малыши, чтобы покопошиться в песочнице или покачаться на качелях, – тут мне и поговорить не с кем.
Но это когда мы дома. Уже неделю дом мне только снится, и бабушке, наверное, тоже. Словом, мы лежим в больнице.
Правда, только так говорится – лежим, а на самом деле я с утра до вечера перехожу из рук одного доктора в руки другого. Меня обследуют. Просвечивают, простукивают, вертят из стороны в сторону, ощупывают, осматривают. И всё время спрашивают. У врачей припасено ужасно много вопросов, и ты только и делаешь, что отвечаешь, отвечаешь. Почему-то каждый считает своим долгом спросить, как меня зовут и сколько мне лет, – будто в карте ни слова об этом. Некоторые просят посчитать вслух или назвать любимые цвета. Но я не злюсь – понятно, работа у них такая, проверять, есть ли у меня мозги или за год превратились в сухофрукт.
Мы бываем здесь каждый год – я и бабушка. Я – потому что это нужно. А бабушка – потому что санитарки не обязаны за мной следить, ну там чтобы не упал с кровати или правильно сходил в туалет. Тут всё не как дома, и мне одному не справиться.
Перед самым нашим отъездом в больницу, поздно вечером, когда мне давно полагалось спать, я в десятый раз представлял себе больницу и то, как там всё будет. Меня уже почти тошнило, а одеяло совсем перестало греть, и тут – звонок в дверь. К бабушке пришел дядя Игорь.
Он долго стоял в прихожей, категорически отказывался перейти в кухню. Сказал, что забежал буквально на пять минут и ему нужно бежать дальше. Бабушка на это ответила, что за пять минут вполне можно выпить чашку чая. Несколько минут у них ушло на споры, потом дядя Игорь капитулировал и отправился-таки на кухню, где, естественно, был накормлен по полной программе. О чем они там разговаривали, я не слышал, хотя, чего греха таить, очень старался. Слышно стало, только когда через час дядя Игорь начал прощаться.
– Вот, Марина Григорьевна, – сказал он, – возьмите.
– Да что ты! Не надо! Еще не хватает! – возмущенно вскричала бабушка.
– Ну не обижайте меня, возьмите, – настаивал дядя Игорь.
– Не возьму.
– Возьмите. Пригодятся. Тем более вам завтра в больницу ложиться. В отдельной палате вам с Костиком будет удобнее, чем в общей.
На этих словах дяди Игоря бабушкина оборона дала трещину. Бабушка согласилась что-то взять, но после этого долго охала, всхлипывала и вздыхала. А когда полуночный гость ушел, так развздыхалась, что я совершенно забыл об ужасах завтрашнего дня. Мне стало жалко бабушку – и в целом, и еще потому, что ей тоже придется две недели сидеть в заточении, слушать отрывистые команды толстых пожилых санитарок и худых молоденьких медсестер, которые всегда не в духе, и те и другие, да еще и забыть про свои любимые занятия йогой. Ей там и поговорить-то не с кем будет. А всё из-за меня.
Неделю мы оба немного покисли в чуждом нам больничном мире. А потом бабушка вдруг сказала:
– Ну всё, хватит. Мы идем гулять.
И вот удивительно – я даже обрадовался.
И мы пошли.
10
Мы вырулили из палаты и помчались по коридору. По пути нам попалось несколько таких же, как я, колясочников. Глядя на них, я в очередной раз осознал, что ни с кем из них не мог бы подружиться. Пока мы двигались по длиннющему коридору, почти никто даже не перевел на нас взгляда – смотрели в пустоту, и всё. Кто обращал на нас внимание, так это сопровождающие – мамы или сиделки, но в их глазах тоже не было радости или хотя бы интереса. Большинству было всё равно, едем мы мимо них или нет. Некоторые почему-то косились на нас с неприязнью, хотя мы никогда раньше не встречались и не знакомились.
Мне кажется, это неправильно, что в больнице никто ни с кем не общается. У нас много общего, в конце концов, иначе бы мы в эту больницу не попали. Я тут пробовал заговорить с одним парнишкой. Он сидел у окна в общем холле и, как мне показалось, жутко скучал.
Я подрулил к нему и говорю:
– Привет. Меня Костя зовут. Что делаешь?
Он сначала посмотрел на меня с удивлением, а потом решился и ответил:
– П-п-п-привет.
Парень сильно заикался, но было видно, что он не против побеседовать.
Когда он начинал говорить, то как будто вступал в схватку с отвесной стеной, по которой ему нужно было вскарабкаться. Речь его местами напоминала птичий клекот, а глаза иногда теряли выражение, стекленели, словно его всего целиком поставили на паузу. Но потом слово все-таки загружалось, и парня отпускало – до следующего слова.
Разговор бы получился, но откуда ни возьмись появилась его няня, или сиделка, или, может быть, мама. Я подумал, хорошо, что она присоединилась, будет помогать, когда он уж совсем затормозит.
Говорю ей:
– Здравствуйте, меня Костя…
Но она схватила коляску с моим уже почти другом и увезла его, даже не посмотрев в мою сторону. А мы, между прочим, разговаривали!
Я тогда ужасно обиделся. И жалко было того парня, с которым мы так и не познакомились толком.
Коридор наконец закончился. У лифта застыла еще одна коляска с парнем примерно моего возраста. Рядом стояла женщина во всем черном: в черной юбке, черной вязаной кофте и черных сапогах – прямо черный человек какой-то. Она пристально рассматривала мою коляску, да что там, просто сверлила ее взглядом и, если бы взгляды обладали такими свойствами, наверняка развинтила бы ее на мелкие части за те полторы минуты, пока мы ждали лифта. А когда он приехал, она прямо-таки рванула внутрь, как будто лифт ждал ее одну и мог не дождаться. В лифте рассматривание продолжалось. Я вопросительно посмотрел на бабушку – может, она мне что-то объяснит? Бабушка внимательно, не отрываясь ни на мгновение, изучала панель с кнопками.
Мы доехали. Черная женщина снова ринулась к дверям лифта. Уже выйдя, она громко, довольно злобно сказала:
– С такой коляской в платные больницы надо! Для богатых!
И удалилась.
У меня действительно хорошая коляска, даже очень хорошая. С ней я могу делать многие вещи самостоятельно. Но для того, чтобы ее купить, бабушка продала дачу.
– А! – говорит. – Всё равно она мне не понадобится!
Я уже рассказывал, что бабушка любит рисовать городские пейзажи. А сельские, наверное, не очень любит. По крайней мере, я ни одного такого у нас дома не видел.
Обычно, если мы вдруг отправлялись пройтись вокруг больницы, всё было более или менее одинаково. В таком путешествии даже карта не нужна. Просто движемся куда глаза глядят, с одной прямой аллейки на другую, мимо лужаек и корпусов, а потом удивительным образом вновь оказываемся у своего крыльца. Вся прогулка занимает полчаса, если очень копаться. За несколько лет я этот маршрут выучил и разлюбил.
Но сегодня бабушка решительно повернула коляску к выходу с территории больницы. Неужели решилась на побег? Вспомнив бабушкины рассказы о тревожной молодости, я решил, что очень может быть. Сейчас она кокнет охранника, который по долгу службы преградит нам путь, или загипнотизирует его так, что он потом не сможет описать наши приметы и вспомнить, в какое время суток мы выехали за вверенный ему шлагбаум.
Всё оказалось гораздо прозаичнее: охранник сам помог нам не застрять в турникете, отключив его, и спросил только:
– Надолго?
– На часик, – беспечно ответила бабушка и рванула вперед, на свободу.
Всё-таки гипноз…
На улице бабушка приостановилась, внимательно посмотрела мне в лицо – я смотрел на всё происходящее с восторгом и ужасом, – и решила-таки посвятить меня в план побега:
– Для начала подсластим себе жизнь. Ты сейчас сколько пирожных сможешь съесть?
В кафе она заказала себе три пирожных и кусок торта, от всего откусывала по очереди, опустошала бокалы с лимонадом, при этом заговорщически подмигивала мне, мычала от счастья и сеяла вокруг себя крошки. Единственное, что ее огорчало, – это мой скучный вид. Честно говоря, после второго пирожного я потерял интерес к сластям, расставленным в подсвеченной витрине так щедро и соблазняюще, словно ловушки для школьников.
Каждую минуту бабушка спрашивала:
– Газировочки? Пирожок? Может, миндальное?
И тут мой утомленный кондитерским изобилием взгляд упал на блюдо с капкейками. Нет, пусть я лопну, но попробую капкейк, сделанный профессионалами! Естественно, только в научных целях – никакого обжорства.
– Мне вон тот розовый, пожалуйста.
Он был очень хорош, этот капкейк в розовой шапочке. Но главное, он почти не отличался от того, который мы с бабушкой на своей скромной кухне изготовили по рецепту из журнала. Разве что он был аккуратнее. От мысли, что у меня, возможно, всё же есть талант к кулинарии и в будущем я еще проявлю его по полной программе, я забыл и о неприятностях в больнице, и о том, что мы с бабушкой находимся в бегах. Какая разница, что омрачает нам жизнь сегодня, если будущее безоблачно? Я прав, Джейми?
Между тем мы уже выкатились – сонные от всего съеденного – на улицу.
– Обратно? – спросил я с надеждой на то, что теперь, до отвала налопавшись пирожных, бабушка образумится.
– Вот еще! – возмутилась она. – Продолжаем веселиться!
11
Нет, я ничего не имею против развлечений, но я прямо представляю себе, как нас хватятся в больнице: «Где Веревкин? Где его бабушка? Неужели сбежали?» Потом они обнаружат охранника в беспамятстве – и пошла плясать губерния, как скажет бабушка, если вернется в серьезное состояние.
Пока же состояние бабушки было легкомысленным и гулятельным. Поэтому мы довольно быстро оказались в парке культуры и отдыха – не в центральном, а в каком-то районном, я про него никогда не слышал. Получалось, что мы вдвоем – почти отличник, практически гордость школы и йог пенсионного возраста – в незнакомой местности летели навстречу приключениям.
Хотя там было неплохо, надо признать. Киоски с мороженым, клумбы, фонтанчики разные. Просторные аллеи, по которым можно ехать не спеша и без риска с кем-нибудь столкнуться. Много детей и собак. Воробьи купались в лужах. Девушки фотографировались. Я присмотрелся к ним внимательнее – нет ли здесь Юльки, – но Юльки, конечно, не было, а жаль.
Мы двигались по центральной аллее, и я даже начал чуть-чуть одобрять эту прогулку, как вдруг что-то неуловимо изменилось. Люди, которые до этого вели себя как хотели и шли куда глаза глядят, вдруг разошлись по сторонам аллеи и замерли там, продолжая болтать и есть мороженое, но уже никуда не двигаясь с места. Зато впереди, в дальнем конце аллеи, началось бурное движение.
Странное это было шествие, скажу я вам. Во главе его на ходулях двигались шесть дев в полотняных одеждах. Девы дули в какие-то длинные дудки, издававшие звук, похожий то ли на дождь, то ли на приближение сильного ветра. За ними вышагивали удивительные существа: мужчина с бакенбардами с картинной рамой на плече, девочка-гимнастка с четырьмя карликовыми пуделями, клоуны в комбинезонах из газет, юноша с зеленым лицом и чашкой в руке, юноши и девушки, с ног до головы окрашенные в бронзовый цвет, и еще много других чудесных персонажей. Я прямо в себя прийти не мог – неужели и таких людей можно встретить на улицах?
Между тем девушки на ходулях дошли до нас, остановились и развернули свиток шириной во всю аллею. «Фестиваль уличных театров» – было написано на нем причудливыми острыми буквами. И тут же шествие разбилось, персонажи разошлись по аллеям, а люди, которые до этого организованно смотрели представление, смешались с артистами, принялись фотографироваться с ними, суетиться, бегать от одного к другому, чтобы успеть увидеть всех. Гимнастка крутила обруч, пудели играли в чехарду, полотняные великанши дули в свои трубы. Неподалеку от нас один из клоунов расстелил газету, поставил на нее старинный патефон, сдул пыль с пластинки и завел старую-престарую, но ужасно бодрую музыку. При этом сам он было прилег рядом с патефоном, но потом вскочил и стал приглашать прохожих потанцевать. Вскоре на нашем пятачке уже кружились несколько пар, и это было красиво, хотя и немного старомодно.
Я засмотрелся на танцы под патефон и совершенно забыл, что я здесь не один! Когда же я оглянулся, бабушки за моей спиной не оказалось. Я принялся вертеть головой во все стороны – обычно бабушка, заметив, что я ее потерял, старается встать так, чтобы я ее увидел. На этот раз никакого результата – бабушки не было. Я запаниковал. Ну ладно, в больницу я запросто вернусь и сам, если вспомню дорогу. Но проблема же не в этом – КУДА ДЕЛАСЬ БАБУШКА?!
С меня семь потов сошло, один холоднее другого, когда она внезапно нашлась. Оказывается, бабушка и не думала пропадать, а спокойно танцевала буквально в двух шагах от меня. Не заметил же я ее просто потому, что это была НЕ СОВСЕМ МОЯ БАБУШКА.
Я вдруг разглядел, какое красивое на ней платье, и как ей идет ее простая прическа-каре, и как у нее светятся глаза, а руки плывут в такт музыке, превращая ее из бабушки с вечно торчащим из-под мышки несамостоятельным внуком в девочку-бабочку с независимым полетом хрупких крыл. Ну, то есть я знаю, что правильно говорить «крылья», но почему-то на ум пришло совсем устаревшее «крыла».
Странный сегодня день – мы по самые уши погрузились в ретро. Патефон с тяжело крутящейся пластинкой, танцы на улице, музыка, живчиком ввинтившаяся в самое сердце, красивые и четкие слова, которые лезут в голову против воли и здравого смысла, – всё это смешало в моей голове вчера, сегодня и завтра, и время пошло по кругу, и я запутался, вдруг почувствовав себя стариком, а бабушку – смешной зеленой девчонкой.
Я сидел и удивлялся, когда за моей спиной и чуть слева раздался голос:
– Тоже из больницы сбежал?
12
«Ну вот, началось, – уныло подумал я. – Бабушка развлекается, а мне тут с врачами объясняться… Быстро они нас нашли. Наверное, сюда часто пациенты сбегают…»
Я обернулся. На меня смотрел совсем не врач, не санитар и даже не больничный охранник, а совсем незнакомый и на вид неопасный парень лет двенадцати. Что в нем сразу бросалось в глаза, так это волосы – темно-рыжие, не слишком причесанные и, судя по всему, довольно независимые. В остальном – парень как парень: уши, глаза, нос. Но тоже на коляске, вот что удивительно.
– Алексей, – представился он.
– Константин, – ответил я, хотя никогда раньше полным именем не назывался.
И мы пожали друг другу руки. Это тоже было новым ощущением. Обычно люди, даже знакомые, стараются ко мне не прикасаться.
– Так ты тоже из больницы? – повторил Алексей.
– Да… Мы с бабушкой…