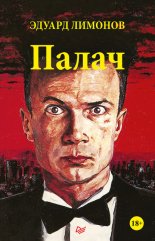Монстролог. Дневники смерти (сборник) Янси Рик
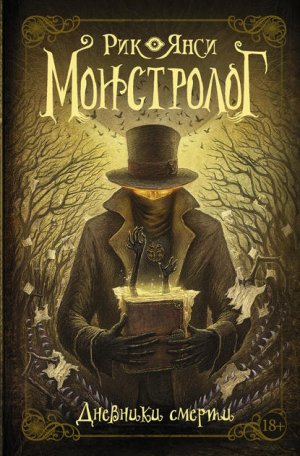
– Он очень известный. Королева произвела его в рыцари, и все такое. В прошлом году был здесь на гастролях и… Генри! Это его имя. Сэр Генри…
– Ирвинг?
– Точно! Сэр Генри Ирвинг. Стикман его личный секретарь или что-то в этом роде[12]. Сэр Генри представил его фон Хельрунгу, и с тех пор они так близки, как две горошины в стручке.
– Как воры, – сказал доктор. – Выражение такое: близки как воры.
– Да, я знаю. – Лицо Чанлера потемнело. – Я оговорился, профессор. Но все равно большое спасибо, что вы меня поправили… – Он посмотрел на меня. – Он и тебя тоже так поправляет, я и без тебя знаю.
– И что, этот личный секретарь сэра Генри убедил фон Хельрунга в существовании вендиго? – с сомнением спросил Уортроп.
– Разве я это говорил? Ты меня не слушаешь. В голове тщеславного человека нет места для чужих мыслей – запомни это, малыш Билл! Нет, я не думаю, что Стокман отличает вендиго от, скажем, уэльсца. Но он просто одержим всем монстрологическим – даже собирается написать об этом книгу!
Доктор поднял бровь.
– Книгу?
– Он к тому же честолюбивый беллетрист. Помешан на оккультизме, туземных суевериях и всяких таких вещах.
– Которые не имеют к монстрологии никакого отношения.
– То же самое я говорил старику! Но он что-то забуксовал; знаешь, в последние пару лет он начал допускать ошибки. А этот Строукер не оставляет его в покое. Он сейчас вернулся в Англию и засыпает фон Хельрунга письмами с, как он говорит, «показаниями свидетелей», выдержками из личных дневников и так далее. Фон Хельрунг кое-что мне показал. Я ему сказал: «Вы не должны доверять этому человеку. Он из театра. Он писатель. Он все выдумывает». Ну а старик не слушает. Он поддается ирландцу, пишет этот чертов доклад для конгресса и просит меня поехать сюда – потому что, если доказать существование одного, это придаст доверия идее существования другого.
– Другого, – отозвался доктор.
– Носферату. Вампира. Любимый проект этого чертова ирландца.
– И Meister Абрам посылает тебя, чтобы ты привез его североамериканский эквивалент, – сказал Уортроп. – Полное безрассудство, Джон. Почему ты согласился?
Чанлер отвернулся. Какое-то время он молчал. А когда ответил, то так тихо, что я едва расслышал.
– Это не твое дело.
– Ты мог бы отказаться, не обидев его.
Луковицеподобная голова вскинулась к нему, вены на длинной шее надулись, и глаза Джона Чанлера загорелись гневом.
– Не говори мне об обиде, Пеллинор Уортроп. Ты и понятия не имеешь, что это такое. Разве тебя когда-нибудь заботили его чувства – или чьи-либо чувства вообще? Ты когда-нибудь пролил хоть одну слезу о другом человеке? Назови мне хотя бы один случай за всю твою никчемную жизнь, когда тебе не было наплевать на кого-нибудь, кроме самого себя.
– Не было нужды, – спокойно возразил мой хозяин. Казалось, его не смутил этот взрыв ярости. – И меньше всех в этом нуждался ты, Джон.
– А, ты об этом. Какой же ты лицемер, Уортроп. Конечно, лицемер, для любого другого объяснения ты слишком умен. Ты прыгнул тогда в реку из непомерного тщеславия и эгоизма. «Какое несчастье, этот бедный трагический Пеллинор!» Жаль! Жаль, что ты тогда не утонул.
Доктор не клюнул на приманку.
– Ты прошел через страшные испытания, – мягко сказал он. – Я понимаю, что ты сейчас не в себе, но я молюсь, чтобы со временем ты понял, Джон: ты гневаешься не по адресу. Я не тот, кто послал тебя сюда. Я тот, кто тебя вытащил.
Я вспомнил, как он сам падал на промерзшую землю, но бережно держал Чанлера на руках, его дикий взгляд, когда Хок пытался помочь ему нести эту ношу, револьвер, наставленный Хоку прямо в лицо, и сорванный крик доктора, такой жалкий в той беспощадной пустыне: «Никто, кроме меня, к нему не притронется!»
– Один и тот же, – загадочно прошептал его друг. – Один и тот же.
Не успел Уортроп спросить, что имелось в виду, как в дверь постучали. Доктор замер, на секунду закрыл глаза и выдохнул:
– Мы слишком задержались.
В комнату вошла Мюриэл Чанлер и, первым увидев Уортропа, обратилась к нему:
– Где Джон?
Потом она увидела его, скрючившегося в маленьком кресле, вдвое постаревшего с их последней встречи, бледного и высохшего, поверженного пустыней и чрезмерной ценой, уплаченной за желание. Она невольно охнула, ее глаза наполнились слезами.
Чанлер попытался встать и не смог. Попытался еще раз. Он стоял нетвердо. Он казался выше, чем мне помнилось.
– Вот я, – прохрипел он.
Она бросилась к нему, потом замедлилась и остановилась. Она нежно прикоснулась к его щеке. Сцена была душераздирающая и в высшей степени интимная. Я отвернулся к автору этой пьесы, который вынес невыносимое, чтобы поставить эту сцену: женщина, которую он любил, в объятиях другого мужчины.
– Джон? – спросила она, словно до конца не могла в это поверить.
– Да, – солгал он. – Это я.
Часть пятнадцатая. «Мы должны быть честны друг с другом»
Мы проводили их на станцию. Пока носильщик помогал ее мужу подняться в их отдельный личный вагон, Мюриэл положила ладонь на руку доктора.
– Спасибо, – сказала она.
Он освободил свою руку.
– Это было ради Джона, – сказал он.
– Ты думал, что он умер.
– Да. Ты была права, а я ошибался, Мюриэл. Проследи, чтобы за ним был уход; он еще далек от выздоровления.
– Конечно, прослежу. – Ее глаза сверкнули. – Я очень надеюсь на его выздоровление.
Она попрощалась со мной.
– Я сдержала свое обещание, Уилл.
– Обещание, мэм?
– Я молилась за тебя. – Она взглянула на доктора. – И по крайней мере наполовину молитвы возымели действие – ты не умер.
– Пока нет, – сказал Уортроп. – Дай ему время.
Я не был уверен, но мне показалось, что она едва сдержала улыбку.
– Увижу ли я тебя в Нью-Йорке? – спросила она его.
– Я буду в Нью-Йорке, – сказал он.
Теперь она рассмеялась, и это было как дождь после долгой засухи.
Локомотив испустил пронзительный свист. Из трубы повалил черный дым.
– Ваш поезд отправляется, – заметил монстролог.
Мы оставались на платформе еще долго после того, как поезд пропал из виду. Появились первые звезды. Закричала полярная гагара, оплакивая погибающий свет дня. От подступающей темноты я дрожал сильнее, чем от холода. Хотя нас разделяли многие мили, я все еще был слишком близко к тому месту, где в промерзшей земле лежал разорванный надвое человек.
– Когда мы поедем домой, сэр? – спросил я.
– Завтра, – ответил он.
Еще никогда я не был так счастлив увидеть этот старый дом на Харрингтон Лейн. Когда экипаж остановился, я буквально выпрыгнул из него, и если бы я встал на колени и стал целовать коврик у двери, это не было бы чрезмерным проявлением той радости, которую я испытал. Это казалось просто чудом. Как я ненавидел этот дом – и как я сейчас любил каждый его старый выщербленный камень! Сильнее всего мы любим то, что теряем, – думаю, монстролог с этим бы согласился.
Я был готов никогда больше не покидать наш дом, но уже на следующее утро начались сборы. А еще надо было сходить на почту, в контору «Вестерн Юнион», в прачечную, к портному и, наконец, что очень важно, к булочнику за корзиной булочек с малиной.
Доктор, похоже, больше всего тосковал по своим булочкам. Вечером он допоздна практиковался со своим выступлением, предполагая – ведь это же был Пеллинор Уортроп – худшую ситуацию. Несмотря на отсутствие физической особи, фон Хельрунг будет настаивать на том, чтобы Lepto lurconis вместе с мириадом его мифологических собратьев был включен в монстрологический канон.
В ночь перед нашим отъездом в Нью-Йорк произошло нечто очень странное – пожалуй, самое странное из всего, что когда-либо случалось между нами на тот момент. Я уже начинал засыпать, когда в люк, ведущий в мой альков, просунулась голова доктора, и он с несвойственным ему извиняющимся выражением лица мягко спросил, не сплю ли я.
– Нет, сэр, – ответил я. Я сел и зажег ночник. В его свете лицо доктора, казалось, плыло на фоне глубокой тьмы. Я, честно сказать, немного нервничал, потому что в нашей истории он еще никогда не приходил ночью к моей постели. Это меня всегда вызывали к его ложу.
– Тоже не спится, да? – Он сел в ногах кровати. Он так оглядел крохотную комнату, словно он, выросший в этом доме, никогда ее раньше не видел. – Знаешь, ты можешь перебраться в одну из спален на втором этаже, Уилл Генри.
– Мне нравится здесь, сэр.
– Да? Почему?
– Не знаю. Думаю, я чувствую себя здесь… в большей безопасности.
– В безопасности? В безопасности от чего?
Он отвернулся. Казалось, что он не ждал ответа на свой вопрос, но при этом чего-то все же ждал. Что это было? Почему он вот так пришел? Это было не в его характере.
– Ребенком я провел в этой комнате много часов, – мягко нарушил он молчание. – Наши восприятия продиктованы нашим прошлым, Уилл Генри. У меня эта комната никогда не ассоциировалась с безопасностью.
– Почему?
– Я был очень болезненным ребенком, это была одна из причин, хотя и не главная, почему отец меня отослал. «Чтобы тебя немного закалить» – это его слова. Каждый раз, когда я заболевал, а такое случалось часто, меня прятали на этот чердак, чтобы я не разносил инфекцию по всему дому. – Он смотрел поверх меня на блистающие за маленьким окном звезды. – Моя мать умерла, когда мне было десять лет; думаю, я тебе уже об этом рассказывал. Туберкулез. Мой отец, хотя прямо об этом и не говорил, винил в этом меня. С часа ее смерти мои дни в этом доме были сочтены. Он отстранился от меня, и, хотя мы жили в одних комнатах и питались за одним столом, я был брошен, как и он. Мы оба завернулись в коконы своей печали. Он бросил себя в работу, а меня бросил на корабль, отплывающий в Англию. И я его не видел почти пятнадцать лет.
Я попытался найти какие-то слова утешения.
– Мне жаль, сэр, – ничего лучше я не придумал.
Он нахмурился.
– Я не ищу жалости, Уилл Генри. Я толковал о том, как наше восприятие формируется нашим индивидуальным опытом, тем самым ставя под сомнение саму идею объективной истины. Мы не должны доверять своему восприятию – вот в чем моя мысль.
Он вдруг оборвал свою лекцию и снова отвернулся, изучая, судя по всему, пустую стену напротив кровати.
– Я провел здесь бессчетные дни, страдая от высокой температуры и кашля, а с улицы доносился смех соседских ребятишек, и их радость была для меня почти невыносимой жестокостью.
Он встряхнул головой, словно пытаясь избавиться от воспоминаний.
– Другая трудность с нашими восприятиями, – обстоятельно продолжал он тем бесящим сухим лекторским тоном, которым часто говорил со мной, – состоит в том, что мы пытаемся проецировать их на окружающих. Эта комната содержит неприятный для меня подтекст, поэтому я отношу неприятное чувство на счет самой комнаты и удивляюсь, что ты не испытываешь к ней такого же чувства.
– Да, сэр, – сказал я.
– Что я тебе говорил об этих нескончаемых «да, сэр», Уилл Генри? Это льстиво и унизительно для нас обоих.
– Да, сэр, – нахально ответил я.
– Я размышлял о нашем… – Он подыскивал нужное слово. – Сожительстве, Уилл Генри. Ты со мной уже почти два года, и, конечно, твои услуги оказываются скорее незаменимыми, нежели наоборот. Однако ситуация с тобой необычна в том отношении, что ты попал сюда в результате безвременной кончины твоих родителей, а не по желанию с твоей стороны или, честно признаюсь, с моей. Нас соединили прискорбные обстоятельства, но это не означает, что мы совершенно беспомощны. Будучи ученым, я не так много действую по свободному выбору и свободной воле, но в то же время я не разделяю глупых суеверий о предопределенности и судьбе. Мое восприятие, что ты незаменим для меня, может быть совершенно правильным. Однако из этого не следует, что ты разделяешь такое восприятие в отношении меня.
Он замолчал, ожидая услышать мои соображения на эту тему. Поскольку я не отвечал, он пожал плечами и сказал:
– Тебе почти тринадцать лет, это возраст совершеннолетия в некоторых культурах. – Он прочистил горло. – И ты демонстрируешь зачатки рассудительности, во всяком случае, иногда, – добавил он. Это был особый дар монстролога: умение на одном дыхании и оскорбить, и похвалить. – Ты вполне способен принимать решения.
– Вы меня отсылаете. – Мое сердце учащенно забилось. – Вы больше не хотите, чтобы я здесь оставался.
– Разве я это сказал? Где ты витаешь, Уилл Генри? На каких прекрасных лугах ты резвишься, пока я с тобой разговариваю? Я сказал, что ты не беспомощен. Ты можешь сделать выбор, и, что еще важнее, я приму этот выбор. Я не дурак. От моего внимания не ускользнул тот факт, что жить со мной бывает трудно.
Он замолчал, словно ожидая возражений. Не дождавшись, заговорил смущенно и сбивчиво:
– У меня есть определенные неприятия. Отсутствие некоторых человеческих… по отношению к… Я хочу сказать, что, может быть, я такой человек, которому лучше жить одному. – Он нахмурился. – Что это? Это слезы?
– Нет, сэр.
– Не усугубляй дело ложью, Уилл Генри.
– Нет, сэр.
– Кроме того, есть проблема с моей профессией. Это опасное занятие, и наши недавние трудности в Рэт Портидже – лучшее тому подтверждение. Уверен, тебе приходило в голову, что связь с монстрологом может повредить здоровью.
Я дотронулся до все еще свежей раны на своей груди.
– У меня нет намерения просто выставить тебя на улицу, если ты беспокоишься об этом, – продолжал он. – Я бы нашел тебе хорошее место.
– Мое место здесь. С вами, сэр.
– Твоя преданность мне льстит, Уилл Генри, но…
– Если я уйду, как вы будете справляться сами? Никто не…
Он нетерпеливо махнул рукой.
– Я всегда могу нанять повара и служанку, Уилл Генри, и ты знаешь, что каждую неделю поступают просьбы работать под моим началом – от серьезных ученых, которых по-настоящему интересует это ремесло.
Эти слова больно задели. Я опустил голову и молчал.
Он фыркнул.
– Как это верно, что совесть – сама себе награда. Чаще всего ее единственная награда! Мы должны быть честны друг с другом, Уилл Генри. Твои мотивы остаться здесь не более чисты, чем мои, чтобы тебя оставить.
– Пожалуйста, сэр, я хочу остаться.
Он напряженно смотрел на меня несколько долгих неприятных секунд. В чем его игра, думал я. Оценить степень моей преданности ему? Или его мотивы были более чисты? Был ли он озабочен моей безопасностью или растревожен требованием своего друга: «Назови мне хотя бы один случай за всю твою никчемную жизнь, когда тебе не было наплевать на кого-нибудь, кроме самого себя», – и это был его ответ? Чего монстролог на самом деле хотел от меня? И чего, во имя всего святого, я хотел от него? Знал ли это каждый из нас?
– Это страшное дело, Уилл Генри, – наконец сказал он. – Потерять друга.
Часть шестнадцатая. «Я рад тебя здесь встретить»
Когда на следующий день после полудня мы прибыли на вокзал Гранд Централ, нас там ждал мужчина необъятных размеров. Гораздо больше шести футов ростом, он возвышался над толпой, широкоплечий, с мощной грудью, с копной спутанных черных волос, затенявших нижнюю половину его большого изрытого оспой лица. Его котелок был низко надвинут, и поля почти касались его кустистых бровей.
Он низко поклонился доктору с излишним подобострастием, которое показалось мне несколько притворным, пародией на глубокое уважение, и приветствовал монстролога с сильным славянским акцентом:
– Доктор Уортроп, я Августин Скала.
Он дал Уортропу карточку, на которую доктор едва взглянул и передал мне.
– Герр доктор фон Хельрунг снова приветствует вас в Нью-Йорке и просит воспользоваться моими услугами.
– А каковы именно эти услуги, мистер Скала? – жестко поинтересовался доктор.
– Добраться вас в гостиницу, сэр. – Английский язык явно не был родным у этого богемца.
– Наш багаж… – начал Уортроп.
– Будет добраться на отдельной коляске. Обо всем позабочено. Никаких хлопот для доктора Уортропа.
Как огромный крушащий льды нос арктического судна, Августин Скала рассек толпу, скопившуюся у узкого выхода на Сорок вторую улицу. Мы проследовали за ним к черному экипажу с впряженной в него огромной вороной лошадью. Открыв нам дверцу, Скала с излишней церемонностью и смехотворной торжественностью достал из кармана конверт и с такой же нелепой подобострастностью вручил его моему хозяину. Уортроп принял его, не говоря ни слова, и скользнул в экипаж, на минуту оставив меня наедине с богемцем. Я был несколько подавлен тяжелым взглядом его темных, ничего не выражающих глаз, смотревших с такой высоты, и неприятным запахом пота, табака и пива, который стоял вокруг его величественного тела.
– Ты есть кто? – спросил он.
– Меня зовут Уилл Генри, – ответил я, и мой голос показался мне каким-то очень уж тонким. – Я служу у доктора.
– Мы собратья, – гортанно проговорил он. – Я тоже служу. – Он положил мне на плечо свою огромную лапищу и наклонился так, что его лицо закрыло мне весь обзор. – Я радостно умру за Meister Абрама.
– Уилл Генри! – позвал Уортроп из кареты. – Пошевеливайся!
Никогда еще я не пошевеливался с такой радостью. Я тут же юркнул внутрь, дверца захлопнулась, и весь экипаж затрясся, когда Скала усаживался на свое место над нами.
Злобно щелкнул кнут, и мы чуть ли не на одном колесе – во всяком случае, так показалось – вылетели на проезжую часть, едва не сбив полицейского и столкнув его велосипед прямо под катящуюся навстречу повозку с мануфактурой. Полицейский дунул в свисток, но этот пронзительный свист быстро утонул в вокзальном гуле: цокоте копыт, криках торговцев и хриплых гудках прибывающего в 6.30 экспресса из Филадельфии. Предвечернее движение на улицах, забитых повозками и велосипедами, было очень плотным, но нашего возницу это ничуть не волновало: он ехал так, словно спасался от пожара, то и дело махая кнутом и понося на своем родном языке всех и каждого, кто имел глупость пересечь ему дорогу.
Много лет утекло с того дня, когда я впервые увидел этот город городов, этот главный бриллиант в финансовой и культурной короне Америки, живой символ ее богатства.
Картина во всех подробностях сохранилась в моей памяти. Смотрите, вот он поворачивает за угол и попадает на Шестую авеню! Это маленький Уильям Джеймс Генри, приехавший из деревушки в Новой Англии. Он высунулся из окна своего сдавленного со всех сторон «такси», его рот открыт, а глаза вытаращены, как у самой неотесанной деревенщины; он в полном изумлении взирает на архитектурные триумфы авеню, перед которыми меркнет все, что он когда-либо видел в массачусетской глубинке, которые выше, чем самые высокие церковные колокольни.
Его лицо светится восторгом от проходящего перед его глазами великолепного парада: двуколки и кареты, грузовые повозки и вместительные экипажи, дамы в ярких кринолинах и денди, даже более щеголеватые, чем щеголи верхом на неуклюжих велосипедах, снующие между повозками торговцев, как заправские ковбои на скачках вокруг бочек. До захода солнца оставалось еще почти два часа, но здания на западной стороне авеню уже отбрасывали густые длинные тени, между которыми в косых, подернутых дымкой лучах солнца гранитные тротуары золотились как мед; и тем же цветом были раскрашены фасады зданий на восточной стороне авеню.
Так что этому двенадцатилетнему деревенскому мальчику казалось, что волею причудливых и самых ужасных обстоятельств он прибыл в город, сделанный из золота, где за каждым углом его ждали чудеса и где, подобно десяткам тысяч иммигрантов, которые приехали до него и еще приедут, он может стряхнуть печальное прошлое и облачиться в яркие блестящие одежды бесконечных возможностей. Вы слышите – я точно слышу – его едва сдерживаемые смешки за этой глупой улыбкой?
Но знаешь, Уильям Джеймс Генри, твоя радость будет скоротечной. Тебя скоро лишат этого праздника глаз и ушей.
Золотистый свет умрет, и падение во тьму будет быстрым и необратимым.
Сидящий рядом со мной монстролог ни на йоту не разделял моей радости; он был поглощен письмом, которое ему вручил богемец. Он прочел его несколько раз и потом с печальным вздохом передал мне. В нем было написано:
Мой дорогой Уортроп!
Старый друг, я начинаю с извинений – простите меня! Я должен был сам встретить ваш поезд, но у меня масса неотложных дел, и я не смог вырваться. Герр Скала – отличный человек, и вы можете, вслед за мной, довериться ему в каждой мелочи. Если он не оправдает ожиданий, скажите мне, и я им займусь!
Не могу выразить словами, как я жажду снова вас увидеть, потому-что мы слишком давно не виделись, старый друг, и столько всего произошло – и еще произойдет в ближайшие дни, – но этого не напишешь, нам многое нужно обсудить.
Я сожалею, что не смогу должным образом приветствовать вас сегодня на званом вечере – я занят неотложными делами, но чтобы компенсировать мое недостойное отсутствие, я умоляю поужинать со мной завтра. Герр Скала встретит вас в вашей гостинице в семь с четвертью.
Остаюсь вашим покорным слугой
А. фон Хельрунг
– Подозреваю, мой старый хозяин не жаждал бы так встретиться со мной, если бы знал наши планы, Уилл Генри! – проворчал он.
Он едва успел выговорить эти слова, как наша карета резко остановилась – так резко, что у меня дернулась голова и слетела кепка. Я нагнулся ее поднять, а доктор тем временем выпрыгнул на тротуар и пошел, не оглядываясь, и его темное пальто развевалось в танце под легким ветром.
Я выскочил из экипажа, и на выходе, как и раньше на входе, был остановлен огромным узкоглазым слугой фон Хельрунга. Сначала он ничего не говорил, просто смотрел, но это был взгляд, который любопытным образом не выказывал никакого интереса. Он просто уставился на меня черными глазами, как человек мог бы смотреть на попавшееся по дороге насекомое. Он мне улыбнулся, обнаружив отсутствие нескольких зубов.
– Спите довольно прекрасно этой ночью, мистер Уилл Генри, – сказал он с неким ударением на слова этой ночью, как будто намекая, что потом отдых уже не будет таким «прекрасным».
Я кивнул и пробормотал что-то в благодарность. И в буквальном смысле побежал к доктору.
В лобби нас встречали, как мне показалось, все служащие гостиницы «Плаза», от управляющего до коридорных. Их было больше десяти человек, и они обхаживали Уортропа, как какого-нибудь богатенького сынка-транжиру. Их взволновала вовсе не его щедрость – доктор не раз здесь останавливался, и его скупость была хорошо известна, – а его репутация как одного из выдающихся натурфилософов своего времени. Короче говоря, к моему немалому удивлению, доктор был вроде как знаменитостью – и это казалось, мягко говоря, парадоксальным, учитывая экстравагантную сферу его научных интересов.
Доктора все это подобострастие только раздражало – еще одно свидетельство душевной тревоги перед предстоящей битвой с фон Хельрунгом. При нормальных обстоятельствах он бы долго и с удовольствием купался в лучах этого восхищения.
Так что он прервал льстивые приветствия и сухо проинформировал управляющего, что он устал и хочет, чтобы его отвели в номер.
Последовали многочисленные: «Да, доктор Уортроп» и «Сюда, доктор Уортроп!». И вот я уже еду в первом в своей жизни лифте, которым управляет мальчик не намного старше меня в ярко-красной куртке и форменной шапочке.
Нас поместили в просторные апартаменты на восьмом этаже с чудесным видом на Централ-парк и Пятую авеню, шикарно, даже вычурно обставленные в викторианском стиле. Я переступил порог и подумал, как все же это странно: проснуться в старом пыльном мрачноватом доме на Харрингтон-лейн и всего через несколько часов оказаться в этой раззолоченной роскоши! Я чуть не бегом бросился к окну и раздвинул тяжелые шторы из камки, чтобы оглядеться с этой головокружительной высоты. Опускающееся на запад солнце освещало пруд в зеленой оправе парка, и по золотистой ряби воды плавали казавшиеся с высоты игрушечными лодки. Вдоль западной Пятьдесят девятой улицы прогуливались парочки – женщины под яркими зонтиками, их спутники с тросточками. «О, – подумал я, – может ли быть что-то более восхитительное? Почему мы не можем жить здесь, в этом городе чудес?»
– Уилл Генри, – позвал доктор. Я обернулся и увидел, что он стоит без рубашки, с бордовым галстуком в руке. – Где мой галстук?
– Вы его… Он у вас в руке, сэр.
– Не этот галстук. Мой черный галстук. Перед отъездом я специально осведомился, упаковал ли ты его. Я совершенно точно помню.
– Я его упаковал, сэр.
– В наших вещах его нет.
– Должен быть, сэр.
Я сразу же его нашел, и доктор выхватил его у меня из рук, как будто я достал его из заднего кармана.
– Почему ты никак не меняешься, Уилл Генри? – ворчливо спросил он. – Ты ведь знаешь, что у нас осталось меньше часа.
– Извините, сэр. Я не знал, сэр. Меньше часа до чего?
– И ради всего святого, расчеши свои космы. – С черными кругами вокруг глаз, с шевелюрой, которую доктор непрестанно теребил и в итоге взбил штормовыми волнами, он добавил: – Ты выглядишь ужасно.
Перед каждым конгрессом устраивался прием в главном зале ресторана Шарля Дельмонико на Четырнадцатой улице. Присутствие не было обязательным, но эти приемы мало кто пропускал. Еда и выпивка были в изобилии, и редкий монстролог мог устоять перед искушением бесплатного угощения. Всегда нанимался оркестр, исполнявший последние популярные песни («Над волнами» или «Где ты достала эту шляпку?»), и это было единственное мероприятие – из всех формальных и неформальных, – на которое допускались женщины. (Первой женщиной, принятой в Общество, была Мэри Уитон Калкинс, и это случилось только в 1907 году.) С женами пришли меньше половины мужчин, потому что большинство монстрологов были, как и мой хозяин, убежденными холостяками. Не то чтобы их отличало равнодушие к прекрасному полу или они были женоненавистниками – скорее, дело в том, что монстрология привлекала мужчин, по натуре одиночек, авантюристов, для которых ужасна была сама мысль о домашнем очаге и о бесконечных требованиях строить семейное счастье. Большинство, как Пеллинор Уортроп, давно влюбились в чаровницу, чье лицо им никогда не суждено было ясно разглядеть.
Как только мы сняли шляпы и пальто, из толкущейся толпы материализовался маленький мужчина. На нем был черный фрак, черный же жилет, черные брюки, белая сорочка с высоким жестким воротничком и специальные лакированные туфли, которые добавляли примерно дюйм к его крохотному росту. Его усы были навощены, их острые кончики подкручены вверх.
Он приветствовал монстролога в типичной континентальной манере – faisant la bise, поцелуями в обе щеки – и сказал:
– Пеллинор, mon cher ami? Вы неважно выглядите.
Взгляд его бегающих темных глаз упал на меня.
– Дэмиен, это мой помощник Уилл Генри, – сказал доктор, игнорируя наблюдение коллеги. – Уилл Генри, доктор Дэмиен Граво.
– Очень приятно, – сказал Граво. Он пожал мою руку. – Comment vas-tu?
– Сэр?
– Он говорит: «Как поживаете?» – объяснил доктор.
Граво добавил:
– А вы отвечаете: «a va bien» – «У меня все хорошо». Или «Pas mal». – «Неплохо». Или чтобы показать, какой вы воспитанный мальчик: «Bien, et vous?»
Я попытался сформулировать последнюю фразу, и то ли неуклюжесть попытки, то ли ее бесплодность его позабавили, потому что он усмехнулся и ободрительно и немножко покровительственно похлопал меня по плечу.
– Pas de quoi, мсье Генри. La chose est sans remde. В конце концов, вы ведь американец.
Он снова обернулся к Уортропу.
– Вы слышали последние новости? – Он криво улыбнулся. – О, это ужасно, mon ami. Скандально!
– Если есть скандал, то я уверен, что вы в нем участвуете, Граво, – ответил доктор.
– Из достоверных источников мне стало известно, что наш досточтимый президент собирается в конце конгресса всех нас шокировать.
– В самом деле? – Уортроп поднял бровь, притворяясь удивленным. – Каким образом?
– Он собирается ввести в наш лексикон мифологическое!
Граво самодовольно улыбнулся, явно рассчитывая, что «новости» приведут Уортропа в смятение.
– Ну что ж, – сказал мой хозяин после увесистой паузы. – Значит, нам придется в связи с этим что-то предпринять, не так ли? Извините меня, Дэмиен, но я сегодня целый день ничего не ел.
Мы наполнили свои тарелки с большого буфетного стола, изнывающего под тяжестью еды. Я никогда раньше не видел, чтобы в одном месте было столько всего: копченый лосось и сырые устрицы, гумбо из курятины и пюре из сладкого горошка, крабы с мягкими панцирями и луфарь на гриле, фаршированная баранья лопатка и тушеная говядина с лапшой, жареные перепела и чирки под испанским соусом, грибы на гренках и голуби с горохом, фаршированные баклажаны, тушеные томаты, жаренные в масле пироги с пастернаком, печеная со сметаной картошка… Я смотрел на доктора, который откинул голову, высасывая устрицу, и пытался догадаться: вспоминает ли он, как я, кору гикори, горькую волчью лапу и едкий вкус зубятки. Можно было бы подумать, что моя недавняя близость с голодной смертью заставит меня тем больше оценить этот рог изобилия, но эффект оказался обратным. Это роскошество меня ужаснуло и оскорбило. Я оглядывал богатое убранство зала – громадную хрустальную люстру из Англии, шикарные бархатные портьеры из Италии, бесценные статуи из Франции, – смотрел на женщин, блистающих в своих лучших драгоценностях, со шлейфами импортных платьев, метущими по паркету, когда они танцевали с хорошоодетыми мужчинами; видел официантов в смокингах, скользящих через все это великолепие с ломящимися высоко поднятыми подносами, – и у меня тянуло под ложечкой. На дереве, высоко вознесшем ветви в непроходимых дебрях, мужчина сам себя распял, и его внутренности обледенели – его пустые глазницы видели больше, чем видел я, а я видел больше, чем эти невежественные тупицы, которые пили, танцевали и пьяно болтали о последних скандалах. Я не мог выразить это словами – я ведь был почти ребенком. Но вот что я чувствовал: замороженные кишки Джонатана Хока были ближе к подлинной реальности, чем этот красивый спектакль.
Меня вырвал из этого меланхолического забытья знакомый голос. Я поднял голову и с чуть открытым ртом уставился в самые лучистые глаза, какие я когда-либо видел.
– Уильям Джеймс Генри, какая приятная неожиданность встретить тебя среди этих старых зануд! – воскликнула Мюриэл Чанлер и одарила доктора мимолетной улыбкой. – Привет, Пеллинор. – Потом мне: – В чем дело, ты не хочешь есть?
Я взглянул на свою нетронутую тарелку.
– Думаю, нет, мэм.
– Тогда не окажешь ли мне честь потанцевать со мной, если только все танцы у тебя уже не расписаны?
Оркестр заиграл вальс. Я в отчаянии посмотрел на доктора, который, похоже, нашел что-то захватывающе интересное в своем крабе.
– Миссис Чанлер, я не умею танцевать… – начал я.
– И никто из присутствующих здесь мужчин тоже, как ни жаль. Ты будешь прекрасным партнером, Уилл. Они умеют препарировать Monstrum horribalis, но не способны освоить тустеп!
Не дожидаясь ответа, она взяла меня за потную ладонь и сказала:
– Можно, Пеллинор?
Она потянула меня на паркет, и я тут же наступил ей на палец.
– Положи правую руку сюда, – сказала она, пристроив ее себе на талию. – А левую вытяни вот так. Теперь, чтобы вести меня, немножко надавливай правой. Не надо ломать мне позвоночник или толкать, как ржавую телегу… О, у тебя природные способности, Уилл. Ты уверен, что раньше не танцевал?
Я ее уверил, что нет. Я смотрел не на нее, а упорно в сторону, поскольку мои глаза находились на уровне ее корсажа. Я чувствовал запах ее духов; я двигался, окруженный ароматом сирени.
Мой вальс с прекрасной Мюриэл Чанлер был неуклюжим – и исполненным грации. Застенчивым – и уверенным. Все глаза смотрели на нас, мы танцевали в полном одиночестве. Когда она меня мягко разворачивала – честно признаюсь, что я не очень-то вел, – мой взгляд выхватывал в толпе доктора. Он стоял там же, где мы его оставили, у буфетного стола, и смотрел на нас… вернее, на нее. Не думаю, что он смотрел на меня.
Никогда раньше я не хотел так сильно, чтобы какой-то момент закончился, как теперь хотел, чтобы он продолжался. Она вытянула руку, сделала реверанс и поблагодарила меня за танец. Я сразу отвернулся, желая вернуться на привычную орбиту к тому человеку, который совсем не был таким божественным. Она меня остановила.
– Настоящий джентльмен провожает свою даму с паркета, мастер Генри, – объяснила она мне с улыбкой. – Иначе она окажется брошенной, и все обернется большим конфузом. Подними руку, согни ее в локте, вот так.
Она положила мне руку на поднятое предплечье, и мы продефилировали с паркета. Теперь я говорю себе, что это была игра воображения, но тогда мне показалось, что пока мы шли к столу, она слегка прихрамывала на правую ногу.
– Уилл Генри, ты неважно выглядишь, – заметил доктор. – Ты не заболел?
– У него природная грация, Пеллинор, – сказала Мюриэл. – Ты можешь гордиться.
– С чего бы мне этим гордиться?
– Разве ты не стал ему теперь вместо отца?
– Ничего подобного.