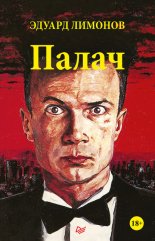Монстролог. Дневники смерти (сборник) Янси Рик
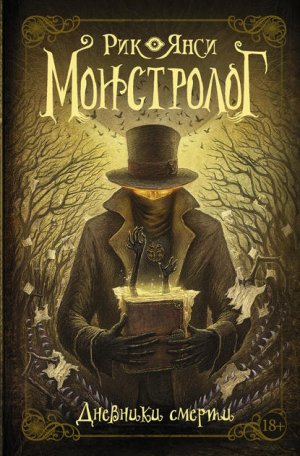
– Граво.
– Этот чокнутый лягушатник. Только не говори мне, что он и принимал ставки.
– Тогда не скажу.
– Помнишь, как один раз он спрятался за оркестром и его облевал трубач?
– И из-за этого его самого тоже вырвало.
– И он уделал свою даму, эту танцовщицу…
– Балерину, – сказал Уортроп.
– Да, верно. С тощими ногами.
– Ты называл ее «цаплей».
– Нет, это ты называл.
– Нет. Я называл ее Катариной.
– Почему ты ее так называл?
– Ее так звали.
С некоторым усилием Чанлер сумел рассмеяться.
– Чертов буквоед! «Цапля» лучше.
Доктор рассеянно кивнул.
– Я был просто уверен, что ты придешь на прием, Джон. Но кажется, тебе стало хуже…
– Я не могу прийти в себя, Пеллинор, – признал его друг. – Одно время я чувствовал себя лучше, но потом снова упал, как Сизиф с камнем.
– Но как ты рассчитываешь поправиться, если отказываешься есть?
По лицу Чанлера пробежала злость.
– Кто тебе такое сказал?
Уортроп взглянул на фон Хельрунга, который с большой озабоченностью всматривался в своего пациента.
– Почему ты не можешь есть, Джон? – настаивал доктор.
– Я бы ел. Я достаточно голоден, я так голоден, что едва могу это выносить. Но они мне ничего не дают!
– Ну, Джон, – упрекнул его фон Хельрунг. – Ты ведь знаешь, что это неправда.
– Я говорю вам правду! – закричал Чанлер. – Говорите мне правду и вы!
Он закрыл глаза и застонал от бессилия. Потом с огромным усилием, мучительно отбирая слова из мешанины своих мыслей, выговорил:
– Не… говорите… мне… что… правда.
– Все, что ты захочешь, – все. Только назови, и я обещаю, что в течение часа ты это получишь, – сказал Уортроп.
Чанлер весь дрожал. Из уголков его глаз текла жидкость. Доктор потянулся вытереть ему слезы, но его друг резко дернулся под одеялом.
– Нет!.. Не… прикасайся ко мне… Пеллинор.
– Назови, Джон, – настаивал доктор.
Голова Чанлера раскачивалась из стороны в сторону. Из глаз по-прежнему лились слезы, наволочка вся была в мокрых пятнах.
– Я не могу.
Монстролог и фон Хельрунг отошли к камину, чтобы Чанлер их не услышал.
– Это бессовестно, – сказал Уортроп фон Хельрунгу. – Ему нужен врач. Единственный вопрос: вы его вызовете или я?
– Я это слышал! – отозвался Чанлер.
– Его состояние вне компетенции… – начал фон Хельрунг, но его бывший ученик был непреклонен.
– Его надо немедленно отправить в Бельвю[20] и не тратить зря время здесь, с этим бабуином в бушлате.
– Дерьмо!
Оба мужчины повернули головы на это ругательство.
– Хуже, чем голод, Пеллинор! – крикнул Джон Чанлер. – Это дерьмо! Каждый час целые ведра дерьма!
Уортроп посмотрел на фон Хельрунга.
– У него недержание, – извиняющимся тоном объяснил австриец.
– Значит, еще и дизентерия. И вы все еще думаете, что ему не нужен доктор? Через неделю она его убьет.
– Ты знаешь, каково это, Пеллинор? – крикнул Чанлер. – Валяться в собственном дерьме?
– Мы сразу же меняем простыни, – возразил фон Хельрунг. – И ты можешь воспользоваться горшком, Джон. Он стоит рядом с тобой. – Он обернулся к Уортропу и умоляюще сказал: – Я делаю все, чтобы ему было как можно удобнее. Поймите, mein Freund, есть вещи, которые…
Доктор отмахнулся от него и вернулся к кровати.
– Не та метафора, – с трудом выговорил Чанлер. – Не тот ад. Не Сизиф. Не греческое. Христианское. Дантовы реки дерьма. Вот что это.
– Я забираю тебя в больницу, Джон, – сказал ему Уортроп.
– Если попробуешь, то я тебя обделаю.
– Конечно. Но я все равно тебя забираю.
– Все ли это… все это… Пелл, но мы забудем.
– Я не понимаю, Джон. Что мы забудем?
Чанлер понизил голос и с большой торжественностью, словно изрекая глубокую истину, произнес:
– Дерьмо. – Он хихикнул. – Все – дерьмо. Я – дерьмо. Ты – дерьмо. – Его взгляд упал на обезьянью физиономию Августина Скалы. – Он – определенно дерьмо… Жизнь – дерьмо. Любовь… любовь – дерьмо.
Уортроп начал было говорить, но фон Хельрунг его оборвал:
– Не надо, Пеллинор. Это говорит не Джон. Это чудовище.
– Ты мне не веришь, – сказал Чанлер. – Просто ты в нем еще не купался, вот и все. Когда оно начинает пачкать твой девственно чистый зад, ты прыгаешь в реку, верно?
Он закашлялся, во рту скопилась густая зеленая желчь и запузырилась на его губах. Кадык дернулся, и он ее проглотил.
– Ты мне отвратителен, – сказал Чанлер. – Все в тебе омерзительно, тошнотворно, ты, гадкий лицемерный сморчок.
Доктор ничего не сказал. Если он и вспомнил, что когда-то сам говорил эти слова, то не подал виду. Но я вспомнил.
– «Пеллинор, Пеллинор, быть совершенством такая скука!» Эту фразу ты помнишь? – спросил Чанлер.
– Да, – ответил доктор. – Одна из сравнительно добрых, как я припоминаю.
– Надо было позволить тебе утонуть.
Уортроп улыбнулся.
– Почему же не позволил?
– Кого бы я тогда разыгрывал? Впрочем, это была просто показуха. На самом деле ты не хотел утопиться.
– Откуда ты знаешь?
– А оттуда, что я был рядом, тупой мошенник. Если бы ты действительно хотел утопиться, то подождал бы, пока останешься один.
– Ошибся по неопытности.
– О, не переживай, Пелл. Ты там будешь. На днях… мы все… захлебнемся в дерьме…
Его глаза закатились к потолку. Веки задрожали. Доктор посмотрел на меня и кивнул. Он достаточно наслушался. Он указал на дверь. Мы были уже на полпути к ней, когда Чанлер громко закричал:
– Это бесполезно, Пеллинор! Не успеет еще больничная карета выехать за ворота, как он со мной покончит!
Доктор повернулся. Он посмотрел на фон Хельрунга, и его взгляд метнулся на Скалу.
– Хмм, что, ты думаешь, у него в кармане? – сказал Чанлер. – Он вонзит его мне в сердце в ту же минуту, как ты закроешь дверь. Когда никого нет, он его достает, чистит себе ногти, ковыряет в зубах, выскабливает все свои грязные дырки. – Чанлер мерзко ухмыльнулся. – Дилетант! – презрительно бросил он невозмутимому богемцу. – Хочу тебе кое-что сказать: это работа для огимаа. А ты разве огимаа, ты, вонючая иммигрантская обезьяна?
Уортроп весь напрягся, услышав ийинивокское слово.
– Откуда ты знаешь это слово, Джон?
Голова Чанлера упала на подушку. Глаза закатились назад в глазницы.
– Слышал его от человека старого, от старика в лесах.
– От Джека Фиддлера? – спросил доктор.
– Старый Джек Фиддлер достал трубку, засунул себе в задницу и зажег!
– Пеллинор. – Фон Хельрунг тронул доктора за руку и тревожно зашептал: – Достаточно. Вызывайте больничную карету, если хотите, но не давите…
Уортроп сбросил его руку и вернулся к постели Джона Чанлера.
– Ты помнишь Фиддлера, – сказал он ему.
Чанлер с усмешкой ответил:
– Его глаза видят очень далеко, гораздо дальше, чем твои.
– А Ларуза? Ты помнишь Пьера Ларуза?
Тут я услышал обрывок той же бессмыслицы, которую он извергал в пустыне: «Гудснут нешт! Гебгунг грожпеч чришункт». Уортроп громко повторил свой вопрос и добавил:
– Джон, что случилось с Пьером Ларузом?
Выражение лица Чанлера внезапно изменилось. Глаза наполнились слезами, толстая нижняя губа задергалась, как у обиженного ребенка, и весь его вид из какого-то звериного стал душераздирающе страдальческим.
– «Вы не идите это делать, мистер Джон, – сказал он мне. – Вы не надо задирать юбки Знатной Даме. Вы не искать в этих лесах то, что ищет вас».
– И он был прав, верно, Джон? – спросил фон Хельрунг больше для Уортропа, чем для себя. Мой хозяин бросил на него испепеляющий взгляд.
– Он бросил меня! – прорыдал Чанлер. – Он знал – и бросил меня! – По его впалым щекам текли кровавые слезы. – Почему он меня бросил? Пеллинор, ты их видел – эти глаза, которые смотрят неотрывно. Рот, который кричит на сильном ветру. Мои ноги горят! О боже, я в огне!
– Оно позвало тебя по имени, – поощряющее пробормотал фон Хельрунг. – Ларуз оставил тебя пустыне, и пустыня тебя призвала.
Чанлер не ответил. После судорог отчаяния раны на его рту открылись, и на них блестела свежая кровь. Он пустым взглядом уставился в потолок, и я вспомнил слова Мюриэл: «Он здесь… и не здесь».
– Гудснут нешт. Холодно. Гебгунг грожпеч. Жжет. Медленнее. Ради Христа, медленнее. Свет золотой. Свет черный. Что мы отдали?
Из-под одеяла появилась его рука. Пальцы казались непомерно длинными, ногти были растрескавшиеся и заскорузлые. Он отчаянно потянулся к доктору, и тот обеими ладонями сжал его иссохшую руку. К моему великому изумлению, на глазах у моего хозяина блеснули слезы.
– Что мы дали? – требовательно вопрошал Чанлер. – Ветер говорит, что это ничего, не говорить ничего. В середине, в бьющемся сердце – яма. Желтый глаз не моргает. Золотой свет черный.
Доктор тер его ладонь, нашептывал его имя. Взволнованный этой грустной сценой, фон Хельрунг отвернулся. Он скрестил руки на толстой груди и молитвенно опустил голову.
– Ты должен забрать меня назад, – умолял сломленный человек. – Меснаветено – он знает. Меснаветено – он достанет меня из дерьма. – Он смотрел на доктора с неприкрытой враждебностью. – Это ты его остановил. Ты похитил меня у Меснаветено. Зачем? Что ты ему дал?
С этим повисшим в воздухе вопросом Джон Чанлер откинулся на кровати и вернулся в воспаленный сон о пустыне: этой серой земле, где ничто не может нас спасти от разверзшихся бездонных глубин.
Уортроп не забрал его обратно к Меснаветено; он забрал его на больничной карете в клинику Бельвю, оставив меня на попечение фон Хельрунга с указаниями – словно он оставлял на постой свою лошадь – накормить и хорошенько вымыть перед сном.
– Я приду за ним позже вечером, а если нет, то завтра утром.
– Я хочу остаться с вами, сэр, – запротестовал я.
– Об этом не может быть и речи.
– Тогда я буду ждать вас в гостинице.
– Я бы не хотел оставлять тебя одного, – с абсолютно невозмутимым видом сказал этот человек, который не раз на долгие часы – иногда даже на целые дни – оставлял меня одного.
Часть восемнадцатая. «Для чего мне жить?»
Я поужинал разогретым чечевичным супом и холодной бараниной, сидя на кухне с дворецким фон Хельрунга Бартоломью Греем, столь же респектабельным, сколь и добрым, который обдуманно отвлек меня от мрачных мыслей, забросав сотней вопросов о моем доме в Новой Англии и рассказами о том, как его семья сумела выйти из рабства на глубоком Юге и перебраться в Нью-Йорк, этот «блистательный город на холме». Его сын, как он гордо проинформировал меня, был сейчас за границей и учился на доктора. За десертом из свежей клубники с заварным кремом появилась Лилли и довольно официальным тоном заявила, что я буду спать в соседней с ней комнате и что она надеется, что я не храплю, поскольку стены очень тонкие, а она спит очень чутко. Казалось, она все еще была обижена, что ее не пустили к Джону Чанлеру, тогда как я насладился аудиенцией у этого больного человека. Я подумал о подарке ее дяди и о блеске в ее глазах, который вызывало трупное содержимое этой книги. Я подозревал, что она была бы рада поменяться со мной местами и навестить Чанлера.
Вскоре после часа ночи меня настигла судьба, которая решила, что меня надо потревожить как раз в тот момент, когда я начну засыпать. Дверь в мою комнату открылась, обнаружив танцующий огонек свечи, а за ним – Лили в пеньюаре. Ее роскошные локоны, освобожденные от лент, каскадом ниспадали на спину.
Я натянул одеяло до самого подбородка. Я отдавал себе отчет в том, как я выгляжу, потому что на мне была одна из ночных рубашек фон Хельрунга, а он, пусть и со своим маленьким ростом, все равно был гораздо больше меня.
Мы с минуту смотрели друг на друга в мерцающем огоньке свечи, а потом она без всяких предисловий сказала:
– Он умрет.
– Может быть, нет, – ответил я.
– О, нет. Он умрет. Это чувствуется.
– Что чувствуется?
– Поэтому мистер Скала начеку. Дядя говорит, что мы должны быть наготове.
– Наготове для чего?
– Надо действовать быстро, очень быстро, и нельзя использовать что попало. Это должно быть серебро. Вот почему он носит этот нож. Он покрыт серебром.
– Что покрыто серебром?
– Нож! Миковский нож с выкидным лезвием и с перламутровой рукояткой![21] Так что когда это случится… – Она сделала режущее движение над сердцем.
– Доктор этого не допустит.
– Это очень странно, Уилл, – то, как ты о нем говоришь. Доктор. Шепотом и со страхом – как будто ты говоришь о Боге.
– Я просто хотел сказать, что, если есть хоть какая-то возможность помочь, он не позволит ему умереть. – И я доверительно рассказал ей о самом поразительном во время сцены в комнате больного – о слезах в глазах монстролога. – Я никогда не видел, чтобы он плакал – никогда. Он бывал близок к этому, – мне вспомнились его слова «Я песчинка», – но только в связи с собой. Я думаю, он очень любит доктора Чанлера.
– Да? А я нет. Я думаю, что он его совсем не любит.
– Ну, а я думаю, что ты его совсем не знаешь. – Я начинал злиться.
– А я думаю, что ты совсем ничего не знаешь, – парировала она. Ее глаза восторженно загорелись. – Случайно упал в Дунай! Он сам прыгнул и чуть не утонул.
– Я это знаю, – сказал я. – А доктор Чанлер его спас.
– А ты знаешь, почему он прыгнул? И знаешь ли ты, что произошло после того, как он прыгнул?
– Он сильно болел, и вот тогда Мюриэл и Джон встретились у его постели, – сказал я с ноткой триумфа. Я ей покажу, кто ничего не знает!
– Это не все. Это почти ничего. Они были помолвлены и…
– Я и это знаю.
– Ладно. А почему тогда они не поженились?
– Доктор по своему характеру не приспособлен к семейной жизни, – сказал я, озвучив объяснение Уортропа.
– Тогда почему же он делал ей предложение?
– Я… Я не знаю.
– Вот видишь? Ты ничего не знаешь. – Она широко улыбнулась, и на щеках появились ямочки.
– О’кей, – вздохнул я. – Почему он сделал предложение?
– Я не знаю. Но он его сделал, а на следующий день прыгнул с моста кронпринца Рудольфа. Он проглотил целый галлон дунайской воды, получил воспаление легких и загноение горла, харкал кровью и ведрами блевал черную желчь. Дядя говорит, что он чуть не умер. Они были сумасшедше, неистово влюблены. О них все говорили – и здесь, и в Европе. Он вполне красив, когда вымоется, а она краше самой Елены Прекрасной, так что все считали их идеальной парой. После того как доктор Чанлер выловил его из реки, она день и ночь сидела у его постели. Она звала его, и он звал ее, хотя они были рядом!
Она провела пальцами по копне своих волнистых волос и мечтательно уставилась куда-то вдаль.
– Дядя познакомил Пеллинора с Мюриэл и поэтому винил себя за случившееся. После того как твоему доктору не стало лучше после двух недель в Вене, дядя переправил его к бальнеологу в Топлице, и вот тогда дела пошли по-настоящему плохо.
Она сделала драматическую паузу. Я боролся с искушением схватить ее за плечи и вытрясти из нее остаток рассказа. Как же часто нас охватывают совершенно неожиданные желания – да еще из неожиданных потайных мест! Сколь многое об этом человеке было скрыто от меня – и скрыто, я признаю, до сих пор. Есть только мимолетные взгляды за тяжелый занавес!..
– Он перестал есть, – продолжала она. – Он перестал спать. Он перестал разговаривать. Дядя был в отчаянии и волновался. Это продолжалось целый месяц – Пеллинор молча угасал, – и тогда дядя ему сказал: «Ты должен решить. Ты будешь жить или умрешь?» А Пеллинор сказал: «Для чего мне жить?» А дядя ответил: «Это можешь решить только ты». И тогда… он решил.
– Что? – прошептал я. – Что он решил?
– Конечно, он решил жить! Ох, я начинаю думать, что ты все-таки тупоголовый, Уильям Генри. Конечно, он решил жить, иначе тебя бы здесь не было, не так ли? Это не был идеальный конец. Идеальный конец был бы, если бы он выбрал обратное, потому что самая лучшая любовь – это та, которая убивает. Любовь ничего не стоит, если она не трагическая – посмотри на Ромео и Джульетту или на Гамлета и Офелию. Это ясно всем, кто не слишком тупоголов, чтобы это понять.
Доктор вернулся утром вскоре после десяти часов. Его костюм был слегка помят, черный галстук, который надо было завязывать «только вот так», неряшливо свисал с воротника, и на нем красовалось темное зеленоватое пятно – это наверняка срыгнул его друг. Когда я спросил его о самочувствии доктора Чанлера, он коротко бросил: «Он жив» и больше ничего не сказал.
День начался с порывистым северным ветром, который принес с собой обилие мрачных воспоминаний. Фон Хельрунг и Лили проводили нас до угла. Увидев на облучке экипажа Бартоломью Грея, Уортроп повернулся к своему старому учителю.
– Где Скала? – требовательно спросил он.
Фон Хельрунг что-то невнятно пробормотал в ответ, и лицо доктора потемнело от гнева.
– Если вы его отправили туда как ангела смерти в образе обезьяны, Meister Абрахам, я сдам его полиции.
Я не слышал ответа фон Хельрунга – меня схватила за воротник Лили.
– Ты сегодня будешь на конгрессе? – спросила она.
– Думаю, да, – сказал я.
– Хорошо! Дядя тоже обещал меня взять. Я найду тебя, Уилл.
Не успел я выразить сердечную благодарность за это чудесное известие, как доктор потянул меня в экипаж.
– Прямо в Общество, мистер Грей! – выкрикнул он, сильно ткнув пяткой трости в крышу. Доктор откинулся на сиденье и закрыл глаза. Он выглядел ненамного лучше, чем его умирающий в Бельвю подопечный. Вот так мы сплетены в танце судьбы, пока один не упадет, и мы должны отпустить его, если не хотим погибнуть вместе с ним.
Тот дождливый день я провел в основном на третьем этаже старого здания оперы в похожем на грот зале, в котором раньше, наверное, помещалась танцевальная студия. Уортроп принимал там участие в качестве ассоциированного члена в заседании редакции Encyclopedia Bestia – публикуемого Обществом исчерпывающего каталога кровожадных существ, больших и малых. Вел заседание долговязый монстролог из штата Миссури по фамилии Пельт, обладавший самыми впечатляющими густыми, длинными и закрученными усами, какие я когда-либо видел. По ходу заседания Пельт жевал соленые крекеры, и я восхищался его умением не ронять крошки на причудливые завитки усов. Это был тот самый доктор Пельт, который, как он позднее признался, был автором анонимного письма, сподвигшего нас на недавний экскурс в темные дебри монстрологии.
Почти не спав минувшей ночью, я дремал в своем кресле под гудение ученых мужей, обсуждавших, анализировавших и споривших о последних исследованиях, дополнявшееся приятной мелодией дождя, стучавшего в высокое арочное окно. Я пребывал в этом сладком полусонном состоянии, когда получил сильный толчок в плечо. Очнувшись, я увидел над собой Лили Бейтс.
– Ты здесь! – прошипела она. – Я тебя везде разыскиваю. Мог бы сказать мне, где ты будешь.
– Я не знал, где я буду, – честно сказал я.
Она плюхнулась в соседнее кресло и мрачно смотрела, как маленький флегматичный аргентинец с примечательным именем Сантьяго Луис Морено Акоста-Рохас ныл по поводу убогого письма большинства монстрологов: «Я понимаю, что они не литераторы, но как можно быть такими безграмотными?»
– Смертельная скука. – Лиллиан резко встала и протянула мне руку.
– Я не могу оставить доктора, – запротестовал я.
– Почему? Ему может понадобиться скамейка для ног? – иронически спросила она. Она подняла меня на ноги и потащила к двери. Я оглянулся на своего хозяина, но он, как всегда, был безразличен к моей участи.
– Теперь тихо, – прошептала она, ведя меня через коридор к двери с табличкой: «ПРОХОД КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН. ЭТО НЕ ВЫХОД».
За дверью открылась круто уходящая вниз лестница, тьма сразу поглощала жалкий свет рожков, размещенных на каждой площадке между пролетами.
– Думаю, нам не следует туда спускаться, – сказал я. – Табличка…
Не утруждаясь ответом, Лили тянула меня за собой вниз по этой заброшенной шахте, не смущаясь узкими ступенями и отсутствием перил. Стены, влажные и с длинными гирляндами облупившейся черной краски, тесно сдавливали лестницу с обеих сторон. На нижней площадке, двумя этажами ниже уровня улицы, нас ждала еще одна дверь с еще одной табличкой: «ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ. ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН».
– Лили… – начал я.
– Все нормально, Уилл, – уверила она меня. – Он каждый день засыпает примерно в это время. Надо только вести себя очень тихо.
Не успел я спросить, почему все нормально, несмотря на таблички, которые ясно указывали, что это не так, и узнать, кто каждый день засыпает примерно в это время, как она открыла дверь плечом и нетерпеливо махнула рукой, чтобы я следовал за ней, что я и сделал по причинам, до сих пор для меня неясным.
Дверь захлопнулась, погрузив нас в абсолютную тьму. Мы стояли в начале заброшенного коридора, ведущего в святая святых темной, вызывающей отвращение стороны натуральной истории.
Его официальное наименование было Монструмариум (буквально «дом чудовищ»), поскольку здесь хранились тысячи экземпляров, собранных по всем уголкам земного шара, от злобного родича Тигантопитекуса Демона Канченджанги с Гималаев до крохотной, но не менее ужасной Vastarus hominis (чье название означает «губить людей») из Бельгийского Конго. В 1875 году какой-то остряк по пьянке обозвал Монструмариум «Звериной свалкой», и название прижилось.
Так называемый Нижний Монструмариум, в который мы с Лили сейчас крались, нащупывая пальцами подземные стены, чтобы сохранить равновесие, был пристроен к изначальному сооружению в 1867 году. Нижний Монструмариум – переплетение коридоров и низких клаустрофобных комнат, иногда размером с чулан – был хранилищем тысяч еще не каталогизированных экземпляров и макабрических диковин. В комнате за комнатой полки прогибались под тяжестью тысяч сосудов с консервирующим раствором, в котором плавали куски неопознанной биомассы – насколько мне известно, они там хранятся и по сей день. Лишь на малой части сосудов были бирки, да и на тех обозначались лишь имя вносителя (если оно было известно) и дата внесения; в остальном это были безымянные напоминания об обширности монстрологической вселенной, о кажущейся неистощимой палитре существ, созданных каким-то загадочным богом во вред нам.
Мы вошли в маленькую переднюю, где Лили взяла фонарь, который висел на железном пруте, замурованном в бетонную стену. Воздух был прохладным и пах плесенью. В свете фонаря мы видели пар от своего дыхания.
– Куда мы идем? – спросил я.
– Тихо, Уилл! – сказала она, чуть прибавив голоса. – Или ты разбудишь Адольфуса.
– Кто такой Адольфус? – Я тут же уверился, что подземелье охраняет какое-то огромное пожирающее людей существо.
– Шшш! Просто иди за мной – и тихо.
Адольфуса, как выяснилось, в тот день не было в Нижнем Монструмариуме. Дела редко заводили его сюда, потому что он не был монстрологом и не считал себя служителем зоопарка. Он был, скорее, куратором Монструмариума как такового.
Адольфус Айнсворт был старым человеком и ходил с посохом, чей набалдашник был сделан из черепа вымершего Ocelli carpendi – ночного хищника размером с обезьянку капуцина, с острыми, как бритва, шестидюймовыми клыками на верхней челюсти и пристрастием к человеческим глазам (если в наличии не было глаз других приматов), особенно детским, которые Ocelli вырывал из глазниц, когда дети спали. Адольфус назвал череп Эдипом и считал, что это очень умно, забывая, правда, то смущающее обстоятельство, что Эдип вырвал и свои собственные глаза.
В то лето 1888 года Адольфус Айнсворт уже дослуживал свой сороковой год в подземелье, и проведенные без солнца годы заметно сказались на его внешности. Его слабые слезящиеся глаза казались втрое больше за толстыми стеклами очков. Рукава его ветхой куртки были на дюйм короче нужного и истрепаны. Он таскался по узким коридорам в единственной паре старых шлепанцев без носка, и его ногти на пальцах ног блестели в тусклом свете, как начищенная бронза.
За время его карьеры как куратора Монструмариума родился афоризм «Ты чуешь, что идет Адольфус» – имелось в виду легко предсказуемое и ожидаемое развитие событий, вроде «так же точно, как ночь сменит день». Казалось, что изо всех его пор сочится аромат подземных этажей – гадкая смесь формальдегида, плесени и гниения. Некий близкий ему монстролог вежливо предположил, что запах могут впитывать его густые бакенбарды, и предложил попробовать их сбрить. Адольфус отказался, заявив, что, поскольку он лыс как бильярдный шар, то будет беречь все волосы, какие имеет, и что ему безразлично, насколько дурно он пахнет.
Адольфусу было далеко за семьдесят, но памятью он обладал поразительной. Когда исследователь в бесплодных поисках бродил по запутанным коридорам и пыльным комнатам, заставленным в кажущемся беспорядке немаркированными ящиками и клетками с тысячами образцов, и уже приходил в отчаяние, на его жалобы следовал простой вопрос: «А вы спрашивали у Адольфуса?» Положим, вы хотели увидеть фаланги редкого снежного человека с архипелага Свалбард[22]. Адольфус вел вас прямо в нужный маленький отсек, неотличимый от остальных, и стоял над вами, пока вы изучали экземпляр, чтобы вы не поставили его потом в неправильное место, нарушив всю систему.
Его кабинет был расположен этажом выше. Там он дремал за столом, заваленным бумагами, книгами и кусками затвердевшей материи, которая когда-то была, а может, и не была живой. Кабинет был таким же неухоженным, как и сам Адольфус – груды и груды материалов громоздились на всех имеющихся поверхностях, включая и большую часть пола. Лишь к креслу вела единственная узкая извилистая дорожка.
Он дремал в тот дождливый ноябрьский день, а этажом ниже при слабом свете от фонаря Лили мы продвигались по узким коридорам Нижнего Монструмариума с их легким запахом формальдегида, слоем пыли и подрагивающей в некоторых углах паутиной.
Мы дошли до стыка двух коридоров, и тут Лили засомневалась, поворачивая фонарь в разные стороны и покусывая нижнюю губу.
– Мы заблудились, – сказал я.
– Кажется, я тебе сказала вести себя тихо!
Она пошла налево, и я, не имея большого выбора, последовал за ней. В конце концов, фонарь был только у нее, а без него я бы плутал по этим адовым закоулкам, а потом упал бы в изнеможении и медленно умер от голода. Вскоре мы пришли к двери с табличкой – зловещей, как я подумал: «НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ 101».
– Вот оно. Вот оно, Уилл! Ты готов?
– Готов к чему?
– Я просила на день рождения это, а в результате получила дурацкую старую книгу.
Она толчком открыла дверь, и в узкий коридор вырвался очень знакомый запах. Он много раз бил мне в нос за время моей службы у монстролога – безошибочное свидетельство того, что у меня есть обоняние: запах животных выделений и гниющего мяса.
Вдоль трех стен маленькой комнаты друг на друге стояли стальные клетки. Большинство из них были пусты – если не считать кусочков влажной соломы и пустых тарелок из-под воды, – но в некоторых были обитатели, которые при нашем вторжении быстро прятались в тень или вжимались мордами в решетки и рычали с животной яростью. Я не мог определить тип этих организмов, поскольку на клетках не было табличек, а я не держал в голове полного монстрологического канона. Я видел, как пламя отражалось в яростных глазах, видел где-то мех, а где-то чешую, когти, вцепившиеся в стальную проволоку, змеиные языки, как бы проверяющие на прочность засовы.
Не обращая внимания на гвалт, Лили прошла прямо к столу у дальней стены, на котором стоял прямоугольный контейнер из толстого стекла. Она поставила фонарь рядом с ним и жестом подозвала меня.
Внутри террариума я увидел трехдюймовый слой чистого песка, блюдце, наполненное вязкой жидкостью, похожей на кровь, и несколько больших камней – пустынный ландшафт в миниатюре. Однако я не увидел ничего живого, даже после того, как она сняла тяжелую крышку и велела мне посмотреть поближе.
– Оно еще дитя, – сказала она, из-за шума придвинув губы к самому моему уху. – Дядя говорит, что они вырастают до пяти футов. Вот он, вот этот бугор. Он это любит – закапываться в песок – если только это он. Дядя говорит, что они очень редкие и стоят огромных денег, особенно живые. Они плохо живут в неволе. Вон! Видел, как он пошевелился? Он нас слышит. – Спрятавшееся существо сделало волнообразное движение под своим одеялом из охряных песчинок.
– Что это? – выдохнул я.