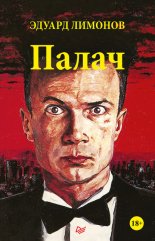Монстролог. Дневники смерти (сборник) Янси Рик
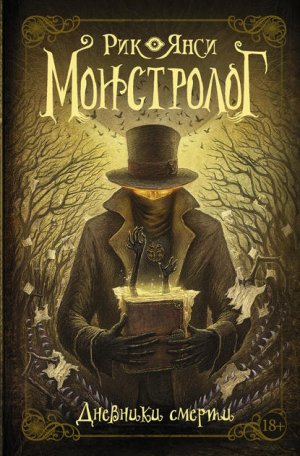
– Я не обвиняю тебя, – продолжил он. – Я просто не понимаю, зачем бы мистеру Аркрайту об этом лгать. Лично меня его искренность поразила даже больше, чем острота его ума – право, воистину необычайная! Действительно выдающийся молодой человек, Уилл Генри. Однажды он станет достойным пополнением наших рядов. Весьма немногие важные вещи способны ускользнуть от его взгляда!
– Он забыл, что у вас уже есть ассистент, – указал я не без нотки триумфа.
– Как я сказал, важные вещи… – он оборвал себя и набрал побольше воздуху в грудь. – В любом случае, удивительно слышать от тебя слово «ассистент». У меня сложилось впечатление, будто ты ненавидишь монстрологию.
– Я ее не ненавижу.
– Так значит, ты ее любишь?
– Я знаю, как она важна для вас, доктор Уортроп, и я…
– А, понятно. Выходит, ты любишь вовсе не монстрологию, – он поглядел на белый мир за окошком кэба. Свежий снег похрустывал под колесами. Порывы бурного ветра с Ист-Ривер глушили щелканье кучерского бича. – О, Уилл Генри, – тихо воскликнул он, – не следовало мне забирать тебя. Ни один из нас этого не желал. Я должен был понимать, что добра из этого не выйдет.
– Не говорите так, сэр. Пожалуйста, не говорите.
Я хотел было коснуться его руки своей раненой, но не стал. Ему не слишком понравилось бы, если бы я до него дотронулся.
– О нет, – сказал он, – такая уж у меня дурная привычка: говорить то, что, пожалуй, говорить не следовало. Добра из этого не выйдет, Уилл Генри; я уже давно это понял. То, чем я занимаюсь, однажды меня убьет, и ты вновь останешься на произвол судьбы. Или, еще хуже, то, что я люблю, однажды убьет…
Его взгляд упал на мою левую руку, и он продолжил:
– Я натурфилософ. Вопросы чувств я оставляю поэтам, но нередко мне думалось, коль скоро я сам неудавшийся поэт, что самое жестокое в любви – ее нерушимая цельность. Мы не выбираем любить – или, лучше сказать, мы не выбираем не любить. Понимаешь?
Он придвинулся вплотную ко мне, и темный огонь, пылавший в его глазах, заслонил от меня весь мир. Голова у меня закружилась, словно я стоял на самом краю лишенной света бездны.
– Выразимся так, – сказал он. – Если бы мы, монстрологи, хоть сколько-нибудь всерьез относились к нашему призванию, мы отбросили бы исследование биологических аберраций и занялись самым ужасным из чудовищ.
Во сне я стоял с Адольфусом Айнсвортом в Монстрарии, перед Комнатой с Замком, и он возился с ключами.
«Доктор сказал, ты захочешь на это взглянуть».
«Но мне нельзя».
«Доктор сказал».
Он отпирает дверь, и я вхожу следом.
«Так-так, посмотрим… Куда я его положил? Ах, да. Вот и оно!»
Из ниши он достает ящик размером с обувную коробку и помещает его на стол.
«Давай-ка, открывай! Он хотел, чтобы ты увидел». У меня дрожат пальцы. Это крышка не хочет сниматься, или это противится моя рука?
«Не могу открыть».
В коробке что-то есть. Что-то живое. Оно дрожит у меня под пальцами.
«Тупоголовый мальчишка! Ты не можешь открыть, потому что спишь!
Хочешь знать, что в коробке, тогда проснись. Проснись, Уилл Генри, проснись!»
Я сделал, как было велено, с испуганным вскриком вынырнув из сна в темную комнату, с сердцем, колотящимся от страха; на мгновение я забыл, где я и кто я… пока голос у моего изголовья мне не напомнил.
– Уилл Генри.
– Доктор Уортроп?
– Полагаю, тебе приснился сон.
– Да… приснился.
Лампы в гостиной были включены, то был единственный источник света, изливавшегося на пол и на стену за кроватью. Монстролог стоял к нему спиной.
– Что тебе снилось? – спросил он.
Я покачал головой:
– Я… я не помню.
– Меж сном и явью… меж упокоением и восстанием… оно там, неизменно там.
На полу лежала полоса света, вдоль стены тоже шла сияющая колонна, но весь этот свет словно истекал в комнате кровью; я смутно видел лицо Уортропа, но не мог прочитать выражения его глаз.
– Это стихи? – спросил я.
– Да. Довольно малокровное подобие стихов.
– Это вы написали?
Он поднял было руку – и опустил ее.
– Как твоя рука?
– Не болит.
– Уилл Генри, – мягко упрекнул он.
– Ну… иногда пульсирует.
– Держи ее выше сердца.
Я попробовал.
– Да, сэр. Так правда лучше. Спасибо.
– Ты его чувствуешь? Как будто палец все еще там?
– Иногда.
– У меня не было выбора.
– Я знаю.
– Риск был… неприемлем.
Монстролог присел на край кровати. На его лицо упало больше света – но ничего не высветило. Зачем он стоял в темноте и следил за мной?
– Ты этого, конечно, не знаешь. Но потом я взял веревку и собирался связать тебя – сугубо в качестве предосторожности…
Я открыл было рот, чтобы сказать: я знаю, я вас видел. Но он поднял палец и не дал себя прервать.
– Я не смог этого сделать. Это было бы мудро, но я не смог.
Он смотрел в сторону, старательно избегая встретиться со мной глазами.
– Но я очень устал тогда. Я не спал… сколько? Я даже не знал, сколько. Я боялся, что усну, и ты вдруг… ускользнешь. Тогда я привязал другой конец веревки к руке – привязал тебя к себе, Уилл Генри. В качестве предосторожности; это казалось разумным.
Он сгибал и разгибал свои длинные пальцы, то сжимая их в кулаки, то распрямляя. Кулак. Раскрытая ладонь. Кулак. Раскрытая ладонь.
– Но это было неразумно. Худшее, что только можно было сделать. Возможно, самое идиотское, что я когда-либо делал. Потому что если бы ты ускользнул, ты утянул бы меня за собой в бездну.
Кулак. Раскрытая ладонь. Кулак.
– Возможно, для поэта мне и недостает дара обращаться со словом, Уилл Генри, но вот с любовью к иронии у меня все в порядке. До той ночи наши роли существовали как бы в зеркальном отражении. До той ночи не я был привязан к кому-то, и не меня эти узы грозили затянуть в бездну.
Он потянулся вниз и медленно размотал повязки на моей раненой руке. Кожу покалывало; воздух моей обнаженной плоти показался очень холодным.
– Сожми в кулак, – сказал он.
Я повиновался, хотя мои пальцы еще были онемевшими; мускулы с тыльной стороны ладони, казалось, застонали, противясь.
– Вот, – он взял с прикроватного столика свою чайную чашку. – Бери чашку. Пей.
Моя рука дрожала; капля выплеснулась на одеяла, пока я подносил трясущуюся чашку к губам.
– Хорошо.
Он принял у меня чашку правой рукой и протянул мне левую.
– Возьми меня за руку.
Я так и поступил и дрожал теперь всем телом. Человек, каждый тончайший оттенок которого я инстинктивно считывал, вдруг превратился в шифр.
«Доктор сказал, ты захочешь на это взглянуть».
– Сожми. Сожми мою руку, Уилл Генри. Сильнее. Так сильно, как только можешь.
Уортроп улыбнулся. Кажется, он был доволен.
– Ну вот. Видишь? – крепко держа меня за руку. – Части ее больше нет, но это все еще твоя рука.
Монстролог выпустил меня и поднялся, и мои пальцы болели после его хватки.
– Засыпай обратно, Уилл Генри. Тебе надо отдохнуть.
– И вам, сэр.
– Не тебе обо мне беспокоиться.
Он широкими шагами прошел к двери, канул в полосу света, и его тень протянулась по полу и вскарабкалась вверх по стене. Я улегся на спину и закрыл глаза. Два вздоха, три, четыре… и затем я открыл их снова – не слишком, лишь чтобы подсмотреть сквозь ресницы.
Он не отошел от двери, не бросил меня. Пока не бросил.
Рука пульсировала; хватка у него была крепкой. Там, где должен был быть мой указательный палец, мучительно чесалось. Я согнул большой палец и почесал им пустоту.
Дневник 8. Изгнание
Часть тринадцатая. «Расстояние между нами»
Уортроп взял билеты на следующее утро – на «Город Нью-Йорк», самое быстрое судно компании «Инман-Лайн». Как пассажирам первого класса, нам предстояло самое скучное плавание – существование в отдельной двухкомнатной каюте (со спальней и гостиной), разукрашенной самыми безвкусными викторианскими излишествами, с горячей и холодной водой и электрическим освещением; ужины под гигантским стеклянным куполом кают-компании первого класса, за столами с хрустящими белыми скатертями и хрустальными вазами, полными свежих цветов; обшитая ореховым деревом корабельная библиотека с ее восемью сотнями томов; и нескончаемая навязчивость параноидально внимательных к нам прислуги и экипажа, одетых в белые куртки и вечно, по словам доктора, стоящих над душой в неутолимой жажде выполнять для нас даже самые элементарные поручения.
– Только подумай, Уилл Генри, – заявил он в нашем номере в «Плазе», прежде чем в первый раз пожелать мне спокойной ночи – прежде, чем я увидел во сне Комнату с Замком и коробку, и тень его повисла на стене. – Нашим предкам потребовалось больше двух месяцев лишений и болезней, цинги, дизентерии и обезвоживания, чтобы пересечь Атлантику. У нас же это займет меньше недели, причем в роскоши, достойной королей. Мир становится все меньше, Уилл Генри, и не благодаря чудесам – разве что мы пересмотрим свое определение чуда и того, кто его творит.
Его глаза затуманились, а голос был мечтателен.
– Мир становится все меньше, и мало-помалу наши светильники разгоняют тьму. Рано или поздно все будет залито светом, и мы проснемся с новым вопросом: «Да, вот оно; но… что теперь?» – Он мягко рассмеялся. – Возможно, нам стоит развернуться и ехать домой.
– Сэр?
– Обнаружение магнификума станет основополагающим моментом в истории науки, Уилл Генри, и не без попутной пользы для меня лично. Если я добьюсь успеха, меня ждет бессмертие – во всяком случае, в том единственном понимании бессмертия, которое я готов принять. Но если я добьюсь успеха, расстояние между нами и неназываемым сократится еще немного. Вот за что мы боремся как ученые, и вот чего мы страшимся как человеческие существа. Нечто в нас тоскует по неописуемому, недостижимому… тому, что не может быть зримо.
И он умолк.
А на следующее утро он исчез.
Что-то было не так; я знал это, как только проснулся. Я сразу понял – не в обыденном смысле, не рассудочно, но сердцем. Ничего не переменилось. Вот была кровать, на которой я лежал, вот стул, на котором он тогда сидел, следя за мной, и обеденный стол, и гардероб, и даже чашка Уортропа на столике. Все было по-прежнему; все переменилось. Я выпрыгнул из постели и сбежал вниз, в холл, в пустую гостиную. Все было по-прежнему; все переменилось. Я подошел к окнам и отдернул шторы. Восемью этажами ниже блистал Центральный парк: белый пейзаж, так и полыхавший в солнечном свете под безоблачным небом.
Его сундук. Его саквояж. Его полевой чемоданчик. Я бросился к шкафу и рывком распахнул дверцу. Пусто.
Все переменилось.
Когда в дверь постучали, я одевался. Я бы уже оделся, но вышла заминка с брючными пуговицами: мой отрубленный палец оказался неожиданно важен для этой процедуры. На неразумное мгновение я уверился: доктор вернулся за мной.
«А, хорошо. Ты проснулся. Я сходил вниз позавтракать, пока мы не отправились на корабль. Что такое, Уилл Генри? Ты что, правда решил, что я мог бы уехать без тебя?»
Или что больше походило на правду:
«Живо, Уилл Генри! Какого черта ты делаешь? Что это ты светишь своей ширинкой? Пошевеливайся, Уилл Генри. Я не намерен пропускать самое важное событие в своей жизни по причине того, что тринадцатилетний подросток неспособен одеться! Живо, Уилл Генри, живо!»
Однако, как вы уже могли догадаться, это был не доктор.
– Guten Morgen[57], Уилл! Прости, что так опоздал, но у моего экипажа сломалась ось, а мой кучер – он такой тупица! Он не то что оси, он настроения никому не смог бы исправить. Я бы его уволил, но у него семья, а она в родстве с моей семьей, троюродная или четвероюродная сестра, уж и не помню…
– Где доктор Уортроп? – требовательно спросил я.
– Где Уортроп? Он что, тебе не сказал? Да конечно же сказал.
Я сдернул с вешалки пальто и рукавицы, и шляпу, что подарил мне Уортроп, – единственное, что он когда-либо мне дарил.
– Отвезите меня к нему.
– Я не могу, Уилл.
– Я еду с доктором.
– Он уехал…
– Я знаю, что он уехал! Вот почему вы и должны отвезти меня к нему!
– Нет, нет, Уилл, он уехал. Его корабль отчалил час назад.
Я уставился в доброе лицо фон Хельрунга, а затем ударил монстролога в круглый живот так сильно, как только смог. Он заворчал сквозь зубы от удара.
– Я думал, он тебе сказал, – охнул он.
– Везите меня, – сказал я.
– Куда?
– В доки; я должен ехать с ним.
Он наклонился, положил мне на плечи свои квадратные пухлые руки и заглянул глубоко в глаза.
– Он отплыл в Англию, Уилл. Корабля там больше нет.
– Тогда я поплыву на следующем корабле! – заорал я, высвободился из его хватки, оттолкнул старика и побежал мимо, в холл, накинув резинку от рукавиц на шею, рывками натягивая шляпу, судорожно возясь с пуговицами пальто. Пол дрожал под тяжелой поступью фон Хельрунга, который нагонял меня – и наконец нагнал у лифта.
– Пойдем, Kleiner[58]. Я отвезу тебя домой.
– Не хочу я домой; мое место – с ним.
– Он хотел бы, чтобы ты был в безопасности…
– Не хочу я быть в безопасности!
– И он поручил мне следить за твоей безопасностью, пока он не вернется. Уилл. Пеллинора здесь нет; и туда, куда он направился, ты следовать за ним не можешь.
Я помотал головой, будучи потрясен до глубины души, и заглянул в его добрые глаза в поисках ответа. Солнце исчезает в мгновение ока, и гибнет вселенная; ось мира подламывается.
– Он уехал без меня? – прошептал я.
– Не волнуйся, дорогой Уилл. Он вернется за тобой. Ты – все, что у него есть.
– Тогда почему он меня бросил? Теперь у него вообще никого нет.
– О нет; неужели ты думаешь, будто мейстер Абрам допустил бы такое? Nein![59] С ним поехал Томас.
Я онемел. Томас Аркрайт! Это было уж слишком. Я вспомнил слова доктора в кэбе накануне ночью: «Действительно выдающийся молодой человек, Уилл Генри. Однажды он станет достойным пополнением в наших рядах». Однажды… и этот день, судя по всему, настал – за мой счет! Меня вышвырнули – и за что? Что я такого сделал?
Фон Хельрунг прижал меня к себе, лицом – к своей груди. Его жилет пах сигарным дымом.
– Мне жаль, Уилл, – пробормотал он. – Ему следовало бы с тобой хотя бы попрощаться.
«Не твое дело обо мне беспокоиться».
– Он попрощался, – сказал я. – Но я его не услышал.
И после этого – мое изгнание.
– Вот это будет твоя комната, и, как видишь, здесь очень удобная кровать, намного больше, полагаю, чем та, к которой ты привык. А вот, погляди, чудесное кресло, чтобы сидеть у камина, очень уютное, и лампа, чтобы читать, и сундук для твоего платья. Посмотри-ка еще сюда, Уилл. Вон Пятая авеню, эдакая давка и сутолока, и вечно там что-то происходит да что-то делают. Вот, ты только погляди на этого господина на велосипеде! Сейчас в грузовик врежется! А впрочем, ты, должно быть, голоден. Что будешь? Ну-ка, давай-ка положим твой портплед на кровать. Хочешь посидеть на кровати? Тут и матрац пуховый, и подушка; очень мягко! Так ты голоден, ja? У меня отличный повар, француз – ни слова не понимает ни по-английски, ни по-немецки, – но уж в еде знает толк!
– Я не голоден.
– А должен быть. Отчего бы тебе не положить портплед? Я прикажу принести тебе еды. Можешь есть здесь, у камина. Думаю, попозже покажу тебе библиотеку.
– Не хочу ничего читать.
– Ты прав. Слишком хорошая погода, чтобы сидеть взаперти. Может, попозже в парк, ja? Или мы могли бы…
– Зачем доктор взял с собой Аркрайта?
– Зачем? Ну, по очевидным причинам. Аркрайт молод, очень силен и весьма неглуп, – он сменил тему. – Но хватит, тебе нужно поесть. Тебя как голодом морили, Уилл.
– Я не голоден, – повторил я. – Я не хочу ни есть, ни читать, ни идти в парк, ни что бы то ни было еще. Почему вы позволили ему уехать без меня?
– Никто не «позволяет» ничего Пеллинору Уортропу, Уилл. Это твой наставник «позволяет» другим – или нет.
– Вы могли бы не пустить с ним мистера Аркрайта.
– Но я хотел, чтобы он поехал. Я не мог отпустить Пеллинора одного.
Хуже этого он сказать ничего не мог – и знал это.
– Я сейчас уйду, – кротко произнес он, – но ожидаю к обеду увидеть тебя внизу. Велю Франсуа приготовить тебе что-нибудь особенное, trs magnifique[60]!
Фон Хельрунг вышел из комнаты. Я уронил портплед на пол, лег на кровать лицом вниз и изо всех сил пожелал умереть.
Однако вскоре мой шок сменился стыдом («Аркрайт молод, очень силен и весьма неглуп»), стыд – непониманим («Не недооценивайте его, фон Хельрунг. Один Уильям Джеймс Генри, как по мне, стоит дюжины Пьеров Леброков»), а непонимание переплавилось в добела раскаленный уголь ненависти. Уползти крадучись, без единого слова объяснения, даже без прощания – и неважно, доброго или наоборот! Храбрейший человек из всех, что я когда-либо знал, – трус! Да как он смел, после всего, что мы перенесли вместе, а я не раз спасал ему жизнь? «Ты – все, ради чего я остаюсь человеком». О да, воистину так, доктор Уортроп, пока только вы не найдете, ради кого оставаться человеком вместо меня! Это оглушило меня; это потрясло меня до глубины души. Не имело никакого значения, что он обещал за мной вернуться. Он бросил меня; вот что имело значение.
Слишком много времени успело пройти. Я пробыл с ним слишком долго. Он приковал меня к себе на два года – пылинку, попавшую в поле гравитации Юпитера. Я не знал даже, как выглядит мир, если смотреть на него не глазами Уортропа. Теперь Уортропа со мной не было, и я ослеп.
– Посмотрим, как мистеру Аркрайту это понравится, – сказал я себе с горьким удовлетворением. – «Пошевеливайтесь, мистер Аркрайт! Пошевеливайтесь!» Посмотрим, как ему понравится, чтобы его высмеивали и бранили, и издевались над ним, и приказывали ему то да се, как кули[61]. Кушайте досыта, мистер Аркрайт, да смотрите не подавитесь!
Я отказывался есть и не мог спать. Все попытки фон Хельрунга лаской выманить меня из комнаты провалились. Я сидел в кресле у камина и дулся, как Ахилл[62] в шатре, а война жизни продолжала бушевать без меня. Вечером третьего дня фон Хельрунг прошаркал в комнату с подносом, на котором красовались кружка горячего шоколада, булочки и шахматная доска.
– Славно поиграем в шахматы, ja? Только не говори, что Пеллинор тебя не научил. Я его лучше знаю.
Он и правда меня научил. Игра в шахматы была одним из любимых развлечений монстролога. И, как многие достигшие совершенства в этой игре, он, казалось, никогда не уставал унижать противника – сиречь меня – до последнего. В первый год нашего совместного обитания он не один час потратил впустую, пытаясь обучить меня тонкостям стратегии, атаки, контратаки и защиты. Я никогда у него не выигрывал, ни разу. Уортроп мог бы проявить великодушие и проиграть одну или две партии, чтобы укрепить во мне уверенность в собственных силах, однако доктор никогда не интересовался укреплением во мне чего бы то ни было, кроме желудка. К тому же возможность разбить одиннадцатилетнего мальчика в шесть ходов – в игре, в которую он играл дольше, чем мальчик вообще жил на свете – поднимала Уортропу дух, как хорошее вино за ужином.
– Мне что-то не хочется.
Фон Хельрунг расставлял фигуры. Набор был выточен из нефрита, фигуры – вырезаны в форме драконов. Драконьи король и ферзь носили на головах короны, слоны-драконы сжимали в когтях пастушьи посохи.
– О, нет-нет-нет. Мы сыграем. Я поучу тебя так, как учил Пеллинора. И даже лучше, так что, когда он вернется, ты сможешь его победить, – он счастливо напевал что-то себе под нос.
Я швырнул доску в стену. Фон Хельрунг тихонько вскрикнул и чуть не зарыдал, поднимая с пола драконьего короля, лишившегося короны; она отломилась, когда фигурка ударилась об пол.
– Доктор фон Хельрунг… Простите…
– Нет-нет, – сказал он, – ничего страшного. Всего-то подарок от моей милой жены, пусть земля ей будет пухом, – он шмыгнул носом. Не зная, как его утешить, убитый своим ребячеством, я неловко положил руку ему на плечо.
– Я тоже волнуюсь, Уилл, – признался он. – Его ждут темные дни, полные опасностей. Помни об этом, когда жалость к себе грозит захлестнуть тебя с головой и потопить.
– Я знаю, – ответил я. – Вот почему я должен был быть с ним. Я нужен ему не затем, чтобы стряпать или убирать, или читать под диктовку, или смотреть за лошадью, или еще что-нибудь такое. Это может любой, доктор фон Хельрунг. Я нужен для темных мест.
Утром седьмого дня из Лондона пришла телеграмма:
«ПРИБЫЛ В ПОРЯДКЕ ТЧК НАПИШУ ТЧК ПКУ ТЧК»
– Четыре слова? – простонал фон Хельрунг. – И это все?
– Телеграмма из-за границы стоит по доллару за слово, – объяснил я ему, – а доктор очень скуп.
Фон Хельрунг, который и близко не был ни так богат, ни так прижимист, как мой наставник, ответил так:
«СООБЩИТЕ срочно ЛЮБЫХ НАХОДКАХ ТЧК
ВСТРЕТИЛИСЬ ЛИ ВЫ УОКЕРОМ ВПРС
БЕСПОКОЙСТВОМ ЖДЕМ ВАШЕГО ОТВЕТА ТЧК»
Ответ шел долго – очень, очень долго.
За две недели мое состояние никак не изменилось, и фон Хельрунг вызвал взглянуть на меня своего личного терапевта – доктора Джона Сьюарда. Целый час меня пихали и тыкали, выстукивали и щипали. Меня не лихорадило, легкие и сердце прослушивались прекрасно, глаза были ясные.
– Ну, весит он недостаточно, но для своего возраста он и невысок, – сообщил фон Хельрунгу Сьюард. – Еще ему не помешало бы посетить хорошего дантиста: я у козла видывал зубы чище.
– Я беспокоюсь, Джон. Он мало ел, с тех пор как приехал, а спал еще меньше.
– Не спится, м-м? Ну что ж, приготовлю снадобье, которое этому поможет, – он уставился на мою левую руку. – Что случилось с твоим пальцем?
– Доктор Пеллинор Уортроп оттяпал его мясницким ножом, – ответил я.
– В самом деле? И зачем бы ему это делать?
– Риск был неприемлем.
– Гангрена?
– Пуидресер.
Сьюард непонимающе поглядел на фон Хельрунга, который нервно рассмеялся и описал рукой вялый круг.
– Ох, дети такие дети, ja? Такое бурное воображение!
– Он его отрубил и положил в банку, – сказал я, в то время как фон Хельрунг, стоявший чуть позади Сьюарда, яростно затряс головой.
– Вот как? И почему он это сделал? – спросил Сьюард.
– Он хочет его изучить.
– А пока палец был на руке, он его изучить не мог?
– Мой отец был крестьянином, – громко провозгласил фон Хельрунг. – И, бывало, заболевшая корова ложилась ничком, и ни лаской, ни хитростью ее было не поднять. «Ничего не поделаешь, Абрам, – говорил мне тогда отец. – Когда животное вот так сдается, это значит, что оно утратило волю к жизни».
– Так вот что с тобой? – спросил меня Сьюард. – Ты утратил волю к жизни?
– Я здесь живу, хотя не хочу тут быть. Это считается?
– Возможно, у него меланхолия, – предположил юный доктор. – Депрессия. Это объяснило бы потерю аппетита и бессонницу. Он повернулся ко мне. – Бывают ли у тебя мысли о самоубийстве?
– Нет. Об убийстве – бывают иногда.
– Правда?
– Неправда, – вмешался фон Хельрунг. – Nein!
– И не только мысли.
– Не только мысли…
– Я убивал людей. Например, человека по имени Джон Чанлер. Он был лучшим другом доктора.
– Да что ты говоришь!
– Не думаю, что это правда! – рявкнул фон Хельрунг. – У него кошмарные сны, просто ужасные. Ах, какие кошмары! Он говорит про сны. Разве не так, Уилл?
Я опустил глаза и промолчал.