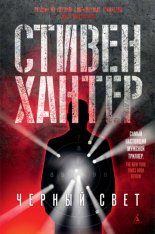Гардемарины, вперед! Соротокина Нина

© Н. М. Соротокина (наследники), 2021
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство АЗБУКА®
* * *
Гардемарины, вперед! или Трое из навигацкой школы
Посвящается моим сыновьям
Часть первая
В Москве
1
– Пошли, Котов у себя.
– Может, не надо, а? – В голосе Алексея прозвучал последний робкий призыв к благоразумию, который, впрочем, был обращен больше к самому себе, чем к двум стоящим рядом друзьям.
Князь Никита Оленев, высокий, с несуразной фигурой малый, положил на плечо Алексея руку, словно подталкивая его к двери, а третий из молодых людей, Саша Белов, запальчиво воскликнул:
– Как же не надо? Ты дворянин! Или ты идешь и в присутствии нашем требуешь у этого негодяя извинения, или, прости, Алешка, как ты сможешь смотреть нам в глаза?
– А если он откажется извиниться? – пробормотал Алексей, сопротивляясь осторожно подталкивающей руке Никиты.
– Тогда ты вернешь ему пощечину! – еще яростнее крикнул Белов.
Он предвидел эту заминку у двери и теперь дал волю своему негодованию:
– Все ты колеблешься! Ходишь, как девица, румянец боишься расплескать. Зачем только шпагу на бедре носишь? Это тебе не театральный реквизит. Может, ты и мундир сменишь на женские тряпки?
Уже произнеся последние слова, Белов понял, что про театр вспоминать сейчас не к чему, зачем травить раны, Алешка и так на пределе, но было поздно. Недаром в школе говорили: «Козла бойся спереди, коня сзади, а тихого Алешу Корсака со всех сторон».
– Реквизит, говоришь? – Алексей сбросил с плеча руку, которая уже не подталкивала к двери, а успокаивающе похлопывала, отступил назад и рванул шпагу из ножен. – Уж тебе-то я не позволю!.. Позиция ан-гард! Защищайся, Белов!
– Сэры, вы в уме? – только и успел крикнуть Никита Оленев.
Позднее Алексей говорил друзьям, что шпагу выхватил без умысла, просто так, что он вовсе не хотел драться. «Глаза у тебя, однако, были опасные», – отвечал Никита.
Эти «опасные» глаза и заставили Оленева выставить руку, отводя острие шпаги от груди изумленного Белова. Шпага чиркнула по раскрытой ладони и повисла, опущенная к полу. К Белову вернулся дар речи.
– Ты же ему руку поранил, сумасшедший! Никогда наперед не знаешь, что ты выкинешь!
Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появился сухого сложения мужчина в черном камзоле. Он вышел на шум, собираясь отчитать курсантов, но так и замер с назидательно поднятым пальцем. Специальный указ запрещал в школе носить оружие, а тут мало того, что курсант при шпаге, так еще затеял оной драку.
– Что вы здесь?.. – начал Котов грозно и умолк, потому что прямо на него, выставив вперед шпагу, шел Алексей Корсак.
Глаза у Котова округлились. Вид дрожащего лезвия не столько испугал его, сколько обескуражил. Виданное ли дело, чтоб ученик шел с оружием на учителя?
Белов опомнился первым и бросился отнимать шпагу, а распаленный Алексей, который забыл, что у него в руках, решил, что ему хотят помешать объясниться с Котовым.
– Отойди, Александр! – крикнул он, отталкивая Белова.
Шпага заходила ходуном, со свистом разрубая воздух.
– Отдай, дуралей, – требовал Белов.
– Не отдам, – твердил Корсак, не понимая, что он должен отдать, и судорожно вспоминая слова, которых требовал этикет. – За бесчинство ваше, сударь, я пришел требовать удовлетворения! – прокричал он наконец.
– Какое бесчинство? Опомнись! – воскликнул Котов.
– Вы дали мне пощечину!
– Ты лжешь!
В этот момент Белов разжал белые от натуги Алешкины пальцы, шпага взметнулась вверх, и самым своим кончиком сорвала парик, украшавший голову учителя.
Парик описал плавную траекторию и упал прямо в руки к Никите, который как раз кончил перевязывать носовым платком окровавленную ладонь. Молодой князь поднял глаза и, увидев лысую, гладкую, как кувшин, голову и обалдевшее лицо Котова, громко, неприлично захохотал. Эхо рассыпалось по коридорам, как сыгранная на трубе гамма.
И тут до понимания Алексея дошел призыв Белова, но он его по-своему истолковал.
– И отдам! – крикнул он страстно. – Сполна отдам! Если не было вашей пощечины, то моя налицо… – И он наотмашь приложился к отвислой щеке, да так, что рука потом ныла, как от тяжкой работы.
Котов успел только крикнуть: «У-ух!» – и задом влетел в комнату. Александр быстро захлопнул дверь и, подхватив обомлевшего Корсака, понесся прочь по коридору. Никита повесил на ручку двери парик и, громко хохоча, бросился вслед за друзьями.
– Как при тебе шпага-то оказалась? – сердито спросил Александр, когда они, переводя дыхание, выскочили на улицу.
– Я из театра. – Только сейчас Алексей осознал, что совершил. – Теперь все, конец… в солдаты… или в Сибирь! Котов ведь решил, что я убивать его пришел. Почему вы меня не остановили?
– Перестань причитать, – все еще смеялся Оленев. – Посадят всех под арест, это точно. Всыпят. Но пусть это Федор делает. Ему по чину положено. Но чтоб всякие штык-юнкеры руки распускали… Мразь! Доносчик!
– Хорошо ты его. – Белов тоже позволил себе улыбку. – Рожу теперь раздует пузырем. А как грохнул, господа!
Они шли по улице, размахивая руками, припоминая новые подробности и смешные детали. Сзади, горестно вздыхая, тащился Алексей.
– Такое и в помыслах представить страшно, – приговаривал он. – Вас посадят и выпустят, а со мной что будет?
– Не хнычь! – крикнул Оленев. – Ответ будем держать все вместе. Выше нос, гардемарины!
И они пошли в трактир обмыть пощечину.
2
Описанное событие происходило под сводами Сухаревой башни, где в сороковых годах XVIII столетия размещалась Морская академия, или попросту навигацкая школа, готовящая гардемаринов для русского флота.
Когда-то навигацкая школа была очень нужна России. Море было истинной страстью Петра I. Чуть ли не все свое дворянство решил он обучить морской службе, чтобы превратить дворянских детей в капитанов, инженеров и корабельных мастеров.
Для этих целей и открыли в Москве в 1701 году школу математических и навигационных искусств. Курсантов набирали принудительно, как рекрутов в полк. Дети дворян, подьячих, унтер-офицеров сели за общие парты.
Обучение велось «чиновно», то есть по всем правилам. Профессор Эбердинского университета Форварсон с двумя помощниками учили недорослей морской науке. Леонтий Магницкий, автор известной «Математики», вел цифирный курс. Неутомимый соратник Петра – Брюс оборудовал обсерваторию в верхнем ярусе Сухаревой башни и сам с курсантами наблюдал движение небесных светил.
Обыватель обходил стороной школу на Сретенке, считая ее притоном чернокнижия. Про Брюса говорили, что он продал душу дьяволу за тайну живой и мертвой воды.
После смерти Петра многие его начинания были брошены. Наследники престола занимались казнями, охотой и балами. Бывшие соратники преобразователя, видевшие смысл жизни в служении государству, после смерти своего кумира сбросили личину патриотов и вспомнили о собственных кровных нуждах.
В России легче было построить флот, чем привить понимание о необходимости этого флота. Сейчас, когда корабли тихо гнили в обмелевших Кронштадтских гаванях, вспоминая битвы при Гонгуте и Гренгаме, когда сама мысль о России как морской державе стала ненужной и хранилась только по привычке, Московская навигацкая школа совершенно захирела.
Еще при Петре в 1715 году в Петербурге создали Морскую академию для прохождения всей мореходной науки, а в Сухаревской школе, хоть и была она по примеру столичной переименована в «академию», предписывалось иметь только начальные курсы.
Но переводить курсантов, или, как их называли, «морских питомцев», в Петербург на доучивание было хлопотно, дорого, и их опять после прохождения арифметики принялись кое-как обучать круглой и плоской навигации, морской астрономии и прочим премудростям.
Адмиралтейская коллегия с недоумением просматривала штат навигацкой школы – закрыть ли ее совсем или присовокупить к другому учебному заведению? В Пеербургской академии питомцы живут в казармах, гвардейские офицеры поддерживают в классах строгий порядок, а в Москве все по старинке. Да и как учить «фрунту» орду в разносшитых драных мундирах? Как заставить ходить на занятия расселенную по трущобам «морскую гвардию», если от голода и тоски по дому курсанты будто хмелели, смотрели независимо и впадали в предерзости, из которых самая невинная – ограбление монастырского сада или пекарни?
В те времена аппетит к знаниям прививался поркой. Слова «бить» и «учить» всякий недоросль воспринимал как синонимы. Но навигацкая школа побила все рекорды. В нее привозили столько розог, что вышеназванное учебное заведение можно было скорее принять за фабрику по производству корзин и прочих изделий из гибкой лозы.
Розги сваливались в просторном подвальном помещении, прозванном курсантами «крюйт-камерой»[1], там же происходили ежедневные экзекуции. Правый угол подвала был разделен на закутки, в которых отсчитывали часы и дни посаженные на гауптвахту.
Секли за малейшую провинность, а более всего за нежелание учиться. Ничего не вызывало в сухопутных курсантах большего отвращения, чем море. Им казалось, что их готовят на роль утопленников, а весь этот гвалт про защиту отечества, лоции, фок-мачты и навигацию не более чем ритуал перед тем страшным часом, когда они пойдут ко дну. «Хоть плохонькую службу, да на берегу», – было молитвой курсантов.
Были, правда, в школе и такие, в которых море вызывало не страх, а любопытство и даже интерес, и свои честолюбивые замыслы они связывали именно с флотом. В числе таких курсантов был и Алеша Корсак – неудачный дуэлянт. Но вот насмешка судьбы! Секли прилежного и, по признанию учителей, остропонятного Корсака не только не реже, но даже чаще, чем самых нерадивых, самых тупоумных учеников. Виной тому был Алешин простодушный характер, вспыльчивый нрав и прямо-таки фатальная невезучесть.
Алеша жил в нереальном, выдуманном мире. Убогая маменькина усадьба, забытая за три года, сквалыга-хозяйка, у которой он квартировал, неприязнь учителей, опостылевший театр, всевидящее око Котова – все это существовало само по себе, а он бредил морем, грозными баталиями и теми далекими странами, где нас нет, и уже потому там хорошо.
За эту нелепую, непонятную любовь к морю курсанты считали Корсака чудаковатым, чуть ли не помешанным, и ждали только очередной истории, в которую тот попадет, чтобы всласть посмеяться за его спиной. Смеяться над Алешей в лицо было опасно. Одному насмешнику он скулу в драке свернул, другому пальцы отбил, третьему… Да что говорить? В гневе, тихий и даже трусоватый по мнению курсантов, Корсак совершенно забывался и мог ударить чем попадя.
«Остропонятных» в Сухаревской школе не любили. Курсанты считали их подлизами и выскочками, учителя тоже не нуждались в слишком шустрых – много лишних вопросов, а то еще спорить начнут…
Навигацию в школе преподавал мрачного вида англичанин по кличке Пират. Изъяснялся он на немыслимом жаргоне из смеси русских, английских и даже испанских слов, словно эксперимент ставил во славу лингвистики – а вдруг поймут! Но понять было невозможно, и Алексей, для того чтобы разобраться в морских учебниках (русских учебников по навигации еще не было), начал втайне от всех изучать английский язык.
Через полгода Алеша стал улавливать в лекциях англичанина столь тщательно скрываемый им смысл, и только отдельные, особенно часто повторяемые Пиратом слова-термины, оставались непонятными.
Тогда Алексей, полистав навигацкий словарь и не получив в нем ответа, обратился на лекции к англичанину за разъяснением. Пират свирепо прищурился и довольно чисто перевел на русский непонятные термины. Алеша покрылся краской, курсанты грохнули хохотом, а англичанин, выделив таким образом Корсака (для него все ученики были, как арапы, на одно лицо), стал придираться к этому «остропонятному» по поводу и без повода.
А каждая придирка – это порка в крюйт-камере или общей зале, где курсанты собирались для молитвы.
В Священном законе греческого вероисповедания наставлял курсантов отец Илларион, человек рассеянный и добродушный. Многие находили в его лице заступника, но Алексей и с ним не нашел общего языка.
Пользуясь повышенной смешливостью веселого попа, морские питомцы во время богослужения, если не присутствовало начальство, выкидывали иногда каверзы, впрочем весьма традиционные и безобидные.
Однажды отец Илларион так увлекся служебным ритуалом, что не заметил, как один из курсантов поставил на оклад вместо иконы светскую картинку, закрыв лик Всескорбящей. Изображенная на картине девица томно улыбалась и протягивала изумленному священнослужителю бокал вина.
На этот раз отец Илларион не рассмеялся, а обрушился на паству с бранью. Алеша стоял в первом ряду, как всегда во время богослужения витая где-то мыслью, и поэтому не сразу заметил, что произошло. Кадило в руках разъяренного отца вертелось, как праща, и больно ударило юношу в бок. Воспринимая все обидные слова на свой счет, Алексей побагровел и, вцепившись в эфес шпаги, прокричал: «Я вам, батюшка, дворянин, а не „мерзкий богоотступник“!»
Отец Илларион сразу умолк, окинул Алешу пристальным взглядом и исчез за царскими вратами.
Батюшка очень обиделся за такое непочтение к сану, но доноса на еретика-курсанта не настрочил, считая это несовместимым со своим положением. Однако вездесущий Котов придал сцене на заутрене гласность, особо упирая на то, что Корсак при разговоре держался за шпагу. За это «держание» Алексей был порот сильнее обычного и трое суток просидел в закутке крюйт-камеры, а курсантам было строжайше запрещено являться в школу при шпаге.
Штык-юнкер Котов вел в навигацкой школе курс под названием «Рыцарская конная езда и берейторское обучение лошадей». Трудно представить себе что-либо более бесполезное для моряка, чем берейторское обучение, разве что «Наука о различных способах пускания мыльных пузырей», но мало ли несуразностей нес с собой век просвещения. И в Москве, и в Петербурге знали, что всесильный Бирон – страстный любитель лошадей. Знали также, что напрямую говорить об этом не надо, потому что страсть эта как бы наследная – Биронов дед был не граф, не маркиз, а конюх у герцога Курляндского. Но так хочется русскому чиновнику угодить, так сладко угадать скрытые желания фаворита, что, не ожидая прямого указания сверху, школьное начальство придумало новую дисциплину, определив на службу штык-юнкера Котова.
Скоро, однако, об этом и пожалели, и не только курсанты. Несмотря на то что Котов был невоздержан на язык, груб, крайне самонадеян и дремуче безграмотен во всем, что выходило за рамки рыцарской конной езды, ему удалось занять в Сухаревской школе куда более значительное положение, чем полагалось ему по скромной его должности. И не без основания! Ходили слухи, что еще тридцать лет назад был он назначен фискалом или «правдивым доносителем», как называли тогда добровольных помощников «активного контроля». Орган этот учредил Петр, «дабы обнаруживать грабителей народа и повредителей интересов государственных». Говорили, что не одну душу погубил штык-юнкер, что многих раздел до нитки, а поскольку сам он при этом оставался гол как сокол и не нашел на старости лет ничего более прибыльного, чем преподавание в заштатной школе, то выходило, что доносил и подличал он не из корысти, а из любви к делу. Это казалось совсем непонятным и мерзким.
Понимали также, что и во времена Анны Иоанновны он не оставил своего патриотического дела.
Носил Котов черный, застегнутый до горла камзол, лицо и парик содержал в отменной чистоте и только глазам, что с ними ни делай, не мог придать приличный вид. Покрытые сетью тончайших красных жилок, они казались мясистыми, как фрикадельки. Котов знал, что глаза его не красят, и часто во время назиданий прикрывал их темными морщинистыми веками.
Этот человек и был главным мучителем Алеши Корсака. Какая-то неуловимая черта в характере юноши вызывала в Котове неодолимое желание бить, ломать, переделывать.
Не то чтобы Корсак не боялся штык-юнкера – боялся, как все, и даже не фрондировал, как некоторые, не грубил. Алексей оскорбительно не замечал любителя конной езды. При всех экзекуциях рядом с распластанным телом Алексея неизменно торчал черный камзол и гнусавил голос: «Сие впрок пойдет». После каждой порки Корсак вставал, натягивал штаны и даже взглядом не удостаивал штык-юнкера, будто тот – пустое место.
От простодушия или недомыслия Алексей не признавал за Котовым права читать нотации, вмешиваться в личную жизнь и не понимал особой значимости его в школе. А непонимание есть бунт, и все грехи Корсака, вольные и невольные, стал штык-юнкер держать в уме.
Раздача стипендии не входила в обязанности Котова, но и тут он решил навести свой порядок. «Малое жалованье» (всего-то рубль в месяц!) платили всегда неисправно, вызывая полнейшую неразбериху – кто два раза получил, кто ни одного. Котов стал выдавать деньги по алфавиту. Когда курсанты от «А» до «К» получали положенное жалованье, неудачники от «Л» до «Я» довольствовались недоимками за прошлый месяц.
Денег регулярно не хватало, и Котов начал передвигать фамилии по своему разумению, отмечая неоплаченных красными и синими чернилами, кружочками и галочками.
Фамилия Корсак находилась как раз на стыке мысленно проведенной в списке черты, что помогло штык-юнкеру задолжать Алексею не за месяц, а за три. Котов потерял эту фамилию скорее не по прямому расчету, а повинуясь скрытому голосу души своей, но бесхитростный Корсак не понял этого и в присутствии курсантов обвинил штык-юнкера в злонамеренности этой ошибки. Котов смертельно обиделся и с бранью ударил ученика по лицу.
– Одно дело, когда бьют по мягким местам. Это и уставом предусмотрено, – говорили курсанты. – Но совсем другое дело пощечина. Да и дворянского ли он звания? Этого ему нельзя спускать!
– Ты обязан!.. – горячо говорил Белов.
– Ты просто не имеешь права… – вторили курсанты.
Никита Оленев ничего не говорил, но так сокрушенно качал головой, что Алексей первый раз в жизни почувствовал себя битым, словно и не пороли его каждую неделю.
Это и привело трех наших героев к вышеописанной сцене, которая круто повернула их жизнь, заставив стать участниками событий, может быть вовсе не уготовленных им судьбой.
3
В третьем ярусе Сухаревой башни размещался рапирный зал. Обучал курсантов шпажной игре полнощекий мосье с кошачьими усами и повадками мушкетера. Десять лет он растрачивал в Москве свое педагогическое уменье, но так и не привык к русскому характеру. Показываешь им блистательный бой, а они в окно смотрят на крыши, на огороды, на открытые взору дворы, а то ласточек хлебными крошками начнут кормить. Трудно работать в России! Он твердил курсантам, что шпага – суть дворянской доблести, панацея от всех бед. Ученики вполне усвоили положение руки «moyenne», «quarte» и прямой выпад с ударом, но воспитать в них задор и святую веру, что шпага поможет им выйти из любого трудного положения, так и не удалось азартному французу.
Шпага для курсантов как была, так и осталась принадлежностью модного туалета, данью куртуазности, но каждый знал: коли дойдет до важного дела, то лучшего оружия, чем кулак или дубина, не найти.
Белов был любимым учеником, и хоть мосье не признавался себе в этом, превзошел своего учителя в уменье фехтовать. Молодость, хорошая осанка и бесстрашие помогли ему в этом, а главное – не с морской стихией связывал Саша Белов свои честолюбивые мечты. Он хотел в гвардию, а именно в лейб-гвардию, в обязанности которой входила охрана царского дворца. Поэтому главный курс обучения видел Белов не в математике, не в изучении качества рангоута и такелажа, а здесь, в рапирном зале. Лейб-гвардеец должен отлично владеть благородным оружием!
В отличие от друга Корсак плохо фехтовал. В минуты горячности он забывал все приемы, ему было все равно, чем драться – шпагой или кочергой. В классе он все делал правильно, но не чувствовал настоящей злобы к противнику, фехтовал вяло, скучно, словно бубнил набивший оскомину урок.
Оленев тоже не любил шпагу. В его руках любое оружие выглядело нелепо. Он вообще не любил драться, и только нежелание выслушивать ругань Котова да постоянная угроза порки удерживали его от пропусков занятий в рапирном зале.
После уроков француза друзья часто собирались где-нибудь в уединенном месте, чтобы повторить фехтовальные приемы, а чаще просто поболтать о том о сем. Больше всего они любили маленькую лужайку на берегу Самотеки, защищенную от городского шума старым погостом и храмом Св. Адриана и Натальи.
Жарко… июль на исходе. Никита улегся в тени одинокого вяза, закрыл лицо платком и слегка похрапывает, Белов вертит шпагой, тренируя кисть, Алеша сидит поодаль, опустив ноги в воду, и швыряет камешки в стайки мальков.
– В августе распустят по домам, – раздается голос из-под платка. – Потом еще год…
– Угу… еще год. – Саша ловко срезает шпагой венчик ромашки. – Тоска…
Не вяжется сегодня беседа, настроение, видно, не то. А при хорошем настроении какие разговоры случались под старым вязом! Здесь мечтали и ругали учителей, здесь вольнодумствовали и насмешничали, зубрили науки и обсуждали достоинства и недостатки прекрасного пола, никого конкретно, а вообще… вот ведь загадочные существа! Но более всего спорили о долге и дворянской чести.
Роль ментора в этих спорах обычно доставалась Никите. Начинал он всегда своей любимой фразой: «Жители Афин говорили…»
– Тебя послушать, так умнее древних афинян нет никого!
– Вспомни Сенеку, – Никита умел быть невозмутимым, – оскорбление не достигает мудреца.
– Оскорбление словом, но не рукоприкладством, – горячился Саша. – А если мудрецу по роже съездят?
– Циник Крат, получив удар кулаком в лицо, повесил под кровоподтек табличку: «Это сделал Никондромас», и все афиняне сочувствовали ему и презирали обидчика.
– Если в России так отвечать на побои, то все бы оделись в дощечки. Со мной этого не будет! Я шпагой защищу свою честь! Жители Афин говорили, что честь у гражданина может отнять только государство.
– Угу… Напишет один гражданин на другого гражданина донос в Тайную канцелярию, и государство с готовностью отнимет не только честь твою, но и жизнь.
– Любишь ты, Сашка, Россию ругать!
– Отнюдь! Просто я понимаю, что с государством не повоюешь, а с гражданином можно, – как озорно умел Сашка блеснуть глазом, а потом продолжить то ли дурашливо, то ли серьезно, не сразу и поймешь. – Как говорит Соборное уложение государя нашего Алексей Михайловича от 1649 года…
– …в котором, как известно, девятьсот шестьдесят семь статей, – поддакивал Никита, – и из которых ничего нельзя понять…
– Но, но! Я говорю об уложении о чести и бесчестии…
Алеша обычно не вмешивался в эти споры, следуя мудрой пословице: «Audi, vide, sile» – слушай, смотри и молчи. Да и о чем спорить? Алеше казалось, что правы оба. Но однажды он не выдержал:
– Саш, что ты все о себе да о дворянской чести? Шпагой можно защитить слабого, например женщину!
С той поры друзья при всяком удобном случае подтрунивали над Алексеем, сочиняя образ некой обиженной дамы, чью жизнь будет защищать Алешка в далеких портах.
– Алешка! – крикнул Александр. – Хватит ногами болтать. Лучше становись в позицию. Будем отрабатывать фланконаду. Ты сегодня отвратительно дрался.
– Зато он хорошо дрался вчера, – разомлевшим голосом сказал Никита, – с Котовым… Ювелирная была битва. Но больше бряцать оружием не надо, это утомляет… Гардемарины, а где белая коза? Я к ней привык. Почему она не идет?
– Тьфу на вас! – обиженно сказал Алексей. – Как вы можете, право… Уже сутки прошли. Неужели замнут дело?
– Вряд ли, мой друг, – сказал Никита, обмахиваясь платком.
– Так чего тянут?
– Фискал рожу боится показать. Вот когда синяк чуть-чуть слиняет, он зенки-то свои красные почистит и пред глазами директора предстанет – так, мол, и так… А дальше колодки, Владимирка, Сибирь…
– Да ну тебя к черту. Голова идет кругом…
– Послушай, Алеша, когда мысли твои в смятении, – начал Александр патетическим тоном, – и голова идет кругом, возьми шпагу и разогрей мышцы. Это научит тебя презирать боль, очистит мозг от скверны и прибавит уменья в обращении с благородным оружием.
Саша встал, одернул камзол, легким щелчком поправил манжеты, хотя этого и не требовалось. Сашин костюм всегда в безукоризненном порядке.
– Ремесло гладиаторов, – проворчал Никита и опять лег, закинув за голову длинные руки.
Алексей, по опыту зная, что Саша не отвяжется, вынул ноги из воды и долго махал ими в воздухе, пытаясь сбить капли.
– Башмаки надень, поскользнешься…
– Да ну… – бросил Алеша, разыскивая под лопухами шпагу.
В его больших, серых у зрачка и ярко-синих по ободку, глазах тоска: «Кой черт Сашке надо, чтобы я фехтовал? Почему я перед ним робею? И вообще иду у них на поводу… Оскорбление не достигает мудреца… И вот я как циник Крат… И Никита уже не советует повесить мне на щеку табличку! И еще зубоскалят: колодки, Сибирь!..»
– Начнем! Ты усвоил одни парады: кварту и квинту, а нужно еще уметь рипост и контррипост…
Алексей стал в позицию и сделал выпад.
– Не так, не так, – тут же закричал Саша. – Нет в тебе настоящей злости. Шпагу держишь ватно! В бою главное крепкая, подвижная кисть. Слушай… Гамбург, а хочешь, Венеция… Ночь… Твой фрегат у причала, и ты пошел в таверну выпить стаканчик рома, а хочешь пива… Та-ак! Теперь дегаже – выводи мою рапиру из линии прямого удара. Укол! Не западай кистью! Экий ты неловкий… Смотри на меня! Я не друг твой Александр Белов, а пьяный шкипер у таверны и обижаю даму. Видишь, она плачет? «Ух ты, мерзавец!» – кричишь ты. Дегаже, укол! «Какого такого дьявола, сэр, какого черта, разрази вас гром!» – или как там ругаются пьяные шкипера? Так, хорошо… Умница, тебя главное разозлить!
Потные фехтовальщики повалились на траву. Никита приоткрыл глаз.
– А если так… Ночь, Петербург, фрегат, кабак… И где-то на его задворках пьяный мужик таскает за косу свою дочь. «Вы что это делаете, сэр?» – кричит наш горячий друг и выхватывает шпагу. Мужик повалится в ноги, а потом за это заступничество уж с дочкой посчитается…
– Любишь ты, Никита, Россию ругать, – крикнул Александр и навалился на разморенного приятеля.
Короткая схватка, и вот уже Белов лежит внизу, а Никита, скрутив ему руки, нравоучает:
– Главное, предугадать движение противника. «Сила отражается силой» – так говорили древние. Дегаже. Удар!
– Оленев, Белов, прекратите! Как вы можете? Вот дураки – Никита, оглянись, вон твоя коза пришла. Князь, тебя коза ищет!
Из-за кустов действительно появились сначала рога, потом аккуратная жующая мордочка.
– Где-то у меня был хлеб. – Никита сунул руку в карман.
Александр сбросил с себя тяжелое тело и, привалившись к вязу, начал приводить себя в порядок.
– В субботу спектакль, – как бы про себя сказал Алеша.
– На спектакль отпустят, – отозвался Никита участливо. – И потом, нас еще не посадили.
– Вас посадят и выпустят, а меня и впрямь могут в солдаты списать. В прошлом году, когда Чичигов Василий уезжал в Кронштадт, уговорились мы, что через год-два приду под его начало. Вслед за Берингом мечтали пойти. А теперь…
– И что говорят по этому поводу жители Афин? – усмехнулся Саша.
– Жители Афин, а также государь Алексей Михайлович в своем уложении говорят, – Никита усмехнулся, – мол, береги честь смолоду…
– Как платье снову, – тут же отозвался Саша.
– Опять вы за свое… Честь! Знать бы, что это такое!
– Я думаю… – В лице Никиты вдруг появилось задумчивое, даже растерянное слегка выражение. Алеша знал это грустное выражение и особенно любил друга в эти минуты. – Честь – это твое достоинство, как ты сам его понимаешь. И если ты видишь неуважение достоинства твоей личности, – голос Никиты зазвенел, – то это надобно пресечь! Потому что… жизнь наша принадлежит отечеству, но честь – никому.
Саша посмотрел на Никиту восторженно.
– А неплохо сказано, а? Жизнь – Родине, честь – никому! И отныне – это наш девиз.
Алеша вздохнул и стал надевать башмаки.
4
Утешая друга, мол, «на спектакль отпустят», Никита не догадывался, что даже гауптвахты Алексей боялся меньше, чем субботнего представления. Стать артистом его заставили бедность и страх.
Как уже упоминалось, стипендия курсантов составляла рубль в месяц. На эти деньги каждый должен был обеспечить себе мундир, квартиру и стол, а так как большинству учеников из дома присылали очень мало или ничего, то, чтоб не умереть с голоду, морские питомцы прирабатывали на стороне кто как мог.
Белов репетиторствовал сына богатой вдовы. Впрочем, жизнь его протекала в сфере, недоступной пониманию курсантов. Он имел связи, ходил франтом, при этом был скрытен, а в разговоре умел напустить такого туману, так значительно намекнуть на свою принадлежность к высшим кругам, что никто не удивился бы, узнав, что вдова выдумана им для отвода глаз, для объяснения внезапных исчезновений и водившихся в карманах денег.
Княжеский отпрыск Никита Оленев попал в навигацкую школу из-за каких-то семейных неурядиц, но подмогу из дома получал регулярно, и немалую, чем и выручал друзей в трудных ситуациях.
Алексею судьба уготовила приработок самый ненадежный и экзотический. Он играл в театре, труппа которого состояла из курсантов артиллерийской школы и семинаристов Славяно-греко-латинской академии.
В театр Алексей попал случайно. Один из самодеятельных актеров квартировал по соседству и уговорил Алешу пойти на представление. В антракте, шутки ради, Алексей примерил женское платье, и надо же тому случиться, чтобы в этом наряде его увидела попечительница театра, женщина чрезвычайно влиятельная и активная. «Где вы нашли такую красотку?» – восторженно спросила попечительница. «Это, ваше сиятельство, не красотка, а красавец», – проворчал суфлер. Последнее замечание ничуть не смутило попечительницу. В театре все женские роли играли мужчины. «Ты будешь играть у нас Калерию», – сказала важная дама. Алексей отказывался изо всех сил. Он-де, бесталанен, застенчив, но ничего не помогло.
Через неделю после роковой примерки его вызвали в дирекцию навигацкой школы и намекнули, что если он откажется играть в театре, то, невелика птица, может и вылететь из родных Сухаревых стен в ближайшие же сутки. «На тебя, дурака, такая дама внимание обратила, а ты нос воротишь!» – дружелюбно проворчал директор на прощанье. И Алексей смирился.
Благодетельница не обделила его своим вниманием. После каждого спектакля он получал от нее деньги и богатые подарки: кружева, кольца. Однажды она расщедрилась даже на часы, всунув их в кармашек камзола, и запечатлела на Алешкином лбу горячий, как клеймо, поцелуй. На каждое представление он должен был непременно надевать все презенты, чем вызывал завистливые и злые насмешки актеров.
Алексей ненавидел театр. Он так и не привык к сцене, боялся зрителей, но более всего его пугала предстоящая расплата с благодетельницей. Она повадилась сама облачать Алексея перед спектаклем в пышные юбки, сама накладывала грим на его румяные, без признаков растительности щеки.
Не нуждающийся в бритве подбородок и естественная мушка на правой щеке, особенно умилявшая благодетельницу, вызывали в душе юноши жестокую обиду на природу. Не торчала бы эта дурацкая родинка – и брейся он, как все, и не носил бы тогда опостылевших юбок, не ждал с ужасом, как в один прекрасный день швырнут его на подушки кареты и умчат на расправу, как называл он мысленно услады любви с сорокалетней «прелестницей».
В этот век фаворитизма, который, как репей, пышным цветом расцветал и на хорошо унавоженной почве царского двора, и на тощих землях московских задворков, ходить в любовниках богатых дам, старших тебя вдвое, не только не считалось зазорным, но мнилось подарком судьбы, крупной удачей, с помощью которой можно было делать карьеру и устраивать денежные дела.
Всю весну благодетельница жила при дворе в Петербурге, и Алексей получил четыре месяца передышки. И вот приехала…
Алексей был призван в дом и принят чрезвычайно милостиво.
– Приеду на спектакль. Чем порадуешь, голубь мой? Вырос, возмужал… Пора тебе переходить на мужские роли! А?
Нарумяненное, чуть рябое лицо светилось благодушием, но что-то новое появилось в его выражении. Видно, Алексей действительно вошел в сок. Раньше она не улыбалась так плотоядно, не говорила про амурные услады. Алексей покрывался испариной от каждого смелого намека.
На прощанье она погладила его родинку и чуть ли не силой всунула в руку кошелек.
– Не смущайся, друг мой… Такие мушки называются «роковая тайна». За такие мушки деревни дарят…
В полном смятении после визита он бросился к Никите.
– Хочешь есть? – встретил Оленев друга. – Гаврила отличное жаркое из трактира принес и щи.
– Щи? Нет. Скажи, Никита, что такое любовь?
– Слиянье душ, – тут же отозвался Никита, словно давно приготовил ответ.
– А если?.. – Алексей вспыхнул и умолк.
– Тогда слиянье тел, – быстро уточнил Никита.
– А если я не хочу!
– Что значит – не хочу? Любовь это как… жизнь. Я думал об этом. Любовь – это такая штука, которую можно как угодно обозвать, с любым прилагательным соединить, любым наречием усилить. Скажи какое-нибудь слово.
– Дождь, – бросил Алеша безразлично.
– Освежает, как дождь, – любовь!
– Дерево…
– Подобно корням его, оплетает душу, подобно кроне его, дает тень измученной душе.
– Сапоги, – приободрился Алеша.
– Если жизнь – пустыня, то любовь – сапоги, которые уберегут тебя от ожогов горячего песка.
– А если жизнь не пустыня, а просто… земля?
– Кому пустыня, кому оазис – это как повезет. Но как Ахиллес от матери-земли Геи черпает силу, так и возлюбленный…
– Тебя не собьешь, – перебил Алексей друга, ему уже надоела эта игра. – Ладно – Котов. Любовь и Котов. Как их вместе соединить?
– Подл, как Котов, глуп, как Котов.
– Вот, вот, подла и глупа любовь!
– Это когда тебя не любят, – согласился Никита.
– Нет, когда любят. – Алексей насупился.
– Omnia vincit amor![2] – пылко воскликнул Никита.
– Ради бога, не надо латыни. Давай лучше щей.
Алеша жевал, смотрел на Никиту – милый друг, он всегда готов помочь – и видел перед собой безрадостную картину. Он, Алексей Корсак, стоит в пустыне без сапог, идет дождь, но не освежает, душа его сморщилась, как кора дуба, и хочется выть: «Пронеси, Господи!»
5
Пятница не принесла изменений в судьбе Корсака – его не арестовывали, не стращали розгами, не объявляли начальственной воли. Утром в классы, как сквозняк, проник передаваемый шепотом слушок: «Заговор… в северной столице… против государыни…»
Какое дело навигацкой школе, такой далекой от дел двора, до каких-то тайных соглашений и действий в далеком Петербурге? Курсантам ли страшиться заговора? Но ежатся сердца от предчувствия близких казней, пыток, ссылок, и если не тебя злая судьба дернет за вихры, то ведь и ты недалек от беды – кого-то знал, с кем-то говорил, о чем-то не так, как следовало, думал…
Мало ли голов полетело с плеч в светлое царствование Анны Иоанновны, и хоть доподлинно известно, что ныне здравствующая государыня Елизавета перед иконой дала обет смертную казнь упразднить, кто знает цену этим обетам и кто рассудит, если обет будет нарушен?
Вскрыл гнойник заговора Арман де Лесток, лейб-хирург и доверенное лицо государыни Елизаветы.
Прежде чем перейти к сути заговора, необходимо вернуться назад и подробно рассмотреть весьма любопытную фигуру придворного интригана – Иоганна Германа Армана де Лестока. Он появился в Петербурге около тридцати лет назад в числе нескольких лекарей-иностранцев, вызванных Петром для службы в России. Искусству врачевания он выучился у отца, который, впрочем, считался более цирюльником, чем лекарем. Продолжил свое образование Лесток во французской армии и вынес из этого «университета» твердое убеждение, что лучшего средства против любой болезни, чем кровопускание, найти невозможно.
В Петербурге он сполна использовал свой опыт – пускал кровь и при насморке, и при подагре, и при вздутии живота, и делал это так искусно, что вскоре стал называться не просто лекарем, а хирургом. Получить приставку «лейб», то есть «состоящий при особе монарха», ему помогли деятельный и веселый нрав, любовь к блеску и приключениям. Лесток настолько прижился при русском дворе, что стал своим человеком в доме Петра.