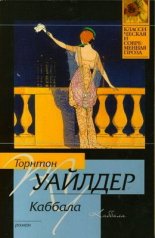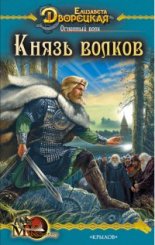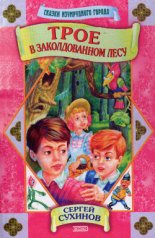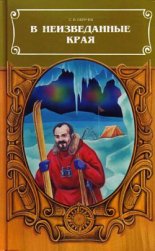Один и одна Маканин Владимир
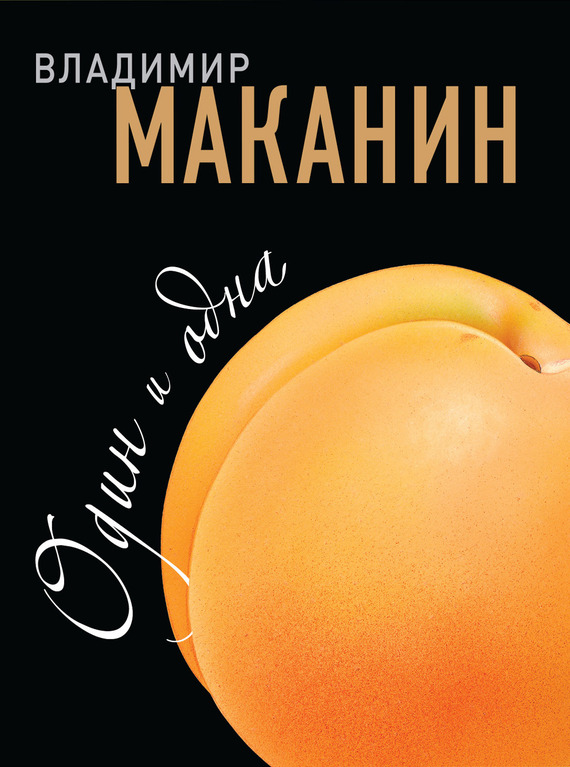
И, если упрощать, мог быть рассказ-детектив, где два умных наших разведчика в поисках друг друга бродят день за днем по чужой территории.
Или, скажем, шпион и шпион-связной — оба они в долгом, хитросплетенном сюжете уже и не день за днем, а год за годом ездят по чужим городам в поисках условленной встречи. Тягость предчувствий необязательна. Минуя провалы (утонченные западни контрразведки), они вновь и вновь переезжают, отбиваются, стреляют, продираясь сквозь ночь, жесткие ночлеги, скверное питание, а также — что подчас опаснее — через мирную манящую жизнь с ее чаем и добрым разговором поутру. Но вот наконец финал, когда он и его связной все-таки встречаются и протягивают друг другу парольные две половинки одной и той же серебряной стерлядки, а те не сходятся. Две половинки одной и той же опознавательной вещицы почему-то на изломе не сходятся — не совпадают, и, стало быть, контакта нет. Оба (от неожиданности тем более) отталкиваются, втайне пугаются друг друга — враг врага? — и на всякий случай спешно расходятся. Каждый вновь и, быть может, навсегда прячет свою полурыбку в потаенный карман, где от времени она, вероятно, и стерлась, так как в кармане иногда были ключи, и металлические деньги, и брелок из никеля. Линия излома у них не сошлась. Почему? — а вот просто так не сошлась она, не совпала. А вот так.
Можно, конечно, представить, как век ее выводка кончился, и время опустело, и как остались лишь узнаваемые интерьеры. Из квартиры в квартиру и из комнаты в комнату — паласы и ковровые дорожки на полу. Люстры под старину. Торшеры. Ковры узбекские. Ковры бухарские. Сервизы. Гжель. Календари на стенах (с временами года и с морскими заливами на восходе солнца). Акварели с разнотравьем и копнами сена. Диваны. Уютные или неуютные, но красивые кресла. Потолки в комнатах низкие. Потолки высокие. Мерцающий кафель в ванных комнатах. В одной ванной комнате вода течет тонкой струйкой, не вполне закрыли и ушли.
Из всех загробных сюжетов самый пронзительный — сюжет неузнавания там.
Душе умершей наконец рядом с тобой — но она ли? Сложить свои рыбки, но ведь могут они не сойтись, хотя ни злые обстоятельства, ни люди теперь не мешают, хотя вокруг теперь все условия: белые кучерявые облака, райские кущи! И музыка: поют ангелы. Быть может, и вовсе утерял, утратил, и вот теперь (в раю!) она ждет, а он только то и делает, что роется в карманах, ищет свою полустерлядку, как ищут скомкавшийся автобусный билет. Год ищет. Век ищет. Два века ищет. Там времени много. Он стоит там среди белых облаков и ищет, уже уставший, обмякший, и только руки все снуют из кармана в карман. Из брюк в пиджак. В грудные карманы. В нагрудные, во внутренние. Но найти он не может. Неузнавание. Она векам принадлежала. Апостол небесных ворот.
Глава третья
Аня сказала: если твоему Голощекову несильно за пятьдесят и если, мол, он и правда такой неплохой человек, как ты нахваливаешь, давай познакомим его с моей подругой Ольгой. Я ответил машинально — давай. (Существуют, вероятно, некие ступеньки, вехи биологической зрелости, по которым, или, вернее, через которые шагает всякая семья, в частности через попытку кого-то на ком-то женить.)
Аня и я — порознь — сговорились со своими протеже, на день и час, а затем приготовили достаточно выпивки и не самой заурядной еды, а также продумали, как водится, дополнительные оттенки, вроде желания посмотреть цветные слайды, ежели беседа не пойдет. Затем ждали. Затем вдруг оба заволновались, во всяком случае, заволновалась Аня, потому что стол был уже накрыт, а ее Ольга, как выяснилось, к нам не придет. Почему?... А потому. Аня еще и еще уговаривала по телефону: они шептались, что-то выясняли, просили друг у друга прощения, ссорились, поплакали вместе, и все равно та отказалась. Сработала застенчивость одинокой женщины, известное неумение себя пересилить. (Дело житейское и понятное, но в ту первую минуту я назвал это непорядочностью и даже кричал, вспыливший, что в конце концов какое счастье, что своему, можно сказать, чтимому старшему товарищу я не подсунул это убожество, которое сходит с рельсов только оттого, что рядом с ней посадят поужинать человека в брюках.) Но вот сколько-то покричав и понервничав, отойдя на расстояние от никак не помогшего нам телефона, мы с женой сели за приготовленный красивый стол и молча посмотрели друг на друга: что делать?
Ведь Геннадий Павлович, которого долгими и изысканными словесными приготовлениями я насилу выманил на эту встречу из дома, судя по времени, шел уже к метро, чтобы ехать к нам. «Хороший же человек — что мы теперь ему скажем?» — повторял я Ане, повторял самому себе и мало-помалу пришел к мысли о замене.
Я подумал о Нине почти сразу, но колебался — во-первых, Нинель Николаевна не очень контактна, а при случае сурова, жестка и может высмеять нас, и нашу затею, и заодно неповинного Геннадия Павловича; во-вторых, она совсем на чуть постарше меня, может обидеться (хотел подтасовать жизнь); я никогда никуда ее не звал и даже не представлял, как и какими словами стану ее, горделивую, уговаривать. Правда, и Геннадия Павловича я никогда никуда не звал, а ведь он согласился, что придало мне вдруг смелости.
И тогда я позвонил, Я пригласил. Я сказал, что с нами поужинает некий мой старший приятель, весьма интеллигентный человек. И она только переспросила его имя. И согласилась.
И пришла.
Разговор был самый общий, неловкости не возникло, а после ужина мы чуть ли не как старые, добрые друзья отправились вместе в другую комнату смотреть слайды; взрослые люди, и почему бы нам не восхищаться живописью Испании XVII и XVIII веков. Мы все, вероятно, очень старались. За кофе Геннадий Павлович говорил замечательно, но я уже почувствовал, что он несколько трусит: вечер кончался. Однако и тут, не оставляя их сразу за порогом дома с глазу на глаз, Аня и я пошли проводить до самого «Парка культуры» — погода стояла чудесная. Когда вполне надышавшиеся воздухом, мы вчетвером вошли в метро, выяснилось, что Геннадию Павловичу в одну сторону, а Нине в другую. «До свидания. Спасибо за вечер», — Нинель Николаевна, строгая и одновременно суховато благодарная, пошла к своему поезду, а Аня, чья интуиция сработала скорее моей, стала шептать упустившему момент Геннадию Павловичу — проводите, мол, проводите Нину, как же иначе! «Быть может, ей вовсе этого не хочется», — выдавил из себя Геннадий Павлович, робея, что ли (или не желая), играть столь уже обязывающую и понятную роль, в то время как Аня ему на ухо жарко шептала: «Хочется, хочется, ей хочется!» — и вдруг подтолкнула его в спину, несильно, но достаточно подтолкнула, нарушив равновесие его неопределенного покоя. И он пошел. Нинель Николаевна вошла в эту минуту в вагон метропоезда. Но вагон еще не закрыл двери. И можно было бы вбежать, если поторопиться. Геннадий Павлович, однако, шел медленно: он, кажется, собрался изобразить, что он-де хотел, он-де, может быть, очень хотел, но чуть-чуть не успел. Он шел достаточно медленно, но и двери вагона не закрывались. С метро-поездом случилась какая-то заминка, и Геннадий Павлович приближался. Нет, нет, двери не закрылись перед самым его носом — он вошел в вагон, и вот тут они сразу шумно закрылись, именно в ту секунду, словно его и ждали, к тому же отрезав, исключив всякий путь назад. «Не судьба ли?» — шепнула мне Аня, вдруг прижавшись.
Иронизируя над несколько вялым кавалером, Нинель Николаевна, когда подошли к дому, процитировала ему стихи о провожающем, а Геннадий Павлович, знаток, возразил или же искаженный ею стих поправил. Так что зацепка возникла сама собой, Нинель Николаевна настаивала: у нее, мол, нет ни горы книг, ни замечательных собраний сочинений, но какие-то томики есть, среди них автор, о котором спор. Чтобы выяснить, Геннадий Павлович поднялся к ней на этаж и засиделся там до утра (в прямом смысле слова — сел и сидел в кресле до солнца). Какая-то строчка Евтушенко или Окуджавы, пришедшая опять же по поводу, вдруг словно бы уколола, ужалила, и вмиг они заговорили о событиях и людях их молодости, их бурного студенческого бытия, а вечерний, главный их сюжет — сюжет знакомства мужчины и женщины, так или иначе клонящий к близости и к постели, стал ненужен. Огромной волной их отшвырнуло в юность. Нинель особенно хорошо читала Вознесенского, Геннадий Павлович предпочитал прославленную гражданскую лирику Евтушенко, оба, впрочем, знали и то, и то, а с взаимной подсказки и поддержки, как вдруг выяснилось, они знали не просто много стихов — бесконечно много. В стихах удержались те дни — их дни, отдельные из которых уже срослись столько же со стихами, сколько и с человеческими судьбами, перейдя в особое сверкающее качество — в качество легенды; текла река времени.
Какое там знакомство и какая постель, когда они чуть ли не оказались в родстве — они именно что забыли, с чем шли сюда, забыли, что мужчина и женщина и что не новички же в вечерних делах. Как старики впадают в детство, они впали в юность, и, совсем как юные, точнее, как юные люди своего времени, они не поторопились в первую ночь с объятиями, но взахлеб говорили и говорили, пока за окнами не стала заря.
И самое чуть что-то не сошлось.
Они оба примолкли: оба как бы приостановились на некоей черте, ожидая уже не раскрытия души, но сверхдоверия или иного, неявного знака приобщенности к тем дням, однако чуть так и продолжало оставаться меж ними. Они вдруг не захотели делиться личным дальше. Они промедлили.
А следом уже вторглась реальность: Геннадий Павлович поднялся с кресла, выпил холодной воды, после чего как-то сразу оказалось, что они оба — проболтавшие ночь напролет взрослые люди, что это смешно, несолидно. Они тут же и обменялись колкостями по какой-то пустячной причине, не всерьез, а именно из пустяка, а, в сущности, оттого, что при свете раннего утра оказались лицом к лицу двое чужих. Мужчина и женщина — немолодые и от бессонной ночи пожухшие.
Нинель Николаевна провожала, едва сдерживая недовольство. Сникшие, они на лестничной клетке все же спохватились, вежливо и отчасти церемонно повторяли — до свидания, познакомиться было интересно! до свидания! — но чужой голос уже царапал слух, раздражал; оба торопились замкнуться на себя, уйти он — она остаться.
К тому же они испугались быть смешными. И каждый — опасливо — постарался приуменьшить, принизить само свидание, занизив впечатление друг от друга: во всяком случае, когда с утра я позвонил, чтобы узнать, как добрались званые гости домой, каждый из них рассказал как попроще. (Смущение души.) Тогда я сути не понял. Геннадий Павлович рассказал, что после ночного бдения у Нины он явился на работу с совершенно разламывающейся головой. «Мне никогда не было так плохо, — он ворчал (посмеивался над собой и над вчерашним свиданием длиной в ночь), — в обеденный перерыв, Игорь, я впервые в жизни уснул сидя. Сонный я упал. И когда сослуживцы меня подняли, я все еще был в легком обмороке». Ворчал он на невыносимую скуку той ночи и на утомительную женщину, которая все цеплялась к словам, а чаю не предложила, ни даже водки; ворчал, ни словом, однако, не обмолвившись об их обоюдном многочасовом прорыве в прекрасную юность. Характерно, что в первом, свежем пересказе Нинель Николаевна тоже промолчала о помянутых стихах и людях прошлого, со своей стороны также оставшись не слишком довольной Геннадием Павловичем, который, «кажется, очень много о себе понимает», который «вошел в дом и — представь себе! — не снял даже плащ, так и просидел до утра в плаще в кресле. Я ему предлагала кофе, предлагала к столу пересесть — он только важничал. Очень странный!..»
Тем не менее они вновь увиделись — уже по собственной инициативе. Как бы вспомнив, что они взрослые люди, и несколько устыдившись того юношеского говорливого вспыха (быть может, втайне желая растопить, расплавить то самое чуть), на этот раз они встретились вполне солидно, вдвоем поужинали, привычно поговорили о работе, поделились соображениями о женско-мужском одиночестве, и, как я понял после, оба рискнули; в тот вечер дошло до близости.
Кажется, они встретились еще однажды или дважды.
А затем разошлись, и на этот раз окончательно. Не было никакой драмы. Ни ссоры. Случилось самое простое и самое худшее: они так и не узнали друг друга.
Уверенные, что их роман как-никак развивается, мы с Аней ставили себе это в заслугу. Иногда среди ночи мы тихими голосами обсуждали то, как мы их друг другу преподнесли, как ловко и умно обставили первую встречу и вообще как удачно они подходят: оба порядочны и с этакой благородной непрактической начинкой; оба симпатичны, одиноки; он чуток, а она как раз жаждет чуткости — в их случае важнее, мол, совпадение, а не пресловутый диссонанс. Крепя их мыслью, мы заодно же, как водится, крепили свою семью. Особенно радела за них Аня; она, кажется, полагала, что такие разговоры являются прекрасной семейной терапией, мало-помалу исцеляющей меня от иногда случающихся побегов из дому.
— Давай, Игорь, куда-нибудь выберемся вместе с ними — на природу! или в театр?!
Аня настаивала:
— А то пригласи их к нам еще — им побыть в семье полезно. И на природе им вместе побыть полезно.
Самая молодая из нас, она нас учила.
Нинель Николаевна объяснила просто: он ей неинтересен.
Геннадий Павлович сказал о ней примерно в тех же словах, но кое-что добавил, передав содержание их ссоры, что случилась вечером у Геннадия Павловича дома. Геннадий Павлович готовил закуску и чай — а говорили они с Нинелью Николаевной вновь о былой юности. (Разве он не рассказывал?.. Первый раз они говорили о былом еще в ту ночь, когда он провожал ее домой и сидел до утра в ее кресле, теперь был второй раз — неудачный. В этот вечер все слова казались неудачными. Вероятно — признак, знак расхождения, когда каждый, отторгаясь, уже сам по себе.) Да, о юности. Из юности им обоим вспомнился именно случай с Чичиусовым, был такой говорун, что даже Геннадия Голощекова перехлестывал, — ты его, Игорь, уже не застал: ты не помнишь. О Чичиусове в студенческой среде тогда много спорили, он больше других хотел и призывал выступить против одной подлянки, горячо, жарко говорил, сам рвался в бой, а когда подлянка все-таки случилась и дошло до дела, сказался больным. «Но, может быть, он и правда заболел? — почему-то вдруг предположил Геннадий Павлович. — Болеют же люди!» — после чего Нинель Николаевна яростно, совсем как в былые дни, напала — сначала на полузабытого Чичиусова, затем на Геннадия Павловича. Вот и все.
Геннадий Павлович пояснил мне, что курьез в том, что в те времена, когда о поступке или, правильнее, о непоступке Чичиусова много и яростно спорили, он, Геннадий Голощеков, был из самых к нему суровых, из непримиримых. И осуждал его. Так что былаопределенная исчерпанность ситуации в том, что Геннадий Павлович не от всепрощающего влияния времени, а именно нечаянно, нечаянно и даже улыбнувшись сказал вдруг о возможной болезни Чичиусова, после чего Нинель Николаевна набросилась гневно, страстно, никак не желая и сейчас верить в болезнь и тем самым прощать или щадить труса. Вот и все. Геннадий Павлович стал объясняться, оправдываться, и за разговором как-то не сразу пошел он на кухню за чайником — чайник, и правда, сильно выкипел, но, ей-богу, половина емкости еще была, и заварить чай в заварочнике этим кипятком было можно. Но леди сказала — нет. Гневная леди вдруг возгордилась. Когда Геннадий Павлович принес чайник с кухни и попросил: завари, мол, Нина, пожалуйста, она ответила, что заваривать чай каплей воды не станет, пусть чайник будет полным и что это за забывчивость, что за склероз в пятьдесят с лишним лет. Так и сказала, хотя почему, собственно, чай, заваренный из половины чайника, хуже или горше, чем заваренный из полного. Да, да, вероятно, она метила в ту забывчивость и в ту память, прощающую подлецов. Она еще раз холодно повторила, что в пятьдесят, мол, с лишним лет еще рановато забывать на огне чайник. После чего они и разошлись. Нет, нет, он поставил, разумеется, заново на огонь чайник, они перекусили и пили молча чай. И тихо, корректно расстались. (Когда я сообщил Ане, что наши крестники разошлись, она заплакала Затем Аню залихорадило:
— Езжай к ней, езжай к ней немедленно — в первые дни помирить нетрудно, пока еще не остыло.
Я поехал.
Возможно, Ане казалось, что избавить их от одиночества теперь уже наш долг, обязанность и как бы нравственная гарантия, что нам тоже в свой час кто-то поможет.)
Я спросил Нинель Николаевну, поехав к ней в тот же день, — неужели все дело и вся ссора в том, что Геннадий Павлович, мой старший приятель и чтимый человек, пожалел отступника Чичиусова? — а Нинель Николаевна поправила меня: Чимиусова... Да, они говорили о разном, но вдруг речь зашла о нем — о Чимиусове, о его крайне непорядочной, трусливой выходке на том давнем памятном обсуждении. Не стану я тебе, Игорь, объяснять, что и как тогда обсуждалось (если сам не помнишь — значит, и дело покажется далеким, никакие объяснения не прозвучат). Да, двадцать пять лет назад, даже больше, а что? разве за истечением лет подлость перестает быть подлостью?.. И потому, когда твой милейший и весьма интеллектуальный Геннадий Павлович стал его, Чимиусова, пусть даже косвенно оправдывать, я ему прямо процитировала выражение нашей молодости, что интеллект и конформизм — две вещи несовместные, Сальери!.. Вот, собственно, и все.
— Как все?
Она пожала плечами — разве этого мало?
— Но ведь Геннадий Павлович не Чимиусов. Он как раз противоположность ему. Кстати сказать, вы с Геннадием Павловичем учились в разных вузах и в разное время — откуда вы оба этого мифологического человека знали?
— В наше время, Игорь, люди общались.
— Но вы даже его фамилию плохо помните. Геннадий Павлович явно произносил — Чичиусов...
На что Нинель Николаевна совершенно спокойно заметила, что ни буква, ни даже вся фамилия не имеют определяющего значения: это повод. В сущности, это лишь маленькая зарубка, отметка, чуткая и небольшая отметина, однако достаточно означившая, что их юность была разной. Это причина и не причина. (А если учесть, что в тот их вечер Геннадий Павлович именно что случайно и беседы ради предположил, а не болен ли был и впрямь проклятый Чичиусов-Чимиусов, то он и она тем заметнее казались похожими на неузнавших друг друга. Скол не пришелся на скол.) Да, сказала Нинель Николаевна, я ведь, Игорь, не спорю — он вполне порядочный, вполне интеллигентный человек. Он очень мило вел себя, когда я вспылила. Он очень сдержанно, корректно отправился на кухню, заварил чай: очень был заботлив. Мы выпили с ним чай. Мы помолчали. И расстались.
Мог быть рассказ о том, как некая семья — я и Аня? — затеяли сводить некую пару. Стараясь изо всех сил, они эту женщину и этого мужчину сводят, уговаривают, зазывают вместе в гости, вывозят на природу и, наконец, налаживают их совместную жизнь, зато своя семейная жизнь от израсходованных, что ли, сил и нервов начинает с той самой поры мало-помалу катиться под уклон и в конце концов рушится.
И теперь уже эти двое — то я, то Аня — приходят раз в полгода во вновь возникшую крепкую семью просто посидеть, поговорить; порознь, конечно, приходят. Скажем, я прихожу иногда вечером к Геннадию Павловичу и Нинел и Николаевне, и они наливают мне стопку водки, кофе, дают советы. Погреться у чужого огонька, разве плохо?
Мы не уговорили их выехать на природу, но уговорили поехать с нами вместе на ВДНХ поесть шашлыков, и тотчас Аня придумала себе какую-то особую за их одинокие судьбы ответственность, занервничала, заволновалась, что передалось и мне; наконец двинулись — и, помню, нам обоим все казалось, что машина едет по проспекту слишком медленно, не едет — ползет. «Шашлыка хочу! И вина хочу поскорее!» — восклицала Аня. И я, должно быть, ненатурально ей вторил: «Ах, шашлычка бы! ах, горяченького!»
А те двое молчали. И таксист молчал.
По правой стороне выставки в тот час в одном из павильонов томились и мычали в голос коровы — они были раздуты молоком. (Ждали своих телят либо дойки.) Мы подошли ближе. Их почему-то не спешили доить. Но в одну клеть теленок уже проник, сосал, зрители вокруг шумно его поощряли, и Аня с ними вместе тоже восторженно вскрикивала, что не видела сосущего вымя теленка ровно сто лет... Я, как мне казалось, был в разговоре более тонок. Впереди стояли кони, лошади — их гривы издали сливались, и для Нинели Николаевны, любительницы юга и моря, я вслух сравнивал полосицу грив с полосой морского прибоя, когда отдельные белые гривы, редкие среди множества вороных, вкрапливали свой белый цвет и как бы образовывали накат вспененной волны. Не хватало звука. Это верно — не хватало лишь шума волны и (под волной) скрежета гравия, но их, возможно, мог заменить шорох многих сотен шагов, так как люди рядом с нами, а также впереди, сзади, сбоку шли и шаркали по асфальту, — так говорил я, лепил образ, очень стараясь, а Нинель Николаевна вежливо кивала: да, да, пожалуй, похоже. Геннадий Павлович и вовсе молчал. Им было скучно с нами.
Но мы старались, мы очень для и ради них старались.
— Ну, а быки? — говорил я. — Каковы красавцы!
— Идемте же к шашлыкам, — тянула вперед Аня, нервничая и считая, что я становлюсь однообразен.
— Погоди, а быки?..
Я уже эстетствовал: я обращал внимание, что быки со своим гиперсексуальным величием даже не смотрят на железного быка, который на постаменте. Скульптура проигрывала! Железный был, конечно, поярче игрой своих металлических мышц, побогаче своей товарной нарисованностью, однако живые быки были живые. (С раскорякой ног. С тупым чудовищным взглядом, в котором уже не существовало похоти, а только могучее несдерживаемое желание, как желание лететь и крушить у пары железных ядер, когда ядра в стволе и запал поднесен.)
— Идемте к шашлыкам. Есть хочу! — тянула, торопила нас Аня, вероятно, опасаясь, что Нинель Николаевна и Геннадий Павлович, сдержанные и суховатые, почувствуют себя чужими в этой шаркающей по асфальту толпе.
Мы перешли к южным павильонам.
Все четверо невольно прибавили ходу и подошли, наконец, к шашлыкам на свежем воздухе. Запах дурманил. Мы глотали слюну. Фрукты не продавались сегодня, однако мясо на прокопченных гнущихся шампурах было замечательное, нежное, пахучее, чуть обработанное уксусом и луком (и вино оказалось рядом, в розлив, притом двух хороших сортов). А когда мы вчетвером разместились за столиком под витриной, точнее, в самой глубине огромной витрины, среди там и тут свешивающихся за стеклом ярких, красно-желтых плодов, изобилие уже настолько нас окружило, что казалось, мы в стареньком и давным-давно обещанном нам раю.
Кстати же в репродукторе прогремело:
— Атом для мира! — И грянула музыка Шостаковича.
Толпа ликовала, ела, пила, вскрикивала. Дети были с цветными шарами.
Геннадий Павлович и Нинель Николаевна не произнесли, кажется, ни слова, подавленные огромной людской массой и этой для них, домоседов, невиданной обжираловкой на воздухе. Всюду люди — и всюду жующие рты. Мы именно жрали шашлыки, мы их повторили, а затем запили вином, а затем опять жрали. Бумажные тарелки из-под шашлыков бросали уже не в урну, она была переполнена, а в бак, но и бак, что в двадцати шагах, был весь набит этими бумажными тарелками, а вокруг снова и снова горело мясо, стелился духовитый дым, шумно хватали и несли шашлыки, пили, ели, деньги никто не считал, и возбуждение уже охватило — было это заразительно, зрелищно, не без размаха, хотя Нинель Николаевна, вероятно, уже подумала (отметила про себя), что в иную мечту есть вход и что это и есть ликование людей со скромными духовными запросами.
Неподалеку забили фонтаны, так что ветерок сносил на нас микроскопический моросящий дождец — женщины, преувеличенно вскрикивая, со смехом поправляли прически, пугались. Игра микропузырьков влаги на солнце была ярка, радужна, и, быть может, она-то и подсказала ассоциативно о шампанском, когда среди этой оседающей, тихой влажности Аня вдруг разыгралась и стала неуемной:
— Хочу шампанского!..
Мы уже были сыты и пьяны, но в ней пробудился бес, что бывало чрезвычайно редко: кажется, ей хотелось побеситься как раз на глазах сдержанной пары. (Кажется, она всерьез хотела, чтобы им, сдержанным, понравилась семейная жизнь, которая-де вовсе не скучна и не пресна. И вообще, как видится это сейчас, встреча вчетвером нет-нет и всколыхивалась со стороны Ани такой вот наглядной педагогикой.) Помню ее лицо. И в ее руке — огромный цветной детский шар. Аня не понимала, что для наших гостей ее действия наивны, чужды простоватой эстетикой. В том-то и минута, что, когда в Аню вселялся бес, она делалась неудержимой.
— Хочу шампанского! — вновь требовала она.
А когда я еще раз добыл шампанского, она требовала, чтобы я открыл по-гусарски, иначе она и пить его не станет.
— Хочу шампанского и чтобы ты открыл его, как гусар! Хочу по-гусарски! — требовала Аня и была той девицей, была неумолимой, капризной, непреклонной. И даже топала ногой. И закусывала губку.
— Мамаша, вы, однако, разыгрались!
— Хочу!
— Мама-а-аша, — пробовал я урезонить, подсмеиваясь. — Прошу вас, уймитесь...
— Хочу, как гусар. Хочу, как гусар!.. Открой вино, как гусар!
Я уже взывал к логике. Я терпеливо ей говорил, где, мол, я возьму палаш, — мол, я рад постараться, я что угодно и где угодно, хоть по-драгунски; мне уж за сорок, и мне все сгодится, но где же я возьму в нынешнее время и в нынешнюю минуту палаш, на что она кричала — где хочешь!
Я отправился в шашлычную, вошел, но не обычным путем, а с заднего хода и попросил у них на недолгое время нож потяжелее, чтобы будто бы разрубить мясо. Нож, разумеется, не давали, говорили, мол, сами тебе разрубим, если уж так надо, затем нож все-таки принесли, однако легковатый, негодящийся, после чего с криками возмущения меня вытолкали — правда, направили на задний двор в какой-то алюминиево-полосатый сарайчик, вросший в землю, как погреб, где я опять просил «тяжелый нож». В сарайчике тоже упорствовали. Не хотели, жались, нож-де такой — штука редкая и ценная, за деньги, мол, такой не достанешь, а в загулявшей толпе, от одного к другому, красавец нож мог кануть, как брошенный в реку, — но им-то, шашлычникам, без ножа каково?.. Но все-таки выдали, вложили мне в руки, как короткий меч, и даже ни часы в залог не взяли, ни документа, часы стоили дешевле ножа, пробившийся обратным путем через толпу, я, наконец, появился у наших с этим темным тяжелым ножом и под требовательным взглядом Ани ссек серебристую башку с бутылки шампанского, как это делали торопящиеся гусары. Осколков, и правда, не случилось ни одного, и наблюдавшие зрелищем остались довольны, удар был целен, един — пенная струя, разом открытая в мир, ударила прямо в четыре наших стакана.
Возле игральных автоматов Аня вновь развеселилась — отчасти ее выручало то, что она как-никак моложе меня на десять лет, а наших гостей и более чем на десять.
Геннадий Павлович и Нинель Николаевна лишь присутствовали рядом с нами, они с улыбкой кивали, соглашались и, вероятно, уже изрядно мучились от стараний этой семейки сводить людей; при всем неинтересе друг к другу они иногда обменивались ироничными взглядами.
Когда расходились с шашлыков, и у него и у нее были вежливые лица гостей, которые жалеют о потраченном времени. Таков финал. Геннадий Павлович и Нинель Николаевна виделись тогда в последний раз.
Нинель Николаевна обожает лето; с годами привычка превратила сезонное обожание в страсть, в страсть сильную и уже не меняющуюся. Когда впереди вьется горная тропка и вокруг божественная легкая жара (и даже необязательно жара, а стойкое сухое тепло начала сентября, тропа под ногой тверда, и важно, очень важно присутствие южного солнца!), Нинель Николаевна ступает неторопливо, ступает, смежив глаза, ей хорошо, и ей ничего не надо. Сорок с лишним лет, главные события ее женской жизни позади, но тем более ей хорошо: ей прекрасно! Тело через легкую одежду купается в солнце. Тело тихо-тихо живет. Жизнь представляется замедлившей ход и кажется вообще остановившейся (и тем Острее длящейся через этот сладкий миг недвижности. Дление благодати). Ни сослуживцев, ни вообще тех людей с их склоками — как хорошо! И как понятно, что все лучшее для нее теперь собрано в лете, в южном солнце и в этом неспешном шаге по тропе в никуда. Она устала от той жизни, и, уж конечно, она готова биться насмерть, если пытаются не дать ей отпуск в августе — сентябре: она прямиком в таком случае идет браниться к начальнику в кабинет, после чего еще неделю ее бьет, колотит изнутри, разъедает, так как женщина она искренняя, прямая, ни льстить, ни упрашивать в разговоре не умеющая. Ей отвратительно сочетать брань в кабинете, в который она все-таки пришла, с отстаиванием своих зыбких прав — но что поделать?
Так что Нинель Николаевна вся как есть заключена в полноте этого летнего дня, когда день огромен, солнечен, с синим небом и когда неспешные шаги по тропе с прибитой пылью создают ощущение остановившегося времени. С другой стороны, полнота жизни — полнота краткости, и потому лето для Нинели Николаевны длится только один месяц, август или сентябрь, она отлично знает, что только месяц и что именно в силу его краткости она сейчас так расслаблена и растворена, она в нирване, в бесконечности многих и многих месяцев и лет — в вечности. Если же о внешнем, то по тропе для курортников движется и иногда что-то сама себе шепчет женщина, несколько уже подсушенная, подвяленная возрастом, да, да, иной раз она разговаривает. В городе она бы непременно устыдилась своего отчужденного шепота, характерного (да и заметного встречным людям) движения губ, но здесь — не стыдно. Разговоры с самой собой, как и тропа с пылью, и возле тропы древняя скамеечка для отдыха, и гора вдали, и небо, и из набежавших недолгих облаков стреляющий луч — кирпичики огромного и главного здания ее жизни: лета. Притом что ей не нужны курортные мужчины, не нужны их слова или поспешные покупки кислого вина, их страстишки и домогательства — она, быть может, излишне требовательна и утонченна, но ведь южные романы так грубы. Ей довольно и мечты. (Ведь немолода. И что же портить суетой единственный, лучший в году месяц.) Она идет по узкой тропе — и вот впереди, когда она смеживает, сощуривает на солнце глаза, появляется шагах в ста, как бы в мареве, мужчина в белой армейской фуражке, в форме офицера российской армии времен кавказских войн — он идет той тропой, что забирает влево и чуть выше, так что Нинель Николаевна и он проходят друг от друга в некотором отдалении. Его лицо уже различимо: оно не слишком красиво, но приятно и благородно; небольшие русые усы, выражение глаз усталое, но сдержанное и никогда не жалующееся (быть может, он перенес ранение). Шаг сильный, мужской. Он улыбнулся, и тогда Нинель Николаевна (ей чуточку жарко) снимает шляпу, ту, крымскую, широкополую, которую она носила лет десять назад, которая так шла ей и которую так стремительно однажды утащил ветер, а затем море. Офицер на секунду вежливо приостановился. Приветливо ему махнув, Нинель Николаевна, сдержанная, идет по тропе дальше.
Желание Ани выпить шампанского по-гусарски, что было, разумеется, более грубым и прямым заигрыванием с прошлым веком, весьма рассердило Нинель Николаевну и вызвало впоследствии ряд насмешек: какая профанация!.. и какое безвкусие!
Нинель Николаевна живет весь долгий год как часть года, так что год является добавлением к лету, а не наоборот. Как-то она сказала: «Я бы умерла, если бы весь год длился непрерывающийся август...» — и засмеялась, имея в виду, что счастье в таком случае стало бы запредельным и для одного человека непереносимым.
Летом она именно отдыхает, а не мелькает там и тут, как те, кто в отпускной месяц вырвался на свободу и кто задыхается от любви и спешки настолько, что сам не вполне понимает, где спешка и где любовь. О, да, да, у них тоже один месяц. А у Нинели Николаевны круглый год своя отдельная квартира (и своя отдельная жизнь, увы, тоже круглый год), во всяком случае, ей нет нужды спешить с романами и с романчиками, хватаясь за умных и неумных, за высоких и за маленьких, за худых и за толстых, как хватаются некоторые бедняжки с ищущими глазами. Им по горло надоел муж, надоели углы своего жилья, семейная стряпня, стирка, хлопоты и заботы, от которых на юге надо отвлечься и забыться. Она их не осуждает. Но и не станет в ряд. Да, горделива. Она хотела бы, если уж отпуск, юг и горы, романа покрасивее, поумнее, позначительнее, но, ежели таких романов нет, других — не надо. Она тверда в своем, как тверд человек, которому спешить некуда, а мелочиться незачем. Вероятно, написано на лице. Но бывало — особенно прежде, — кто-то из курортных торопыг или красивеньких местных ухарей впопыхах все-таки набегал на нее, налетал, распушал перья и после цыплят-табака и возлияний, когда она наотрез уже отказывала и когда случайный этот, распушившийся знакомец в невольной, вдруг прорывающейся досаде шипел: «Зачем же ты на юг ездишь?» — ее ужасно коробило, о господи, что за люди, она только пожимала плечами, сдерживая гнев; но если он спрашивал еще, она решительно, резко отвечала: «Зачем? — я скажу вам, зачем я приехала: отдыхать...» — подобное выяснение возникало, разумеется, уже после третьей или даже четвертой попытки, когда интеллигентность его испарялась, а раздражение потраченных впустую дней и денег сдавливало горло досадой. Знакомец исчезал, мелькая уже где-то поодаль и не всегда здороваясь. А Нинель Николаевна немножко грустила — нет, не о людях нынешних, с ними все ясно, а, как ни странно, о неудавшемся романе.
О шашлыках на воздухе:
— Игорь, извини. Вполне понимаю, что вы с Аней хотели тогда нас обоих несколько развеять и развеселить — но все же как это было тоскливо, натужно, с претензией!
Я пожимаю плечами: бывает, мол. Она продолжает:
— Аня, разумеется, молодая — с нее не спросишь. Но ведь у тебя временами есть вкус...
Молчу.
Нинель Николаевна разводит руками:
— Ну, что делать, Игорь, ну, прости меня — я такая.
Когда-то давно, когда мы с Аней и с дочкой переезжали в нынешнюю нашу квартиру, я заметил, да и Аня заметила, что на стене в одной из комнат нового жилья — трещина. Неопасная с точки зрения крепости дома, трещина все же была, бросалась в глаза, и Аня мне сказала: «Смотри!» — а я засмеялся: «Заклеим обоями!» — и действительно, после ремонта ее не стало видно. Но там, под обоями, невидная и запрятанная, она стала расширяться, ветвиться, и одной из своих боковых ветвей, небольшой трещинкой, прошла незримо меж Аней и мной. И начались мои уходы из дома.
Да, редко. (Сейчас еще реже.)
В бегах я хожу по всякого рода сомнительным, подчас молодежным компаниям, в которых я и лишний, и чужой. Но подолгу я у них не задерживаюсь, ни у кого, почти ни у кого — день-другой, и я должен идти, бежать дальше, я именно в бегах и, как только место пребывания начинает пахнуть оседлостью, томлюсь.
Возраст, увы, не двадцать лет. Возвращаюсь я всегда больным, разбитым, позволившим себе много спиртного или ночных бдений — иногда просто побитым или обобранным, иногда намерзшимся и всегда уставшим так, что готов упасть, рухнуть. Здоровья нет. Раньше я каялся. Теперь, набегавшийся, я не каюсь — и лишь хочу поскорее тепла, уюта, погружения в семейную жизнь, которую, как вдруг оказывается, я очень ценю и люблю.
Иногда при возвращении Аня встречала меня ссорой, даже не пускала в дверь, мол, убирайся! — и неопределенное время я киснул на лестничной клетке или бродил вкруг дома перед повторной попыткой позвонить в родную дверь. Иногда же — это не зависело ни от длительности моего отсутствия, ни от пришедшего или непришедшего гонорара за повесть и ни от чего вообще, просто от ее настроения — она пускала меня в дверь сразу, просто и на удивление спокойно. «Ну что — пришел?» «Пришел», — я проходил в свою комнату, шаг от шага прямя спину и расправляясь в плечах, а Аня, прерываясь в домашних хлопотах, говорила Маше: «Погоди — отца покормлю», — и все шло своим чередом и целый долгий период я жил стабильно, иногда до года.
И, разумеется, нам было не провести Нинель Николаевну с ее чутьем на искренность — нам было не провести ее ни семейным приемом со слайдами испанской живописи после кофе, ни поездкой на шашлыки, ни шампанским, распитым по-гусарски. Она чувствовала опыт семьи, но за опытом некий затаенный изъян. «Шашлыки ваши в тот день отдавали самодовольством средненьких, да и желанием предстать в лучшем виде, но еще более отдавали знаешь чем? — не обидишься? — потугами на счастье, которое есть, но которого нет...» — сказала Нинель Николаевна позже, много позже, когда случайно зашла о том речь.
Помню, как в детстве сосед пришел забрать небольшой денежный долг, а мамы не было. К тому же я знал, что денег сейчас в доме нет. Мне было лет восемь. Мы сидели молча, двое в комнате, сосед нервничал — ждал. Потом он сказал: «Да что ж за чертова муха — совсем замучила!..» — он выразился куда крепче, чем замучила, и тут я увидел эту единственную в комнате муху. Я смутился, густо покраснел, словно жил чистюлей. Я скрутил газету и стал муху гонять. Потом сосед тоже взял газету, и вдвоем, после некоторой сутолоки, мы ее убили.
И вновь сосед долго сидел нога на ногу, ждал. Мама не приходила, и я знал, что она не придет. Окна синели от сумерек. Сосед покряхтел и наконец ушел.
Он вернулся — позвал меня пить чай с сахарином. У него над столом туда и сюда носились мухи. Потрепав меня по чубчику, сосед доверительно мне объяснил:
— Понимаешь, в чем штука — когда мух десять, они совсем не злят.
Нинель Николаевна и Геннадий Павлович, окончательно разойдясь, а даже и забыв уже друг о друге, живут своей отдельной жизнью. Они все более отъединяются от людей, стареют, порастают мхом. И, когда порознь я все же иногда их вижу — раз в полгода — мне уже непонятно, где тот поход, и тот шлейф шашлычного дыма над закопченными шампурами, и та чудесная погода, и солнце, бьющее в бумажные тарелочки, и вино, и мычащие коровы, и вздыбливающиеся кони с черными (редко — белыми) гривами.
Нинель Николаевна и Геннадий Павлович уже разделились в моем сознании. Он — там, а она — там. Два чрезвычайно отдаленных островка. Кругом них вода. Много воды. Если смотреть издали, они похожи, но издали всякие два островка похожи. Похожесть сама по себе еще не соединяет, как и не разъединяет. Но вдруг словно бы мощная арка, мощный мост над водой связывает на миг их обоих в моих глазах — мост залит светом и весь виден. И наиболее крепкой, несущей аркой моста является их обоюдная преданность своему времени и непрощение тем, кто их вытеснил, кто пришел в жизнь следом.
За потерю той бумаги и слишком выразительный душевный покой Геннадия Павловича едва не лишили должности завотделом, количество его сотрудников сократилось до десяти, следующая ступенька вниз — его едва не понизили до заведования сектором, должности у них совсем ничтожной, что означало бы к тому же подчинение Птышкову. Драмы нет — обычный естественный отбор; будни с правотой сильного и с неправотой слабеющего.
Не видел, но по описанию Геннадия Павловича вполне себе представляю, — молодо сверкнув глазами, Птышков оглянулся (на этого расслабленного Голощекова) и говорит негромко, но предрекающе: «Ладно, ладно... Я дождусь своего часа».
А Геннадий Павлович продолжает читать книги и пребывать в своих нестареющих мыслях: ничего не произошло. (Ничто не происходит.) Задумавшегося, его опять едва не сбило машиной на перекрестке, но ведь и это никак нельзя счесть новым. Нет, нет, он не боится смерти, но не хочет столь глупой смерти — всего же более он не хочет быть калекой, кто будет за мной ухаживать, ты, что ли, Игорь?
Да, да, Игорь, именно в чтении я восстанавливаю связь с моей юностью — каким образом? а очень просто — слова, слова, слова, слова, Игорь, не фразы, а как раз отдельные слова вдруг вызывают в памяти прихотливостью своей и своим консерватизмом обаяние былых дней. Слова в этом смысле не стареют — они ведь и в молодости моей были уже стары, что для них несколько лишних десятилетий! Слова, как ничто, удерживают прошлое с нами. Пишущий человек, а простой вещи не заметил. Пойми же наконец: слова — только для связи времен... если хочешь, только для связи (людей) разных времен.
— Да разве не вы заставили меня замолчать?!
Да, был говорун и был смешон, быть может, но был полон живых мыслей. Да: после окрика он избавился от своего недостатка, но не избавился ли он заодно и от своих достоинств? куст был из одного корня, а?.. Так бывает, так бывает, Игорь, когда заткнули один фонтан, то, вопреки здравому смыслу и законам гидравлики, второй фонтан не забил сильнее, а тоже мало-помалу иссяк.
Да, да, не надо было вам меня останавливать, надо было дать мне остаться тем, что я есть, пусть прожектером: ведь я только начинал, и со временем бы выяснилось, что начало как начало и что вторых и третьих начал не бывает — начало бывает одно, Игорь. А всего несколькими годами позднее — в тридцать с лишним лет! — стали впервые появляться эти апатии, эти мои периодические приступы пустоты. Опустошало и притом каким-то образом совсем не мучило. Казалось, обычное расслабление, я ведь тогда учил языки, читал ночами. Но год от года объяснять самому себе становилось сложнее. И наконец однажды я понял, что это вовсе не жажда отдыха и не переутомление — это был уже бич, беда, болезнь. Вялость обрушивалась на меня вдруг, даже и посреди отдыха, посреди отпуска, — и руки опускались, ни душе, ни уму ничего не хотелось, а было мне только сорок лет. Я тогда испугался. Я даже сходил к врачам. Врачи, как водится, успокоили. И, как водится, не помогли. Они опять же говорили о переутомлении, да кто же в наше время без нужды знает пять языков, батенька! да и зачем?!. Время шло; сменяя друг друга, одни врачи уходили на повышение, другие на пенсию — врачи уходили, апатия приходила вновь.
Нет, Игорь, неужели я стану обвинять тебя лично — это глупо! И ты, и вы все не желали мне зла, но оттеснили. И вы, и те, кто шел за вами, — вы просто жили свою жизнь, но жизнь-то ваша все более перекрывала мне кислород. Начальство начальством и окрик окриком, а жизнь жизнью. Ты пойми: ни один начальник не прикрикнет на излишне выделяющегося человека, пока не увидит, что вокруг есть те, кто этого излишне выделяющегося также осуждает. Начальство именно опирается, пусть мысленно и пусть без предварительного сговора, но именно опирается на тех, кто прост, практичен, начинен здравым смыслом и умеренным чувством прогресса, а также послушен. Вы были всюду, вы жили свою жизнь, и вы этой самой своей жизнью нас вытеснили — и не столь уж важно, одернули при этом меня или нет, окрикнули или не окрикнули грозно.
Если апатия особенно жестока, он и не разговаривает. Он лежит утром (одетый), лежит в середине дня. Книги отложены, он не читает.
Он как-то сказал, что в таком состоянии он предпочитает сдаться, его, мол, уже не пугает ощущение краха и как следствие — усталая покорность текущему времени; психика? — ну, пусть: куда легче уступить, куда легче и разумнее попросту не сопротивляться, сдаться, отдать, пусть случится в сознании самое страшное, ведь и в сумасшествии есть, вероятно, свое милосердие, и пусть это страшное милосердие однажды его одолеет, победит; ведь несомненно, что как только он поддастся до конца, в ту же минуту самое ужасное и самое мучающее в его сознании кончится.
Он — в сильнейшей подавленности; и ему безразлично, что к нему пришел его единственный (и крайне редкий) гость; он, правда, открыл мне дверь, но вот уже около часа я сижу за столом, листаю редкие или интересные мне книги, пью чашку чая, курю сигарету, а он полулежит на диване, молчит, витая где-то далеко, и на глазах его, если присмотреться, этакие слезки. Он шумно вздыхает, слезки, две штуки, от вздоха слетают — он их и не заметил, просто слезятся глаза, такое бывает, он вполне и вполне спокоен; он смотрит не отрываясь на красно-синюю высокого качества рериховскую копию, что на стене. И глаза его — сухие.
Я зашел к нему по дороге; уже поздно — и мне пора домой. (И ведь он все равно молчит.) Книги я полистал, покурил.
— Может быть, прогуляемся, воздухом подышим? — предлагаю я. — Проводите меня до метро — вот вам и прогулка.
Он коротко мотает головой: нет.
Я ухожу. Раз в полгода я его проведываю, но, в сущности, его жизнь меня мало волнует. И я не знаю, для какой такой амбарной книги или для какого гроссбуха с грехами нашими и хорошими делами я ставлю эти птички — мол, опять зашел и проведал. Просто так проведал. Ведь человек.
Роен ты или не роен? — вот в чем вопрос, вот в чем для вас вся истина: вы, Игорь, сильны ройностью. Иметь деловых и помогающих друзей, жену с детьми, иметь ненавязчивую родню, иметь во всякой сфере умного своего человека — вот в чем постижение жизни, ее смысл, пришли иные времена, пришли иные племена. Ни ум, ни познания — ничто не имеет самостоятельного смысла, если ты не роен, не растворен в шумном и большом рое. Более того: и ум, и познания, и силы увядают, гаснут, становятся нестимулированными и в конце концов ненужными. И я, Геннадий Голощеков, глядя на себя, вполне могу признать, ты слышишь, Игорь, я признал, я вполне признал определенную вашу правоту.
В сущности, всё и вся у вас говорит одно: особенного не ищи, ни о чем особенном не думай, войди в рой, прилепись и будешь спасен. Рой сам найдет тебе и дело и оправдание дела, не твоя забота — хотя, пожалуй, ты (к тому же!) будешь думать, что дело нашел себе сам. Будешь счастлив... и ведь какая вроде бы малость: не покидать родню, людей, близких, деловых и помогающих друзей, трудиться, жениться, иметь детей... так просто! и так бесконечно много! И что бы там ни было, как бы ты ни заблуждался — ты роен, и уже потому ты прощен и спасен, ты будешь жить, будешь беспрерывно общаться с роем, с общностью людей через своих приятелей, через товарищей по работе, через жену, через своего ребенка, — и через эти, казалось бы, миллиметровые соломинки, через капилляры ты уже связан с городом, с космосом общей жизни: из тебя — и обратно! — в тебя будут идти соки роя, ты в общей лимфатической системе, в общем кровопотоке людей, как мало... и как много!
А у него, у Геннадия Павловича Голощекова, этих капилляров нет — и рой ему, неприлепившемуся, не прощает.
(Иногда в Геннадии Павловиче оживает прежний Хворостенков. Домашний, мягкий, готовый тут же уступить или даже признать свою неправоту, а все же Хворостенков. Я понимаю, что ему это необходимо хотя бы внешне, пусть даже нынешние его психоизгибы несравнимы с тем каскадом блистательных идей, с тем удивительно легким, пластичным проникновением в страну вечных и новых истин, которыми он покорял многих — и меня тоже — в былые дни.)
Затем (голос негромок, тих) он шутит, улыбаясь и давая себе отступного в самоиронии. Он предлагает, вполне в твоем ключе, Игорь, написать рассказец: о том, как некий человек постигал идею роя, великую и единственную идею мира. Человек, мол, читал. Человек бесконечно много читал. Все более и более углублялся он в тянущуюся к нам из глубины веков мысль о ройности, но при этом все более и более отдалялся он от людей, забывая о друзьях, теряя родных и близких, так как постижение идеи требовало великого напряжения души, звало к уединенности, а также портило ему характер. От него ушла жена, и в освободившейся ее комнате разместился очередной контейнер философских книг. С взрослеющими детьми он тоже не ладил: не общался с ними, не звонил.
Он жил один. Тем временем стукнуло шестьдесят, его проводили на пенсию, так что однажды и сослуживцев вокруг него не стало. Он выходил на прогулку лишь ночью. Он не общался даже с соседями. Зато он все больше и больше постигал идею роя. К минуте, когда он, проникшийся, был в душе своей предельно роен и уже доподлинно знал, что только в рое окончательная правда человека, он в жизни остался один-одинешенек. Аки перст.
В отглаженных брюках, в белой накрахмаленной сорочке Геннадий Павлович пребывал дома и в субботу, и в воскресенье, а также вечерами после работы во все другие дни: сидел дома как бы собравшийся идти, хотя идти он никуда не собирался. Но это ощущение присутствовало — ощущение, что его позовут и что он сразу же пойдет, лишь представится случай. И нет апатии. И пиджак хорошего покроя висит в шкафу, близко, только открыть створку. И возникни что-либо, явись у кого-то нужда в Геннадии Павловиче или просто встреться ему человек юности, позови, кликни — он готов. Возможно, уже давит литература, возник образ, однако же и на самом деле я не раз и не два заставал Геннадия Павловича вполне одетым к выходу, в отутюженных брюках и в накрахмаленной праздничной, приготовленной к немедленному выходу сорочке, хотя Геннадий Павлович никуда не шел: валялся с книгой на диване. С некоторой условностью можно считать, что он таков всегда. Готов — в каждый вечер. И в каждый выходной или свободный день. В конце концов пусть будет немного литературы: образ.
Если суббота или воскресенье, он бывает небрит (иногда) и седина серебрит щеки. Но ведь побриться — три минуты.
Комедия: вельможа, который надеется, что его призовут, или Сперанский в опале, — сам же и шутит над своей готовностью Геннадий Павлович, рассказывая, как, и правда, однажды раздался заливистый звонок в дверь, и человек пришел, человек возник на пороге Геннадия Павловича и его призвал, позвал... на свадьбу. Сверстник и давний сослуживец Борис Никитович Брагин в те дни женился: было необходимо собрать людей. (Комедия как комедия.) Многочисленные приятели Брагина на его свадьбу не шли, так как решительно не желали ссориться с его прежней женой. Они выжидали. Но Брагин все же собрал и созвал: человек восемь — десять. И именно далеких и почти забытых собрал — собрал хоть кого-то ради нее.
Брагин еле отыскал Геннадия Павловича, довольно долго наводя справки и теряя время, а время уже поджимало.
Поздоровавшись, Брагин сказал ему прямо с порога:
— Идем. Женюсь я...
Зато Геннадий Павлович был именно готов, отутюжен. (Даже побрит.)
— Да ты же женат!
— Идем, идем, Геннадий, — побыстрей. Женюсь на молоденькой.
Та из стайки, светловолосая, с косицами, приехала из самой глубинки; очень сдержанна, скромна, а на руках ее, на тонкой шейке и на щеках томный жар провинциальных улочек маленького города. (В средней полосе России, с старинным названием и с медленной небольшой рекой.) Хоть бы одно имя он запомнил! (Галя? Валя?..) Она была бледненькая в тот день, день зачета или экзамена, они столкнулись лицом к лицу на лестнице, и он ее спросил:
— Как вы себя чувствуете? Что это с вами?
— Но мы же, Игорь, не только много болтали в наше хворостенковское время, помогли сокрушить культ — тоже мы. Пусть это общо, слишком претенциозно (согласен!) и слишком многозначительно, но позволь это сказать... Мы много болтали, но кое-что тоже делали. Или напомнить?
Идея растворения индивида в людях, идея людской общности, или, как он для краткости и выразительности говорил, идея роя, поддерживалась в наших разговорах аналогом жизни пчел. Рой — это целое. Это одно живое существо. И когда пчела почему-то отделена, рой невольно свои жизненные соки и силы придерживает: держит их при себе, в себе, для себя, оставляя одиночку на полном почти нуле, что и понятно и правильно. Пчела гибнет. Рой вечен. Или почти вечен.
И, мягко улыбаясь, Геннадий Павлович разводит руками: видишь, мол, не сержусь, и не сетую, и говорю, мол, о собственной гибели вполне спокойно.
— Еще чаю налить? — спрашивает он меня.
Я киваю — еще, мол, одну чашку и хватит. (Я уже сколько-то чашек выпил. Пора домой.)
И тогда Геннадий Павлович торопится высказать:
— Пойми: пчела гибнет без жизненных соков общения. Если следовать образу, я давным-давно должен погибнуть.
И еще:
— Может быть, Игорь, я уже мертв — но ведь я живу.
И еще:
— Живу я (может быть!) лишь потому, что рой пока еще хранит для меня какую-то толику своих соков, рой еще не поставил на мне крест: мало ли!.. а вдруг я усыновлю кого-то, а вдруг сопьюсь и из похмельных ночных страхов женюсь на одинокой вдове: прилеплюсь. Быть может, я еще сгожусь рою — понимаешь? Или вдруг какой убогий прикипит ко мне сердцем; слабый, дебильный и мало кому интересный, он будет ко мне приходить, рассказывать, какая на улице погода, как он любит голубей, и я его, убогого, не оттолкну. Рой не перекрывает свой кислород окончательно, дает соки и отцеживает мне по капле — на всякий запасный случай!..
И еще (теперь с иронией):
— Не печалься обо мне, Игорь, — как видишь, у меня немало вариантов выжить и осуществиться. Из какого-то удивительного милосердия вы меня не лишили всего: кое-что оставили.
Он не меняется, он только истончается в словах и оттенках (мне можно уходить; еще одну чашку чая я уже выпил).
Нинель Николаевна куда прямее и энергичнее, как в своем запале, так и в своем презрении:
— Вы как татары! — кричит она мне. — Как татаро-монголы!
Их выводок забили нашествием, да, да, Игорь, нашествием практичности и цинизма. Их время мгновенно ушло, оно было слишком прекрасно. Поэтому последующих она даже на поколения не разделяет, проблемы поколений или там проблемы отцов для Нины нет, на десять, на двадцать или на тридцать лет моложе, какая разница — все они равно тупые, многочисленные, убившие тогда и убивающие посейчас их светлое время. Татары.
От одиночества Нинель Николаевна ездит иногда в недалекие туристские поездки. Она побывала и во Владимире, где Дмитровский собор, Успенский запали в ее сознание и встали там, как догорающие высокие свечи, уже который век освещающие стиль до нашествия — стиль белокаменного великолепия, стиль полета и света.
— Мы готовились жить, восхищаясь друг другом и ликуя: жить прекрасно, светло, честно! — Нинель Николаевна выкрикивает слова не потому, что с ней спорят, давным-давно не спорю, только киваю, а просто от саморазгона, а более от бойцовского темперамента, который на всяком перепаде бурлит ручьем и не может, не умеет так изящно и мягко гнуть серебряную струю течения, как умеет Геннадий Павлович, разворачиваясь попеременно то иронией, то жалостью и к тем, и к этим — ко всем людям.
До пятидесяти еще есть несколько лет, и Нинель Николаевна очень следит за собой — она подтянута, ухожена, строго и со вкусом одета. Она придает большое значение своим походам к массажистке, ухаживает за лицом и охотится за специальными, славящимися кремами.
И, конечно, тоже стычки:
— Ваш практицизм превратил жизнь в систему знакомств и дорогих подарков. Во вторник я сидела у массажистки три часа, а дамочки шли и шли мимо меня без очереди, даже не с черного хода, а прямо и открыто... Да, да! Внесли в жизнь делячество — как? А очень просто Вы внесли его сначала осторожненько, Игорь, вы просто жили, как жили всегда, и у вас хорошо, а потом совсем хорошо, а потом и отлично пошли дела.
На приеме у зубного врача тоже ходили туда-сюда знакомцы. «Я записывалась на шесть тридцать, а уже девятый час!» — выкрикнула Нинель Николаевна. Она постаралась успокоиться, но неожиданно накалилась еще больше и так накричала на врача и на его медсестру, что зубная боль вдруг прошла, и Нинель Николаевна отправилась домой, хоть и знала, что завтра боль погонит ее сюда же, в этот же коридор, к этому же врачу. Так тебе и надо, так и надо! — говорила она, мстя себе самой и за побег, и за то, что не могла быть, как все эти люди. (Раньше горечь Нинели Николаевны была более едкой; казалось, Нина обладает прямым знанием человеческого неблагородства, особенно же знанием неблагородства мужчин, угадыванием их наперед, — теперь ее обвинения по большей части слишком общи, в личное она острием не попадает.)
Нинель Николаевна: «Ты, Игорь, в скрытой форме такой же прагматик, как и все ваши. Ты — внимательный, не лишенный тонкости человек, но что это меняет по сути?.. Ты — их человек; ты можешь себе позволить быть внимательным и тонким...»
Голос ее твердеет:
— Тебе и твоей жене не удалось добыть благ — а значит, вы средненькие из ваших. Такие же, как все, но только с меньшей энергией и удачей. Вы — третий или там пятый эшелон...
И добавляет смеясь:
— Но эти эшелоны движутся в том же направлении, Игорь.
Геннадий Павлович и Нинель Николаевна не знают, что к каждому из них я изредка захожу, — им это неинтересно; давно разойдясь, они ни разу не спросили друг о друге. Они, может быть, и не помнят уже.
Не узнавшие.
Нина говорит:
— Что-то ты не похож на своих — и как это ты с бытом не сладил?
И утешает:
— Ты еще вывернешься... Купишь машину и дачу, хорошо устроишься. Все придет, Игорь, — ты не волнуйся, не волнуйся...
Или даже сердится на мои слова:
— Да что ты прибедняешься!
Когда подхожу к ее дому и подымаю глаза — вижу ее три окна, одно кухонное и два комнатных.. Из них всегда горят комнатные. Удивительно ощущение, что сейчас подымешься, войдешь в квартиру, и она там одна. Всегда одна. Бытовые окружающие предметы стали для нее, вероятно, почти живыми (не живыми, но и не вполне мертвыми), так что Нинель Николаевна — хотя бы и молча, глазами — с ними общается. Не случайно же одинокие люди наделяют мебель душой, сначала как бы шутейно приветствуя: «Здравствуй, мое зеркало... Здорово, стол!» — а углы и особенно темные ниши своего жилья невольно населяют чертиками и всякой иной нежитью. (Ночные страхи и видения начинаются с неосознанного желания населить углы хоть кем-то или хоть чем-то.)
И когда, редкий гость, я прихожу, едва только ноги мои переступили порог и стучат прихожей, Нинель Николаевна, сама того не зная, рвет связи с углами и нишами, с душой зеркала, с рослостью шкафа и с иной придуманной нелюдью — она рвет с одиночеством, но ведь, сделав резкий шаг, остановиться трудно. И потому по инерции ее заносит еще несколько вперед. И вот она — среди людей (миновав общение вдвоем). Из одиночества она как бы сразу попадает в собрание. Она становится рассуждающей широко и социально, становится обостренно чуткой и воинствующей и потому-то, как сама совесть, обрушивается подчас на меня и мою обычную жизнь.
Это понятно.
Нелюбовь к чужим не дает ни уму, ни сердцу. У Нинели Николаевны есть соседи, отгороженные стенами, и есть сослуживцы, всякие там мелкие или малоприятные типы на работе. У нее есть люди в жэке, люди на почте, люди в гастрономе, с которыми она невольно день ото дня видится, но не любить их ей неинтересно, так что нелюбовь ко мне, быть может, особая честь. Возможно, нелюбовь не хочет быть рассыпанной по людям (и распыленной) по той же причине, по какой и любить мы тоже не хотим всех подряд, а выбираем кого-то конкретно. С другой стороны, всякое чувство опосредовалось, приржавело — и нелюбовь тоже не хочет вести к прямому противостоянию, предпочитая пелену тонко выбираемых слов сегодня, завтра, через полгода, через год, то снисходя, то вновь жесточея. Скопившееся мучит.
В невольном (отчасти) желании найти виновного Геннадий Павлович похож на Нинель Николаевну, но в словах он помягче:
Геннадий Павлович открыл дверь; в прихожей он добродушно ворчит, этак улыбаясь и слова растягивая:
— А-аа... Вот и гость пожаловал.
Я здороваюсь.
— Ну, ну. Молодец, что заглянул. Книжки полистать хочешь?.. И водочки стопку, конечно.
— Можно и водочки.
— Да уж!.. И водочку, и книги — и как это ваши люди все успевают?
Нинель Николаевна непременно нападает, наскакивает на того, кто с ней добр, притом что перемежающиеся нападки и жалобы — не просто женский жанр, но состояние духа. Она хочет быть понимаемой глубже. В идеале Нина хочет пострадать не от одиночества, а от обстоятельств извне, но и обстоятельства должны быть круто замешены и ее, Нины, достойны.
Ей не хочется человека. Ей хочется образа.
Но каждый раз, выкрикнув свои обвинения, Нинель Николаевна, человек чуткий к чужим бедам и втайне мягкий, испытывала раскаяние. Ей очень хотелось сказать — мол, тебе и твоей Ане я желаю только счастья, и не слушай, мол, Игорь, меня в моем одиночестве. Но она этого не говорила. Скрывала. Вместо слов возникал тик на лице, еле приметный.
И лишь иногда она подходила, чтобы проводить у самых дверей; она смешно крутила мне пуговицу на пальто и говорила:
— Ты, пожалуйста… ты не принимай близко к сердцу.
А левое веко у нее тихо-тихо дергалось. Она не смотрела в глаза.
И Геннадий Павлович, высказавшийся и тоже вдруг смущенный, гмыкал:
— Ты, Игорь, пойми, гм-м, и, разумеется, не принимай, гм-м, лично — мне ведь некому больше сказать.
Во внешний мир они, в сущности, выглядывали редко, но и тотчас же внешний мир их как-то очень ловко отталкивал, выталкивал из себя, выбрасывал на манер Даева и его Олжуса или на манер бывшего сокурсника, которого встретила и к которому пришла домой Нина.
Нинель Николаевна сидит у телевизора, звук которого выключен; она лишь случайно поднимает глаза на мелькающее изображение — что там? река, переправа? — и вновь Нинель Николаевна опустила глаза: вяжет. Она вяжет изящными движениями рук, руки у нее, и правда, красивы, тонки, и она как бы демонстрирует их подмигивающему бельму экрана.
Почему с ними (с ней или с ним) должно что-то стрястись? Ну да — одинокие. Но ведь люди как люди... Таких тысячи.
У нее — газ, у него — машины и перекрестки.
Но, может быть, я боюсь за них потому, что редко у них бываю и от незнания выдумываю. Может быть, я выдумщик, и потому не только Нинель Николаевна и Геннадий Павлович, но также все прочие мои знакомые и приятели, и моя семья, жена, дочь, все люди и города и деревни и весь мир вокруг — это хрупкая, моя и не моя, выдумка.
Глава четвертая
«Не жениться ли мне на продавщице? на официантке?» — рассуждал иногда Геннадий Павлович. Он плохо контактирует с пришедшими на смену, с заполонившими все вокруг трезвыми и практичными людьми, но, быть может, его, пожилого (и непредприимчивого) интеллектуала, как раз и способна понять простая женщина, понять и сойтись с ним, как сходятся подчас пресловутые крайности. Как думаешь?.. Ведь простая женщина по сути своей — народ, в старом и добром толковании этого слова; народ лишен крайних взглядов, народ не умеет и не хочет разделять на предыдущих и последующих, он всевелик и всеобъятен, не так ли?.. Народ понимает все и всех или не понимает никого, чем и велик! — не без высокопарности рассуждал Геннадий Павлович.
Но, с другой стороны, он тут же пугался. Он провидел жизнь с некоей Зиной, которая была, скажем, официанткой в кафе и которая выдумывала бы и рассказывала своим подружкам в белых кокошниках, как вчера вечером они с Геночкой ссорились, а затем еле помирились. Зина с фантазией, что поделать! А подружкам в кокошниках ее рассказы нравились. И поскольку отношения с Геннадием Павловичем были ровные и самые понятные, Зина сильно бы их усложняла, выдумывая какие-то сцены, ссоры, будто бы пьяные похождения Геннадия Павловича, особенно же, как он, сильно перебравший, явился домой и как она его укладывала спать, жалела и обстирывала. Зина не видела бы в своих рассказах ничего дурного, она вовсе не оговаривала Геннадия Павловича и не добивалась от подруг жалости или сострадальческой доли — она полагала просто, что такова жизнь, интеллигент ведь, подрался в жэке с монтером, а мне опять — разнимай, опять же вино, блевотину его ножом соскабливаю с пальто, легко ли, говорила бы, всхлипывая, Зина по телефону, в то время как рядом Геннадий Павлович, ничего нынче, кроме боржоми, не пивший, мирно посапывал на уютном диване, в полудреме придавив щекой «Римскую эпиграмму» в подлиннике.
Он подобрал этот осколок своих былых мыслей — рой — и теперь за него держался. В сущности, он терял себя; он завершался как личность, вероятно, считая, что рой — вершина его размышлений. (А это был итог.)
Нинели Николаевне перед началом своего выступления Андрей Вознесенский рассказывал о городе Марбурге и о студенческом общежитии там имени Ломоносова, расположенном на самой горе, у средневекового замка.
А выступление впервые не удалось. Потускнели: аудитория одного из лучших наших вузов притихла. Пылкие парни и девчонки не шумели о свободе искусства, не бурлили, не братались, не восклицали, не слышали: они как бы пропускали слова поэта мимо себя. (Пятый курс, они вскоре разбрелись по различным НИИ, занялись наукой, как невыносимо медлительно и как мгновенно они разъехались, вдруг заскучав и исчерпав свое время.) Поэт в тот вечер не мог понять, думал, что, может быть, он сегодня не в форме, не заболевает ли в простудное время, — и Нинель тогда ужасно мучилась, стыдилась смотреть ему в глаза, так как она-то знала, что стихи прекрасны и что читает поэт замечательно, но что в студентах, если не в самом студенчестве, уже зияет, уже означается пустота. Грянули вполсилы аплодисменты. Нинель едва не расплакалась. (После чтения, провожая, она расплакалась; поэт не понимал и только повторял смущенно:
— Спасибо... Спасибо...)
Мы пили у нее дома кофе, Нинель Николаевна была весела и мечтала о человеке своего выводка:
— ... А я тебе говорю, Игорь, он появится — и мы непременно с ним встретимся, узнаем друг друга. Мы узнаем друг друга уже издали — сразу! Хотя бы и на улице, случайно, встреча в толпе тоже может быть определенным нашим знаком. Улыбаешься?.. Ну-ну!
А я улыбался тем, не совпавшим полурыбкам.
И вот Нинель Николаевна говорит мне вполне серьезно, что некий человек уже устраивается к ним в НИИ на работу, это он, Игорь, это — он! случайно она столкнулась с ним в отделе кадров, они разговорились, а затем вышли на улицу и два часа кряду разговаривали душа в душу, как вдруг потерялись — право нелепо!.. Они потерялись в толпе, где новый универсам, а рядом с ним обувной, и люди там идут, как волны двух сливающихся рек, — нелепый людской водоворот растащил их в разные стороны. Он ей сказал: «У выхода?» — она сказала: «Да, да!» — и зачем ей надо было в обувной, у нее есть обувь, отличная обувь, ну просто женщина как женщина, вот и зашла... и потерялись. Он устраивается к ним работать, так что, разумеется, они опять увидятся, но жаль вечер — такой удивительный, чувственный и все нарастающий вечер. Да, Игорь, это он, мой мужчина, мой человек — он был остроумен, и совсем ненавязчив, и деликатен, нет, нет, не одуванчик, чувствовалось влечение мужское, сильное, что ж отрицать! С ума сойти... Всего-то три строки прочел он из стихов нашего времени, но по уместности и по тональности их, по удивительной точности прочтения сразу же стало ясно: наш. Мы были друг для друга: мужчина немолодой и немолодая женщина. Вчерашний вкус? Но повторяю: было острое чувство, было даже прямое желание, хоть все было заткано, как пряжей, его духовной тонкостью: он был таким, каким ждался.