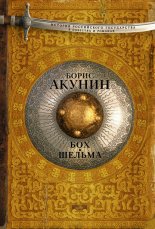Присягнувшая Черепу Стейвли Брайан
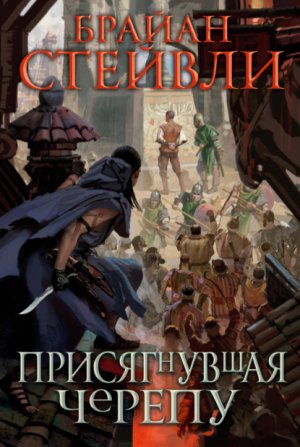
Глаза женщины стали пустыми, как небо.
Мужчина, растянув губы в помертвелой усмешке, шагнул ко мне и крикнул:
– Я не слепой!
Зеленая рубашка покосился на меня и снова обернулся к нему:
– Что же ты видел?
– Она метнула ножи! Убила Бин и Во!
– Я правда метала ножи, но не в его друзей, – подтвердила я, повернувшись к стражнику. – Я тонула в трясине, сражалась за жизнь. Зачем бы мне убивать женщину, которая помогала отогнать крокодилов?
– Она метала ножи в крокодила, – подтвердила Эла.
Стражник скривился – видно, был бы рад выбраться из этой неразберихи.
– Может, ты промахнулась? Случайно попала в его друзей?
– Я с пяти лет мечу ножи, – покачала я головой. – А тот крокодил был большой, как лодка, в трех шагах от меня. Не промахивалась я.
– Ты убийца! – Чумазый мужчина ткнул пальцем чуть не мне в лицо.
Он все твердил это слово, словно забыл все другие.
Эла встала между нами, успокаивающе погладила его по груди. Он отбросил ее руку, но я уже сообразила.
– Послушайте, это же бред, – воскликнула я. – Там, в дельте, столько людей нуждаются в помощи!
– Хочет сбежать! – вмешалась женщина.
– Мы подождем здесь, – снова покачала я головой. – Оставьте кого-нибудь за нами присмотреть, но, ради Интарры, отправьте остальных на север. Бедствию еще не конец.
Мгновение стражник всматривался в мое лицо, потом коротко кивнул.
– Вон, Тун, Квон, задержите их здесь. Чтобы до моего возвращения никто с места не двигался. Если дернутся, убейте. Когда вернусь, доставим их в Кораблекрушение и там разберемся.
– А мы чем виноваты? – возмутился измазанный в грязи мужчина. – Убийцы – эти гады!
– Если так, когда все кончится, они предстанут перед аннурским правосудием, – отрезал стражник.
– Лично я не прочь подождать, – примирительно вскинула ладонь Эла.
Она устроилась на перилах, словно не замечая пустоты за спиной.
– Коссал, – повелительно окликнула она, – перебирайся сюда.
Когда старый жрец сердито затопал в нашу сторону, она стянула с рук перчатки и аккуратно повесила их на перила.
– Сколько смертей! – горестно проговорила она. – Сколько бессмысленных смертей!
Солнце недалеко ушло по небу, когда рухнул Тун. Свирепо поглядывавший на нас воин вдруг опустил меч, схватился за грудь и упал с перекошенным лицом. Вон опустился рядом на колени и растерянно тормошил товарища, а не добившись ответа, отложил меч и упорно пытался оживить мертвеца, пока сам не осел на доски с мучительным изумлением на лице. В сотню ударов сердца было покончено со всеми.
– Ну, – бодро объявила Эла, встав на ноги, – вот все и уладилось.
– Итириол? – угадала я, изучая трупы.
– А в Рашшамбаре меня уверяли, что ты только в клинках знаешь толк, – улыбнулась Эла.
Я бросила взгляд на ее замшевые перчатки.
– Порошок сквозь кожу не проникает?
– Со временем проникает, – пожала плечами Эла. – Так что тянуть не стоит.
– Были способы покончить с этим скорее, – сварливо заявил Коссал, выпрямляясь.
– И обратить на себя внимание, – возразила Эла. – Было бы о чем поговорить.
Она кивнула на роящийся на мосту народ. Кое-кто оглядывался на нас, все заполонили окровавленные, перепуганные, обессилевшие и отупевшие до бесчувствия люди. Никому не было дела до нескольких тел у перил.
– А так мы остановимся в хорошей гостинице, а не будем ютиться на чердаке с летучими мышами. – Оценив меня взглядом, Эла порылась в мешке и кинула мне туго скатанный ки-пан. – Мне, в общем, приятно смотреть на ляжки с ножами, но, пожалуй, в город стоит одеться не столь вызывающе.
К горе Безумного Трента мы добрались в темноте. Большая приподнятая над землей платформа, как и сама переправа, осталась в наследство от аннурского вторжения. В четверти мили от северо-западной окраины Домбанга тянувшаяся прямо, как стрела, деревянная гать начинала полого уклоняться вверх, опоры становились все длиннее, а их конструкция усложнялась по мере того, как дельта оставалась все дальше внизу. Название для этого огромного сооружения подобрали неудачно: деревянные леса (за прошедшие десятилетия неоднократно чинившиеся и заменявшиеся) – никак не гора, а генерал Трент вовсе не был безумен. Стреляя с этой рукотворной горы, аннурские требушеты стерли с лица земли и сожгли в пепел северную часть города.
Домбанг и теперь горел, хотя огонь давно пленили, укротили и рассадили по десяткам тысяч клеток: в печи, факелы, фонари, снова заставив служить людям. С вершины горы раскинувшийся перед нами городской лабиринт напоминал мутноватую копию звездного неба. У меня закружилась голова – закружилась так, как никогда не кружилась над отвесными обрывами Рашшамбара. Чудилось, будто я смотрю не только вниз, но и назад – через бездну лет заглядываю в собственное прошлое.
Тайный город, Чудо Гока Ми, Лабиринт Фонарей – городу дали десяток имен, и в каждом была своя правда и своя ложь. Сплетение каналов с их баржами и плавучими базарами в самом деле веками и тысячелетиями скрывалось от света, но теперь с тайной было покончено. Гок Ми действительно совершил чудо, несколько столетий назад превратив рыбацкую деревушку в величайший город южной части материка. Однако Гок Ми давно умер, а его город двести лет как пал ниц перед большей и не столь чудесной силой. Вернее всего подходило последнее имя: Домбанг был и остался лабиринтом – каналов и мостов, гатей и плавучих домов, протянутых между крышами веревочных переправ и лесенок, и десятков тысяч переулков, где так легко скрыться – от других и от себя.
– Ах, здесь я могла бы влюбиться, – мурлыкнула Эла, залюбовавшись видом; она обхватила меня за плечи. – Право, какой романтический город!
– Если считать романтической открытую клоаку, заселенную злобными политическими раскольниками, – хмыкнул Коссал.
– Ты посмотри, сколько фонарей, – убеждала его Эла. – В прошлый раз, помнится, их было меньше.
Красные и янтарные фонарики висели на носу каждой лодки, в отворенных окнах мерцали свечи, открытые огни пылали у подножий деревянных изваяний богов – аннурских богов, над которыми владычествовала Интарра. До меня уже доносились отголоски музыки: то обрывки пьяных песен, то нежные звуки деревянных флейт, нитями протянувшиеся сквозь жаркое дыхание ночи.
– При чем тут фонари? – возмутился Коссал.
Эла его не слушала – повернулась ко мне, игриво повела бровью.
– Удачный выбор, Пирр. Можно ли не полюбить среди такого множества фонарей?!
– Они из рыбы, – покачала я головой. – Все фонари здесь делаются из рыбьей кожи. Из красных зубанов или из плескунов. Их потрошат, кожу натягивают на раму, а внутрь вставляют фитиль и наливают китовый жир.
– Ты так говоришь, – заметила Эла, сбоку заглядывая мне в лицо, – будто рыба для тебя чем-то умаляет романтику.
– Для начала запахом, – подсказал Коссал.
– Они не пахнут, – медленно покачала я головой. – Если сделаны как следует, не пахнут.
В памяти всплыла картина из илистой заводи детства. Я сижу на корточках на узком причале между кучами зубанов. Неподвижные, мертвые, прохладные на утреннем солнцепеке рыбины глупо таращатся в небо. Мне поручено их выпотрошить, почистить, засолить и развесить на просушку, а потом до бумажной тонкости выскрести кожу, которую продадут старому фонарных дел мастеру с нашей улицы. Свежая рыба никогда не воняла. Только потом, к ночи, когда в городе зажигали эти румяные фонарики, я ощущала на коже густой запах, не смывавшийся, сколько ни три ладони.
– Беда с тобой, Коссал, – обернувшись к старому жрецу, сказала Эла. – Ты ничего не понимаешь в романтике.
– Я любого вскрою, – ответил он. – Выпущу потроха. Повешу труп на просушку. Это все согласно нашей вере. Просто я не нахожу здесь ничего романтичного.
Эла покачала головой и, обратившись ко мне, закатила глаза.
– Безнадежен! – Она доверительно понизила голос. – Он безнадежен. Всегда таким был.
Обернувшись к жрецу, Эла протянула открытую ладонь, словно предлагала ему город, как горсть драгоценностей.
– Оставим романтику. Но ты хоть признай, что это красиво.
– В темноте. Издалека. – Он покачал головой. – Но издалека и груда свежего дерьма в лунном свете красиво блестит.
– Коссал! – в негодовании воскликнула Эла. – Есть ли в целом мире хоть что-то тебе по нраву?
– Рашшамбар. – Он поднял палец, словно собрался подсчитывать перечисленные названия, подумал и опустил ладонь. – Только Рашшамбар. Там тихо. И нет такой влажности, поцелуй ее Кент.
– Если ты так любишь Рашшамбар, – спросила я, – зачем пришел сюда?
Он не удостоил меня взглядом, хмуро разглядывая огни и воды Домбанга.
– Потому что бога люблю больше.
– Бог везде, – возразила я. – А на место моего свидетеля нашелся бы другой.
– Может, я не только свидетельствовать сюда пришел.
На этот раз Эла удивилась неподдельно:
– Открой дамам тайну!
Он помолчал, озирая город гневным взглядом, и наконец обернулся к нам:
– Надо кое-кого убить.
– И ради этого ты тащился в такую даль? – упрекнула Эла. – Не знаю, о ком ты говоришь, но уверена, он бы и сам собой умер.
– Может, да, – ответил Коссал, – а может, и нет.
Еще на подходе к городу нам стали попадаться причаленные к перилам по сторонам моста плоскодонные баржи и узкие длинные лодки. Посредине каждой стояла маленькая палатка – в сущности, просто полотняный навес, кое-как укрывающий от москитов, – но спящих мы не увидели. На корме у каждой лодки красные фонари разгоняли темноту и подкрашивали кровью черную воду. На островках из надежно сцепленных барж лодочники сходились на одну палубу, чтобы выпить в обществе соседей. Воздух загустел от запаха дыма, жареной рыбы и съедобного тростника. Даже дети в этот поздний час еще не ложились, а со смехом и визгом лазали по бортам. Случалось, кто-то из них с плеском валился в воду. Остальные, осыпав приятеля насмешками, вытягивали его из протоки и возвращались к игре.
Глядя, как легко выбираются из воды ребятишки, я вспомнила женщину, которая сегодня не выбралась, – как она кричала, силясь вырваться из трясины, где к ее ногам подбирались голодные квирны. В такой близости к городу самые опасные обитатели дельты встречались редко – их отпугивали мутная вода и шум над ней. Дети здесь были в безопасности, если дети вообще бывают в безопасности. Я сама не упомню, сколько времени проводила в водах Домбанга, и все равно, глядя на черную лоснящуюся поверхность, невольно представляла под ней невидимые ужасы, острозубые и терпеливые.
От непроницаемого молчания вод меня отвлекла музыка. Домбанг всегда был музыкален. Я и музыку запомнила с детства – большей частью барабаны и флейты из толстостенного копейного тростника. Таким флейтам бы играть медленные навязчивые мелодии, но только не в Домбанге – здесь жили пронзительные плясовые и бодрые песни гребцов, а быстрая дробь тяжелых барабанов вечно подгоняла мотив, принуждая звучать громче и напористее.
– Я здесь натанцуюсь до кровавых мозолей, – объявила Эла, задержавшись послушать особенно живую мелодию и постукивая себя по пятке сложенным зонтиком.
На миг я услышала здешнюю музыку ее ушами – чистой и ничем не запятнанной. Но только на миг, пока не вернулись давние годы, когда беззаботные звуки ночи представлялись маской, скрывавшей тихие, потаенные звуки насилия. В этой музыке всегда присутствовало иное движение, темнее танцевальных коленец.
Фонари фонарями, смех смехом, а Коссал был прав. Углубляясь в город, я вспоминала правду: Домбанг вблизи уродлив. С резных коньков крыш свисали светильники, женщины в открытых блузах склонялись с балконов, с ними и между собой перекликались мужчины в ярких вечерних нарядах (перехваченных шарфами жилетах-безрукавках на голое тело), но в тенях, куда не достигал свет, просмоленные опоры неустанно разъедала гниль. Рыбьи скелеты – хребты, плавники да головы – сбивались в стоячих омутах. Там, где течение было сильнее, бежала чистая темная вода, но в тысячах заводей, отгороженных плотинами, медленно, как во сне, всплывали из темноты странные тени, поворачивались на свету и снова таяли в глубине. Рашшамбар открыл мне знание о смерти, но здесь была не смерть – умирание. Я еще ребенком это чувствовала. Ребенком – особенно остро.
Я так затерялась в воспоминаниях, что налетела на остановившуюся Элу.
– Дамы и господа, – точно со сцены, провозгласила она. – Представляю вам «Танец Анхо».
Она широко повела рукой, указывая налево, где стояло здание с широкими окнами. Его отделял от мостков узкий канал; изящная резная арка переправы выводила на площадку, уставленную столиками для посетителей.
– И почему я не удивлен? – поморщился Коссал.
– Ты потому не удивлен, – сообщила ему Эла, – что я еще в Рашшамбаре обещала привести вас в лучшую городскую гостиницу с лучшим оркестром, тончайшими винами и самыми распрекрасными посетителями. Что и исполнила.
Не мне было судить изысканные заведения Домбанга (я провела детство в трущобах восточной окраины среди покосившихся свайных хижин над вонючей водой), но с тех пор навидалась других городов и могла сказать, что Эла говорит не зря. Шесть музыкантов – два барабанщика, два флейтиста и два певца: мужчина в открытом жилете и женщина в ки-пане с разрезами на бедрах – расположились посреди площадки. Играли они лучше всех, кого нам довелось услышать по дороге: громкий будоражащий мотив, исполненный жизни, и в то же время сложный, насыщенный. Нарядные танцоры исполняли перед ними старинный домбангский танец, а сидевшие по сторонам завсегдатаи ладонями отбивали ритм. Голые до пояса подавальщики – отобранные, как видно, по красоте и изяществу, – подняв над головой подносы, легко пробирались через толпу. Женщины в просторных блузах с низким вырезом трудились за стойками: в свете факелов вращали бокалы, подбрасывали, ловили у себя за спиной и ловко разливали золотистые напитки из высоких бутылей.
– А ты не слышала, как я еще в Рашшамбаре сказал, что предпочитаю места потише и потемнее? – ответил Коссал.
Эла выпятила губки, задумчиво окинула взглядом звездное небо и покачала головой:
– Нет, такого не слышала.
– Ты понимаешь, – проскрежетал Коссал, – что я хоть сейчас мог бы отдать тебя богу? Ты стала бы щедрой жертвой.
– А вот и не отдашь.
– Такая уверенность и губит людей.
– Мертвая я уже буду не так хороша.
– Наоборот, в качестве трупа ты будешь прекрасна.
– Если задумал до меня добраться, поспеши, – посоветовала Эла. – Проворства у тебя с годами не прибавляется.
– А в Рашшамбаре ты говорила, что я еще молод.
Эла обхватила его за пояс, притянула к себе. Он, не противясь, позволил ей промурлыкать на ухо:
– Так то было в Рашшамбаре.
Коссал, окинув ее суровым взглядом, отстранился.
– Я найму комнату и лягу спать. И тебе советую, – бросил он мне.
– Но ведь еще нет и полуночи! – воскликнула Эла.
– Ты здесь можешь заниматься чем вздумается, – угрюмо напомнил он жрице, – а девочке завтра с утра работать. Ее Испытание уже началось – в тот момент, когда она вогнала нож в ту несчастную. Значит, до окончания четырнадцать дней. Уже меньше. Не так много остается свободных вечеров для выпивки и танцев.
– Не знаю, – ответила Эла, выпустив его, чтобы обвить тонкой рукой мою талию. – Я всегда замечала, что выпивка и танцы проясняют мысли.
И, не дав мне возразить, она увлекла меня по узкому мостику к гостинице – к столику поближе к музыкантам.
– Ну, – заговорила Эла, выгибаясь и потягиваясь на стуле, – ты наконец мне расскажешь?
На столике между нами стоял графин из дутого стекла – почти полный, уже третий за эту ночь. Жрица потянулась к нему, наполнила мой бокал, а поставив запотевший графин, слизнула с пальцев влагу. Мне она напоминала кошку – нарочитой небрежностью движений.
– Что рассказать?
Она повела пальцем по кругу, обозначив разом весь город.
– Зачем мы здесь.
Я набрала воздуха в грудь, чтобы заговорить, но передумала и просто отхлебнула вина.
– Как я понимаю, – заметила, помолчав, Эла, – ты здесь выросла?
Я осторожно кивнула. Во мне горячо и ярко плескалось вино. Мир казался одновременно широким и тесным.
– И здесь же, – предположила она, не дождавшись ответа, – ты принесла первые жертвы богу.
Я снова отпила из бокала, ощутила розовую жидкость на языке, в горле.
– Если их можно назвать жертвами, – кивнула я.
– Всякая смерть – это жертва.
За плечом Элы посреди пустеющей танцевальной площадки свились в одно целое мужчина и женщина. Ее руки были повсюду, словно прорастали лепестками из его тела.
– Мне показалось, в знакомых местах можно смелее надеяться на удачу, – наконец ответила я.
– Ты хотела сказать: «среди знакомых людей», – поправила она, наклонившись над столом.
Свет играл на ее темной коже, так что казалось, она светится изнутри.
– Все, кого я знала в Домбанге, умерли, – возразила я. – Я их убила, прежде чем уйти.
– Предусмотрительная девочка, – рассмеялась Эла. – Непременно расскажешь, когда будет время.
Я покачала головой и, сама удивляясь твердости своего голоса, ответила:
– Нет, не расскажу.
Наши взгляды на миг скрестились. Я отвернулась первая.
– Пожалуй, пора спать.
– О, бесспорно! Надо было давно лечь по примеру Коссала. – Эла, предупреждая мой ответ, подняла палец. – Но мы не легли, и теперь за нами должок.
– Перед кем же? – заморгала я.
– Перед вином, Пирр! Перед вином!
Она со смехом указала на графин, отражавший свет факелов так ярко, что сам мог сойти за светильник. Мне представилось, что и во мне вино светится розовой луной.
– Ты меня нарочно спаиваешь, чтобы я проболталась.
Слова медленно шли с языка и звучали глупо.
– Конечно, – усмехнулась Эла. – Признаться, секреты я люблю не меньше нарядов.
– А если я скажу, что выбрала Домбанг безо всякой причины? Или что просто хотела его повидать, пока вы не воткнули в меня нож?
Подливая вина в свой опустевший бокал, Эла не отпускала моего взгляда.
– Я пойму, что ты лжешь.
– Это почему?
В ее темных глазах светилось вино.
– Дама своих секретов не выдает, – ответила жрица.
– А моих добиваешься?
– Молода ты еще для дамы.
– А как насчет тебя? – спросила я, прищурившись. – Ты дама или жрица?
– Ты не поверишь, как часто я себя об этом спрашиваю.
– И что же ты себе отвечаешь? – спросила я.
– О, вряд ли мне решать. Если послушать Коссала, я не более чем заноза у него в заднице.
Я уставилась в свой бокал, пытаясь привести мысли в порядок. Певцы умолкли, флейтисты тоже, только два барабанщика отбивали четкий ритм в ночи.
– Ты правда думаешь, он смог бы тебя убить? – спросила я наконец.
Эла задумчиво поджала губы:
– Какой же он жрец, если не смог бы?
– Но он тебя любит.
– Допустим, – дернула она плечами. – Тем не менее мы поклоняемся не Эйре, а Ананшаэлю.
Прямо над нами распахнулись деревянные ставни – в ночь пролился звонкий вольный смех. Я успела заметить пару рук, закрывавших створки, и смех затих.
– А ты его не любишь, – сказала я.
Эла долго разглядывала меня, прежде чем покачать головой.
– Со стороны об этом нельзя судить, Пирр. Ты так же не в силах стать мною или Коссалом, как мы не в силах стать тобой. Я могла бы описать тебе всю свою жизнь: каждый поцелуй, каждое женское бедро, каждый смешок, каждый всхлип, каждый отвердевший член, только все это ничего не значит. Слова – полезный инструмент, но всего лишь инструмент. Правда в них не уместится. Чтобы остаться в живых, тебе придется найти свой путь.
Я глубоко вздохнула и снова поднесла к губам бокал, – ощутила кожей его тенистую прохладу и, запрокинув, стала пить. Мне чудилось, я очень долго просидела так, с закрытыми глазами, слушая назойливый перестук барабанов, и десяток взлетающих и ниспадающих голосов вокруг, и приглушенный ропот разделенных сваями помоста струй Ширвана, вслепую сбегающих к соленому морю. Когда же я все-таки подняла веки, то увидела перед собой темные, круглые, внимательные глаза Элы.
– Его, – заговорила я, – зовут Рук Лан Лак.
– Рук Лан Лак, – повторила Эла и изящно облизнула губы, словно имя оставило на них соленый привкус. – Расскажи мне про Рука Лан Лака.
Я колебалась. Моя история представилась мне камнем на краю обрыва: сделай шаг от настоящего, и падения уже не остановишь.
– Он здесь, – неуверенно заговорила я. – Должен быть здесь. Год назад был.
– Как ты узнала? – выгнула брови Эла.
У меня загорелись щеки.
– В прошлом году Тремиэль работала по найму в Домбанге. Когда она вернулась в Рашшамбар, я ее спросила про Рука.
Эла восторженно захлопала в ладоши:
– Ты его выслеживала! И при этом всю дорогу до города оплакивала жесткость своего холодного бесчувственного сердца! Однако… – прищурилась она, – в Домбанге четыреста тысяч человек. Как Тремиэль его узнала?
– Он не просто человек, – поморщилась я.
– Все мы просто люди, Пирр. Это едва ли не первый из уроков Ананшаэля.
– Пусть так. Но я хотела сказать, что он здесь известен.
– Не люблю знаменитостей, – цокнула языком Эла. – Много лет назад во Фрипорте я влюбилась в одного вестеда. Ничего хорошего не вышло.
– Я в него не влюблена.
– Однако намерена влюбиться.
– «Намерена» слишком громко сказано, – досадливо фыркнула я.
Раскручивая вино в бокале, Эла задумчиво поглядывала на меня поверх края.
– Не разочаровывай меня, уверяя, что за месяц пути в твоей голове ни разу не блеснула мысль, как к нему подобраться. Люди говорят: «Влюбиться – как в лужу свалиться», будто можно влюбиться по рассеянности. Я же полагаю наоборот – влюбляются всегда обдуманно.
– Я знаю, как добиться его внимания.
Эла ждала, неспешно попивая вино. Я оглянулась, прикидывая расстояние до соседнего столика, потом склонилась вперед, обхватила ладонью бок графина в бусинках тумана и прижала ее к дереву столешницы. Когда я отняла руку, на жаждущем дереве остался отпечаток. Я почти сразу стерла его ладонью.
– Знаешь, что это?
– Зверь о пяти ногах и без головы?
– Это символ, – понизив голос, проговорила я.
И сбилась, не зная, как продолжить. Эла выждала немного, закатила глаза и, обмакнув палец в вино, вывела два сцепленных посередине полукруга.
– Вот это символ, – подделываясь под заговорщицкий шепот, сообщила она. – Все не могу решить, на что он больше похож: на попку или на пару округлых грудок.
Она еще понизила голос:
– Ты могла бы послать его этому Руку запиской и спросить, что ему больше по вкусу.
– Я и так знаю, что ему по вкусу.
Эла округлила губы буквой «о».
– Тем проще будет его соблазнить.
– И соблазнять я его не собираюсь.
Жрица все так же напоказ помрачнела:
– Какое разочарование! Я, как свидетель, что ни говори, обязана была бы засвидетельствовать… – Она покачала головой. – Ни соблазнения, ни задницы, ни грудей. Что же тогда?
– Восстание, – выдохнула я, припав к столу.
– Это такая поза для соития? – захлопала глазами Эла.
– Это пропасть, над которой не одно десятилетие висит Домбанг.
– Висит… какая скука.
– Если мы его подтолкнем, станет веселей.
– Мы? – повторила Эла. – Не забывай, я здесь ради танцев и нарядов.
– Можешь подобрать славный наряд для бунта.
– Для веселья любой повод хорош. – Она нахмурилась. – Но какое отношение это имеет к…
Она долго и старательно подмигивала мне, прежде чем кивнуть на остатки влажного отпечатка.
– Это, – спокойно сообщила я, – «кровавая длань».
– Кровь я бы узнала, – возразила Эла. – Она красная.
– Будет красной, когда я всерьез возьмусь за дело.
– А в чем «дело», не скажешь?