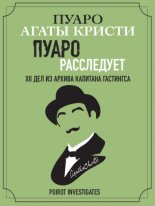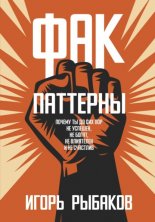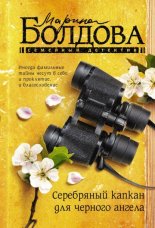Гринтаун. Мишурный город Брэдбери Рэй
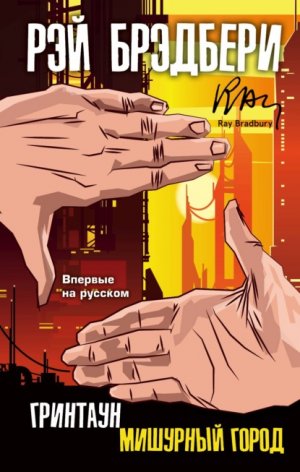
Потрясающая мысль, не правда ли?
Остановимся на ней.
В мире живут тысячи тысяч людей, обманутых, подавленных, но вместо того чтобы распрощаться с жизнью, они выживают сумасшествием.
Наш самый сильный порыв от зародыша и далее – это выдыхать и вдыхать, держаться на плаву. Любой ценой, чего бы это ни стоило. Самосохранение – старое клише. И если «я» может сохраниться в холодном ночном поту безумия, так это лучше, чем могила. Лучше уж худая свеча с тусклым огоньком, чем никакой свечи.
Так что, как видим, безумие – это еще один способ держаться, чтобы не сойти со сцены навсегда. Мы так любим жизнь, что ни за что не хотим с ней расставаться. Она как липучка от мух, которую У. К. Филдз не мог отодрать со своей клюшки для гольфа, поощряемый лилипутом – подносчиком клюшек. Такое ощущение, что старый добрый У. К. все еще чертыхается под ливнем, оглушенный молнией, но отбивается от натиска стихии своими клюшками, неистово и до конца.
В моей жизни бывали моменты, когда мне, как и всякому человеку, нужно было выплакаться. И вместе с тем я не хотел своей скорбью причинить боль кому-нибудь в нашей семье. Мне хотелось побыть наедине со своей печалью, чтобы она истекла слезами, как кровью, чтобы жить дальше. В годы после кончины отца я временами тосковал по нему так, что мог расплакаться от боли. В такие моменты я запирался в ванной и вставал под душ, где струи воды не только омывали мою плоть, но и заглушали мой неудержимый плач, а слезы очищали меня изнутри. Стоит попробовать. Оглядываясь на себя под душем, плачущего как бы под дождем, я не могу не задуматься: какая сильная сцена для фильма. Я никогда не встречал такого на экране. Однажды нужно будет ею воспользоваться. Здесь присутствует метафора. Чувственность, но не расчувствованность. Здесь человек делает то, что должен, здесь слезы, которые он должен излить, печаль, от которой не может сбежать. Так что делайте свое дело. А сделав, шагните освеженным в мир, в лоно семьи, чувствуя себя лучше, но не умудреннее.
Итак, я попал в ловушку истины.
Итак, я хожу на фильмы за помощью к тем, кто, хочется надеяться, разгуливая по миру, столкнется с похожими истинами и подарит их мне. Ибо я, подобно всем человекам, испытываю нужду, и мы должны обмениваться: одну вашу схожую истину на одну мою, или, если необходимо, две за одну по дешевке.
Голливуд на роликах
Я часто рассказываю эту историю, но, пожалуй, она того заслуживает.
Как-то под вечер весной 1934 года я, тринадцатилетний, катался на роликовых коньках перед студией «Парамаунт».
И кого бы, вы думаете, я увидел там, как не героя всех поколений? Мистера У. К. Филдза[32] собственной персоной!
Я бросился к нему, всучил ему карандаш и листок, вырванный из блокнота, и попросил автограф. Он расписался, кинул мне и прокричал:
– Держи, маленький сукин сыночек!
Так состоялось мое знакомство с Голливудом. Я всегда стараюсь быть ему под стать.
И по пути, катаясь на роликах, я встречал прославленных и еще не совсем прославленных личностей, которые ходили или ездили по улицам старого доброго Голливуда. Это было время роскошных ресторанов и ателье мод. И если вы видели, как Роберт Тейлор[33] выходит из ресторана «Браун Дерби», то стоило обернуться, и вы могли созерцать, как Джин Харлоу[34] заходит в «Сарди».
Елисейские (У. К.) Филдзы
Ты орал: «Тьфу ты, черт!», когда полоумные собачки покусывали тебя за пятки.
Своим проспиртованным дыханием ты, как огнеглотатель, выжигал все на своем пути.
«Мы обожаем тебя!» – тявкали дворняжки, сами не понимая почему. Как впрочем, и я.
О, славный Элизиум Филдз (вот, я это сказал!)! Мессия нашего времени, затертая до дыр мечта. Каждый божий вечер мы смотрим, как ты ругаешься со складной гладильной доской, разглаживая свои клетчатые костюмы паром из каллиопы.
Святые, в большинстве своем, поисчезали, а ты выжил благодаря праздничному пиршеству кино, подобно Новой Пятидесятнице, чтоб возопить: «Чёрт побери!»
Ах, как ласкают слух сии слова!
Благословен будь, Уильям Клод! Ты пошел домой не той дорогой, перехитрив Бога, но все же ты наводил о Нем справки.
Когда тебя застукали в постели с Библией (!), ты сказал: «Это всего лишь волос Пса Небесного, что укусил меня в одиннадцатилетнем возрасте».
«Глоток, кивок, косой взгляд».
Откашливаясь, захлопываешь Книгу, говоришь: «Ищу лазейки!»
Вот как ты отшиваешь тех, кто придирается к тебе. Затем тасуешь карты в поисках грехов, что изобилуют в тониках, жидкостях для полоскания рта, бомбейском джине и текиле, которыми битком набит твой холодильник, чтоб взять на прицел мир, оболваненный тупицами и подлецами.
Твой силуэт на голубом экране нам помогает вести себя как подобает, ну или почти как подобает.
В три ночи (полночь наших душ) на шоу.
Ты приволакиваешь гнусную особу, способную хоть фурию, хоть ведьму покусать. А после угощаешь виски в утешение, бурча под нос сорокоградусным дыханием, могущим победить простуду или сокрушить смерть.
Старые газеты стаями голодных птиц
слетаются,
Терзая и кромсая плоть твою, измученную
коньяком.
За что?
Должно быть, они учуяли твое пристрастие
к словечкам и речам трескучим.
О Боже! Вон как они кучкуются и жмутся
стайками к твоим коленям,
Чтоб назидания твои услышать:
«Рангунский лютик! Средство мощное от хвори,
вызванной ромовыми возлияниями: бомбейская
штокроза».
Или:
«Ищите и обрящете в энциклопедиях
небывальщины меня».
«Я прорубился сквозь стену человечьей плоти,
волоча свое каноэ!»[35]
Такие существительные, как: «пиноши» (карты)
и «панаш» (щегольство),
Или: «битва ирокезов на веранде».
Все эти словеса тебе принадлежат; ах, как я обожал
твою абракадабру!
Но от твоих миазмов диких свихнуться мог бы кто
угодно.
У дядюшки у моего дыхание было точь-в-точь как
у тебя,
Хоть зажигай рождественскую елку от испарений
дядькиных.
Чуть бабушку не подпалил, когда она суп разливала
по тарелкам —
«Маллигатани» – ты мастер был словечки
смаковать, как самогон.
Однажды ночью тебе почудилось, что из печной
отдушины
Запели ангельские голоса[36] – con brio
(то есть «с жаром»).
Божественное песнопение из подвала заставило тебя
Спуститься, чтобы выгнать разгулявшихся
домушников,
И распечатать пару-тройку бочонков винных
за компанию с ними,
Чтобы в безбожные часы ночные твоя вздорная
жена,
Разбуженная богомерзким пением,
Услышала твой голос, горланящий в составе трио
на троих,
В аду подвальном, превращенном в рай глотком
вина.
Вот почему твой глас, наполовину рык,
наполовину похвала,
из-под моих решеток вентиляционных звучит
и услаждает дни мои.
Когда незрячий и ворчливый Макл[37] расколотил
своею склочной тростью
Стекло дверное в твоем магазине,
А ты,
В борьбе неравной со своею шляпой,
В поисках кумкватов[38] кричал ему отчаянно:
«Сидите, мистер Макл, сидите, уважаемый,
сидите!»
Затем брюзгливый мистер Макл, вслепую,
мановением трости
Низринул на пол один десяток спелых лампочек,
потом другой,
Устроив канонаду, повелев при этом, чтобы
Пакетик жвачки доставили ему домой,
Поскольку недосуг ему таскаться с этакой
поклажей.
А затем, затем, затем… аж в жилах стынет кровь…
Взрыв хохота!
Ну кто же, как не христианин Филдз,
мог выставить слепца на улицу,
где, притаившись, ждут пожарные машины.
«Идите, мистер Макл! Улица пуста.
Поторопитесь, милый мистер Макл!
Идите же!»
Словечко «инкунабула» частенько ты произносил,
Не зная толком, с чем его едят,
Однако причмокивал ты смачно языком,
Не в силах отказаться от привкуса его и аромата.
Но лучше неизвестные, но сочные созвучия
слогов, чем
Песни старые, все с теми же затертыми словами.
Ты обладаешь свойством замечать «дерево катальпа»[39],
Сидя в мчащемся автомобиле с оторванным рулем,
Преследуемый ножиками, потом ножами
подлиннее, которыми тебе угрожает бандит[40],
А ты спокойно держишь путь к Восточному
Канарси,
Обгладывая гласные с согласными,
Как людоед на миссионерской вечеринке,
Где угощают звуками английскими.
Слова – твой хлеб насущный, а слоги —
дрожжи!
Ты заново их изобрел пока бежал от
полицейских.
Я видел в детстве, как ты облапошиваешь простофиль, как понатыкал ты картофелечистки на углу пожарного депо в Альтабеке, штат Висконсин, и в Панксатони.
Ты в раннем возрасте учил меня, что жизнь – это чаша с вишнями, суровая дева-библиотекарша с топорным личиком либо невеста – капкан медвежий у тебя в постели поутру, и с подбородком-колуном и с шеей игуаны.
Так что все это ты топил в бочонке с огненной водой. Что в том преступного? Мне трудно быть судьею твоей жизни.
Нет у меня ни злых твоих детей, ни женушки, что пилит ежечасно.
Рассказывают, будто начинал ты бродячим
акробатом,
Жонглируя сигарными коробками в компании
бандитов и убийц из Южной Пеории,
Что ты сбежал от папочки, который синяками
награждал тебя, как орденами
За добрый нрав и радостный настрой.
И ты подумал: раз доброте навешивают этакие
эполеты,
Так надо к черту их сорвать. Что ты и сделал. И сбежал!
И вот я вижу: ты летишь вдогонку
автопокрышкам, скачущим под горку,
В тисках безумного смертельного потока,
Через всю мою жизнь, попыхивая мятной
сигаретой —
Дух изо рта такой, что перебьет и освежитель рта.
Закладывая виражи, гоняясь за чертовой
покрышкой вдоль железнодорожного полотна
Потаватоми,
В ответ ты огрызался, а не хныкал, и не глядел
назад.
А был ли ты счастливым, мистер Филдз?
Была ли у тебя отдушина, чтоб отдышаться от
мрачных ведьм и бешеных хрычовок,
Все сокрушающих в супружеском неистовстве?
Имел ли ты надежное пристанище, где можно
было б алкоголем раны излечить?
Имел ли ты убежище, где б обитали грешники и
ром?
Где ты бы мог часами парить ноги и нежиться на
солнышке?
Неужто ты терпел за поражением поражение,
Билл?
Иль все же удалось тебе выиграть обшарпанный
Грошовый приз из гипса, зовущийся «Черт
побери!»?[41]
Нашлась хотя бы женщина одна, желанная,
Чтоб всем на свете стала для тебя?
Не осуждавшая тебя, когда ты падал,
А помогавшая тебе подняться?
Да ладно, чего уж там…
Немало лет прошло с тех пор, как ты топтал
растресканные тротуары нашей жизни, изрыгая
пламя.
Твоя высокомерная, но добрая душа маячит привидением на экранах наших, когда реальный мир, отгородившись, спит, а ты фиглярствуешь, язвишь в компании малыша Лероя[42], как серебристый призрак, похороненный, но вечный.
Ты, распростертый, с лилией в руке лежишь
в холодной комнате.
Монеты (фальшивые – все до единой) скрывают
твои веки,
Ты притворяешься, как будто бы попал
на Страшный суд;
Но, прежде чем твой заколотят ящик напоследок,
Вздрогнут твои веки, ты меня отыщешь взглядом
и подмигнешь.
Ты бормочешь: «Боже, я не верю.
Этот призрак в ночнушке белой – аферист!
Сейчас ему как врежу!»
И, гляньте, вот, единственная Дама,
Запрятанная в рукаве, как в роге изобилья,
Вываливается (и побеждает!):
«Снимай колоду»!
Ты снимаешь. Мухлюешь. И смываешься.
Бежишь плескаться в ромовых морях
И, утопая, прополаскиваешь горло старинным
гимном
Всех терпящих крушение кораблей:
«Все ближе я к Тебе, о Господи…
Хоть я не так уж и уверен в этом!»