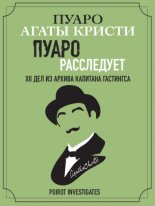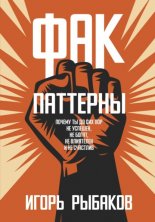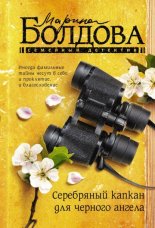Гринтаун. Мишурный город Брэдбери Рэй
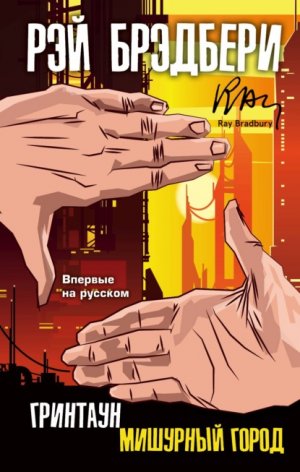
Ray Bradbury
GREENTOWN TINSELTOWN
Copyright © Ray Bradbury 2012
Collection and editorial material © Donn Albright 2012
Introduction
Copyright © Donn Albright 2012
Перевод с английского А. Оганяна
Серия «Неизвестный Брэдбери»
Оформление серии и переплета: Александр Кудрявцев, студия графического дизайна «FOLD & SPINE»
Иллюстрация на переплете Ю. Гранкиной
© Оганян А., перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
* * *
Предисловие
Это моя пятая (…и последняя) попытка написать предисловие к этой книге. Вообще-то заглавие и оглавление и так говорят сами за себя.
В сборник вошли двадцать три стихотворения[1], всевозможные статьи и интервью, из которых складывается картина волшебного детства Брэдбери в Уокигане с 1920 по 1935 год. Книгу предваряет самая первая публикации Рэя в газете его родного города – стихотворение «Памяти Уилла Роджерса». Раздел, посвященный Гринтауну, мы завершаем двумя короткими рассказами. В первом запечатлены летние приключения юного мальчугана в компании любимых товарищей по играм. Затем следуют четыре зарисовки из жизни маленького города.
И вот в 1935 году – курс на Запад! Очередную главу его жизни открывает факсимильная копия с пометками Рэя, сделанными вскоре после прибытия в Лос-Анджелес, на его экземпляре «Шахматисты Марса», купленном в универмаге «Мэй».
Опять-таки, несколько стихотворений и статей, одна из которых никогда ранее не публиковалась, – «Сын Фантома Оперы вспоминает». Она иллюстрирована факсимильным изображением форзаца его собственного экземпляра «Фантома Оперы», опубликованного издательством «Фотоплей». Его автограф и дата «22 августа 1930 года» (десятый день рождения Рэя) превращают сей экспонат в бесценную реликвию.
Мне особенно приятно поделиться с вами дневниковыми записями Рэя из 1937–1941 годов (все – факсимильные). Они отображают восторженный взгляд подростка на Лос-Анджелес и Голливуд конца 1930-х годов. Завершают книгу светлые воспоминания о его друге Сэме Пекинпа не без привкуса горечи.
И, наконец, на обложке – картина 1970 года кисти Рэя, изображающая гринтаунские денечки. На портретах Брэдбери Мерль Оберон, Джордж Брент, Джордж Мерфи и, конечно, Бела Лугоси олицетворяют годы, прожитые в Мишурном городе. Автограф на первой странице обложки относится к 1934 году. На последней странице обложки – автограф из 1937 года[2]. На корешке – автограф из 1939 года.
Айда со мной в виртуальной капсуле времени – погостим у сказочника в годы становления его личности!
Донн Олбрайт
Посвящение
Всякий раз, как я навещал Рэя во время затяжной и замысловатой работы над этой книгой, я читал ему выдержки из его дневника. И каждый раз, хватая меня за руку, он говорил:
– Боже праведный! До чего же здорово мне жилось! Неужто я такое вытворял?
От нас двоих – всем вам!
Донн (и Рэй)
Памяти Уилла Роджерса[3]
Тот, кто всю жизнь комедиантом был,
Нас ограждая от тоски и боли,
Кого мы звали просто Билл –
Посланник нашей доброй воли
Перо сломал.
Его чернильница разлилась,
И душа навстречу с
Богом устремилась.
Где та его бодрящая улыбка,
Что согревала целый свет?
Отныне не слыхать нам добродушных шуток.
Увы и ах! Они сошли на нет!
И вот когда нагрянул расставанья час,
Никто не прятал слез, что брызнули из глаз.
В честь долгой дружбы
Мы, возлагая на твое надгробье
Сей венок, стоя в изголовье,
Клянемся тебя помнить вечно.
Уилл Роджерс – памятник всем человекам,
Слепым и нищим, хворым и немым, калекам.
В сердцах у нас твой светлый образ заполыхал,
Род человеческий поник главою и зарыдал.
Аэроплан багровый взял курс на Север,
Тоскуя по просторам,
И канул в неизвестность,
Недоступный взорам.
А мы потрясены и до сих пор скорбим –
Дружище Уилл был нами так любим!
Первый материал, опубликованный Рэем Брэдбери в возрасте 16 лет, в газете «Уокиган ньюз-сан», август 1936 года.
Гринтаун, в понедельник вечером
Маленькие города, можно сказать, все на одно лицо. И все понедельники вечерами в маленьких городах по всей Америке похожи один на другой. Во всяком случае, мне так думается. Так что наречем мой родной город Гринтауном, штат Иллинойс, и посмотрим, как живется в понедельник вечером десятилетнему, одиннадцатилетнему или двенадцатилетнему мальчишке. Вечер выдался весьма незаурядный. В такой вечер надеваешь самую быстроногую пару кроссовок, со смазанными внутренними пружинами, в полной готовности, в рабочем состоянии, и пулей вылетаешь за дверь после ужина, а потом возвращаешься, потому что ты хлопнул сетчатым экраном. Но потом ты летишь как угорелый с братом или одним-двумя приятелями. А куда же вы несетесь очертя голову?
В библиотеку, конечно.
Ибо на понедельник назначался библиотечный вечер, и не только все книги с их тайнами дожидались тебя, но и твои товарищи с соседями. Библиотека слыла большим водопоем, куда стекались звери, большие и маленькие, приходили из темноты, чтобы испить и улыбнуться друг другу при свете зеленых стеклянных абажуров между горами книг. Вот куда мы сбегались весенними вечерами, словно ягнята, сновали, как теплая форель в винных ручьях, летними вечерами гонялись за скрученными листьями, как за мышками, осенними вечерами или летели, как запущенный снежок, зимними вечерами – и всегда в то же место и по понедельникам. Ты бежал, ты тащился, ты летел, но ты туда добирался. И там всегда наступал тот неповторимый миг, когда перед большими дверями ты задерживался, прежде чем их распахнуть и войти в гущу всех тех жизней, перешептываний древних голосов, столь высоких и тихих, что только собака, семенящая между книжных полок, смогла бы их расслышать. И ты семенил.
И вот свободное пространство, и зеленые абажуры, и приятели, призраками крадущиеся промеж стеллажей кто в прошлое, кто в будущее.
Поначалу ты не читаешь книги. Нет, ты их обнюхиваешь. Я всегда думал, что если бы мне повстречался Авраам Линкольн, от него пахло бы книгой, ибо именно там я встретился с ним в первый раз. И египтяне. То же самое. Пахли как книги, как книжная пыль, особенная пыль. Наполеон со своими войсками, и Цезарь со своими. Назовите любое имя, любой народ, и ваше обоняние напомнит, какой аромат они источали в понедельник вечером, неистребимое, неотразимое и животворное благовоние невидимой пыльцы, которая осыпалась с их макушек, стоило снять их жития с полок.
Довольно о носах, играющих важную роль, прежде чем с головой уйдешь в открытые страницы. Затем начинаются поиски, искания жизней, с которыми хочется связать свою собственную, хождение вдоль шкафов, выхватывание томов до тех пор, пока откуда ни возьмись со страницы не выпрыгнет мужчина, или женщина, или ребенок и не предстанет перед тобой в оглушительной тишине. Тогда ты присаживаешься с ними на часок, бегаешь, смеешься и плачешь с ними. А потом приходила пора закрываться, и ты прихватывал с собой столько книг, сколько мог унести, и тебя не озадачивала их тяжесть, потому что они воплощали годы и людей, опыт и товарищей, и ты медленно направлялся к выходу. Иногда ты уходил последним и стоял, глазея на ряды полок, где, как тебе представлялось, хватало места для кораблей викингов, проплывающих мимо в лунном свете, для Ганнибаловых слонов, покоряющих Альпы и бредущих в вечность.
На твои книги ставила штампик библиотекарша, которая порою не нуждалась в книгах, так как держала их в голове. Стоило ее слегка ткнуть, и она бы продекламировала наизусть: «Восемьдесят семь лет тому назад»[4], или «Наэлектризованное тело воспеваю»[5], или «О, капитан! Мой капитан!»[6].
Преисполненный светлой тоски, ибо библиотека всегда сочетает одно с другим – Сиюминутное Просветление с Тоской по Давно Минувшим Дням, так как тебя тогда еще не было на свете, чтобы этим насладиться, ты выносишь свою прекрасную ношу за дверь, вниз по ступенькам, в компании брата или других мальчиков. И сначала ты не бежишь, а медленно шагаешь, разглядывая книги, а затем прибавляешь ходу, зажав книги под мышками, и только спустя долгое время, когда волшебство библиотеки уже полностью окрылило тебя, пускаешься бежать через весь Гринтаун (штат Иллинойс), вечером в понедельник, в библиотечный вечер, до самого дома.
Вот как у меня было. А с вами тоже так бывало? Или бывает?
Гринтаун
Как все соударяется прекрасно[7]
Залиты небеса чернильной синью,
Эскиз травы зеленой тушью набросан, нарисован,
нанесен,
Овраги вездесущие манят детей в свои
глубины;
С востока на рассвете и на закате с запада
Сочится жизненная сила цвета крови
Там, где, сгущая краски,
Клубятся облака.
Драконьи тени ходят над аэродромом,
Туда-сюда снует воздушный змей,
Снижаясь,
Превращаясь в аэроплан,
Который…
Ах!
Так мягко
Садится
На…
…траву!
Петух, кроённый из железа,
На крыше подвывает ветру
И тычет клювом в дальние края,
Куда есть доступ только детям,
Умудренным тайно мятной жвачкой.
О летних вечерах
Чуть слышно шепчут водостоки
И вспоминают о снегах.
Несет река не лета пыль,
Не камни, ошалелые на солнцепеке,
Не гальку глупую,
А истинную воду.
После полудня тонут улицы в
Прохладной изумрудной тени,
Как в притворе церкви.
А на лужайках – рать одуванчиков,
сверкающих на солнце,
Слепит улыбками,
Собачки семенят,
Коты – комочки шерсти из пылесоса.
Без умолку болтают мальчишки с
пружинистой походкой на резине.
Здесь все чудесным образом соударяется
Без трения.
Всех лечит лето – движения отточены и
быстры.
Здесь нету хвори.
Здоровье мира разлито равными долями,
Здесь гироскоп гудит, раскрученный усильем
пчел,
Что утопают в сонно-сладостном плену
цветочном,
Или колибри, часами источающих чистейший
звук…
В библиотеках, где из книг
С печатными цветами
Цветы засушенные выпадают,
В часах старинных пересохло время,
Они упрямо указуют на незнаемое время,
Которое ни вспомнить, ни забыть.
Библиотекарша здесь пребывает вечно,
Она едва ли знает, что такое юность;
Но чем мы старше, казаться будет нам,
Тем она становится моложе.
Лиловыми чернилами проставленные в книгах
Штампы – следов и дат цепочка —
к мудрости тропа.
Лилейные страницы шелестят и шепчут.
Бормочут мальчики, плутая между стеллажей,
Где все таинственно, подобно замшелому
колодцу,
Куда невежество кричит и слышит обучаемое
эхо.
Вот утесы, вот гранитные карьеры, где
Плаваем мы летними ночами
В прохладе слов
И на берег выходим, испещренные стихами,
Но даже вытертые полотенцем,
Они стекают с наших пальцев
И застилают нам глаза печалью светлой.
Весь городок, дома, лавчонки, «Элит-театр»,
библиотека – все превосходно.
Превосходно лето в превосходном граде,
Где из небес зеленые чернила дождем зеленым
опадают.
А на аэродроме,
Боже, только гляньте!
Как плавно,
Гладко, как красиво,
Смотрите! Видите?
Как пролетают мимо драконов тени:
Аэропланы – подобие воздушных змеев.
Обрезана бечевка.
Несуетливо
Ложатся в нисходящий дрейф…
И
Садятся
На
Траву.
Когда во дворе расцветали слоны[8]
Когда во дворе расцветали слоны,
Извлеченные из чердачной пылищи,
Где они обитали так долго,
Что розочки поблекли на боках,
И они наглотались пыли, и топтали древнюю
траву,
Невидимые глазу, в гуще джунглей,
В гостиной нашей, на полу.
И вот мы вывели на божий свет знакомцев
наших старых
И, выбив шкуры, развесили пред ликом солнца,
И тканые доспехи запестрели красками.
Какая царственность!
Величие Ганнибала, Рима, Альп,
Египетских саванов и гробниц, руин троянских
и дельфийских таинств…
По арабескам, наподобие этих, Виктория
некогда ступала.
На старой свалке для костей звериных
Теперь развешаны изысканные шкуры,
Добыча ржавчины и пыли. Sic transit gloria[9].
Все в прошлом, потускнело, позабылось,
подобно рококо,
Но в юности я выбивал клубы коричневые пыли,
Протаптывая тропки, и вызывал такие ароматы,
От которых могли бы низвергаться короли
И восходили бы на трон безумцы прокаженные
И грешники, раскаявшиеся притворно.
Старинное зверье на бельевой веревке,
Подверженное солнцу и ветрам,
Приливам и отливам времени.
Я ласково вас поколачиваю ракеткой-выбивалкою
из проволоки,
Высматриваю тигров под сенью ваших
крутых холмов,