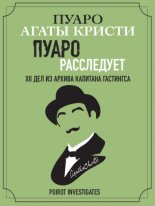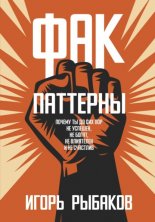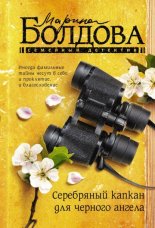Гринтаун. Мишурный город Брэдбери Рэй
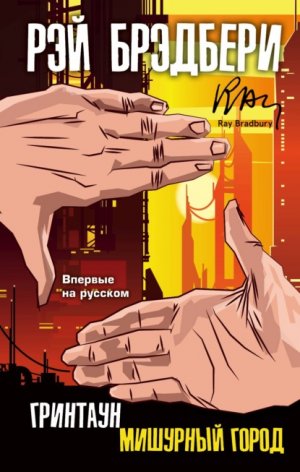
только, затаив дыхание.
Там, на траве, подобно призраку с омытыми
росой ступнями,
Вновь превратившись в деву, одна,
неповторимая, младая, она стояла.
Я плакал при виде отрешенности ее, как будто бы
чужда она была мне,
Вся обращенная в себя, нетронутая внешним
миром, неосязаема, свободна.
Безудержное нечто проступало на ее лице, алели
губы,
Глаза горели, и все это меня пугало.
Зачем она слоняется без нашего или чьего угодно
Дозволения ходить куда-нибудь иль не ходить?
Она же наша мать – или же (о боже) она не наша
мать?
Как, снова непорочная, она осмелилась
Бродить в ночи, что затенила ей лицо,
Посмела выкинуть нас из головы и воли?
Порой ночами тихими, глухими
Мне кажется, я слышу, как она порог переступает
мягко,
И, пробуждаясь, вижу, как она шагает по
лужайке,
Охвачена желанием, мечтами, хотением,
Калачиком свернувшись, лежит там до рассвета,
Полощет ветер ее волосы, она же пренебрегает
холодом
И ожидает незнакомца дерзкого, который
возникнет там, как солнце,
И ослепит ее своей неотразимостью.
И я взываю к ней в слезах:
Младая дева!
Прекрасная девица в предрассветной мгле,
Не против я, нет, нет,
Я тебя не осуждаю вовсе!
Отцов и сыновей застолье
Грусть непонятная, радость великая. Помнишь?
Раз в год собирались мы в обветшалом
спортзале,
Пропитанном запахом потного моря,
пересохшего начисто;
Где за столом сидели папаши-физкультурники
седые с сыновьями,
Рассаживаясь парами вдоль белой скатерти и
серебра отведать курочки с горохом,
С раскисшим летними ночами мороженым —
воспоминанием зимы минувшей и метели.
И, как ни странно, в этой толчее в какой-то миг
Нашелся некто, кто истину изрек.
И каждый осознал и принял справедливость
изречения,
Никто не знал, кто он – мужчина или мальчик,
Отпрыск или отпрыска отец;
Они единою Командой стали,
И каждый сам себе напарника нашел.
Сконфуженные, озадаченные, изумленные,
Смущенные внезапными слезами,
Нежданною любовью, высказанной вслух,
Чтоб через миг ее лишиться,
Когда рукопожатия разжались, и
Высвободились плечи из объятий, и
Вымытые уши остались без лобзаний,
А лбы неприголубленными,
Все снова погрузились в неосязаемые
ароматы,
Источаемые временем быстротекущим.
Разгаданная тайна опять запуталась в мотках
спагетти,
Которых не распутать красноречьем.
Неизреченные мечтания отступают в свое тупое
костное убежище,
А слезы солью просыхают на щеках,
Закатываясь в удивленные
Подслеповатые глаза, следов не оставляя.
Все это прошлой ночью вспоминая,
Я видел, как отец шагает вдоль киноленты
памяти моей,
Но измеряющей его!
В моей плоти, в обличье дружелюбном,
Его я обнаружил:
Он прятался в моих глазах, еще не умудренных,
Но прозревающих, с прищуром уже.
Его давно уж нет на свете, но
Тем острее ощущение потери и грустные мои
искания.
Едва ль его найдешь в носу, в ушах иль
челюстях,
Но только гляньте – на запястье волоски и на
плечах
Горят, подобно блесткам солнца, золота иль
янтаря,
Здесь все, чем был я, есть и скоро буду.
Порою дважды за день я замечаю, как он
проходит мимо,
Иль из-под век я зрением боковым
Раз десять его вижу в мареве полудня.
Он вскидывает мои руки, чтобы поймать
незримый мяч,
Он заставляет мои ноги бежать к барьерам,
рухнувшим
И ставшим руинами сорокалетней давности.
За жизнь свою надеюсь засечь его
движения
Еще сто тысяч раз, если не больше, прежде
чем умру.
Отец мой, папа, любящий родитель,
С которого, сверкая, градом пот катился
И впитывался в завитушки,
Подобные пружинам часовым из меди,
Что покрывают ворсом золотым меня,
Играет светом и своим молчанием говорит
мне больше,
Чем постичь способна моя печальная,
заблудшая душа.
Он бродит там, где в детстве муравьи
Сновали по костяшкам моих пальцев,
То виден, то не виден, он машет мне рукой,
чтоб я его заметил
На этой загадочной жаровне – моей руке,
Как на пшеничном поле, на моей ладони,
На пальцах, на плоти.
О Боже милосердный! Восхвалим Его за то,
что Он
Дозволил, что Он открыл глаза мне на обе
наши жизни:
Чтобы увидеть в сыне счастливого отца —
в уюте и тепле.
Вот чудеса! Кровь, клетки, гены, устьица
и хромосомы –
Странное бессмертие, мы редко говорим
о них как о жилище.
И все же это есть жилище, порог огня,
в котором мой отец,
Играя при смерти, нашел успокоение,
погрузился и развел себе огонь пожарче:
Я же – сын, с благословления генетики
зажженный вновь.
Когда, протягивая руку, я нащупываю что-то,
Мерещатся его мне пальцы,
Восторженно дыша, благодаря Судьбу,
Я с каждым выдохом молитвы выдыхаю.
Когда я за себя благодарю, то я благодарю
его,
А значит, в двойном благодарении мы делим
Одно-единственное сердце на двоих;
Мы обожаем, любим эту душу, плоть
и члены,
Обитель нашу.
Мы – воплощение мечтаний каждого
из нас;
Он – давно почивший и растаявший,
А я – все, что осталось от воспоминаний
смутных
Об эскимо июньскими ночами…
Вот, наконец,
Окончен долгий, скучный банкет отцов
и сыновей длиною в жизнь
И мы бредем домой,
На том же тротуаре двое нас.
Шагаем как один.
И все же, бреясь вечером, тебя
Я в ярком зеркале забрызганном
Выискиваю взглядом в маске мыльной
пены.
Старик, тоскуя по тебе, я здесь найду тебя.
Ведь здесь твой дом
И костный мозг мой – твой по праву,
А я – твой сын.
И порознь никогда нас не было – двоих,
а мы едины были.
Некогда ты был один.
Но с переменой на море
Отлив, откатываясь прочь, вновь
возвращается,
Теперь, теперь, теперь, о, теперь…
Одним из нас двоих стал я.
Где прячется нектар
Еще не открыв глаза, ты знаешь, каким будет
денек.
Накажешь небу, какого цвета ему быть,
Такого цвета оно и будет.
Скажешь солнцу, как сплести свои кружева,
Пробиваясь сквозь листву,
Устилая коврами ярких и темных оттенков
Росистую лужайку,
Так оно и сделает.
Раньше всех проснулись пчелы,
Они уже примчались, и умчались,
И снова прилетели, и улетели в поле,
И вернулись в позолоченной щетине,
Вознагражденные пыльцой,
И в эполетах, истекающих нектаром.
Вы слышите, как мимо пролетают,
Как зависают в воздухе?
И вытанцовывают свои послания,
Чтобы поведать всем, где прячется нектар,
Бальзам, дурманящий медведей и доводящий
их до исступления,
И вызывающий непроизвольное