Коллеги Аксенов Василий
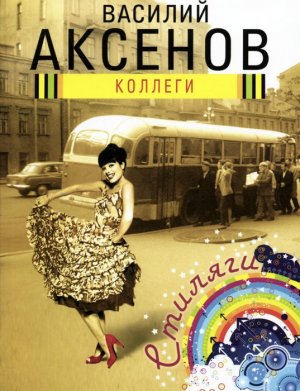
ГЛАВА I.
Кто они такие ?
В анкетах они писали: год рождения — 1932-й, происхождение — из служащих (Карпов — из рабочих); партийность — член ВЛКСМ с 1947 года; участие в войнах — не участвовал; судимость — нет; имеет ли родственников за границей — нет; и еще несколько «нет» до графы «семейное положение», в которой все они писали — холост. Автобиографии их умещались на половине странички, а рассказывали они о себе так.
Алексей Максимов. Как говорят, когда-то мы все были ребенками. Мама у меня учительница. Папы нет. Где жил? Мы часто переезжали с места на место. Родился-то в Новгороде. В школе учился хорошо. Любимый предмет? Чистописание. В школе я играл в футбол, а в институте — в волейбол. Я и сейчас играю в волейбол и всегда буду в него играть. Почему в медицинский пошел? Вам это интересно? Ах, интересно! Ну, по недоразумению. Медицина? Я жить без нее не могу. А какого черта вы меня все расспрашиваете, словно начальник отдела кадров? Я грубиян? Идите вы знаете куда!
Владислав Карпов. Мальчик, если вы не видели Черного моря, вы ничего не видели. Мой папа — рыбак. Любите копченую скумбрию? Знаете, есть такая песенка:
- Поцелуй, поцелуй, Перепетуя,
- Я тебя так безумно люблю.
- Если любишь копченую скумбрию,
- Я тебе ее достану хоть вагон.
Да, конечно, я спортсмен. Разве не видно? Всеми видами спорта. Больше всего люблю бильярд. А вы? Сыграем как-нибудь? Вы сами откуда? Любите танцевать? Вы мне нравитесь, чтоб я так жил. Приезжайте к нам — не пожалеете. Черное море — это что? Поэма! Значит, до скорого.
Александр Зеленин. Да, я коренной ленинградец. Пройдите сюда, в столовую. Видите на стене эти старинные дагерротипы? Это мои предки. Вот магистр философии Петербургского университета, а этот — известный путешественник, а этот в Шлиссельбурге сидел по делу о покушении. Ничего, что я ими немножко горжусь? Потом у нас пошли все врачи. И папа мой врач, и мама тоже, и я, как известно, врач без пяти минут. Да, я не только люблю медицину, но считаю профессию врача самой нужной на свете. А какой она дает кругозор! Вы знаете, я чувствую, что с каждым годом начинаю лучше понимать людей и с физиологической и с психологической стороны. Я очень доволен своей профессией. Жалко только, что скоро придется уезжать из Ленинграда. Не могу представить, что больше не буду бродить по Большому проспекту и по набережной, любоваться закатом, когда, знаете, все окна в Эрмитаже вспыхивают малиновым светом… Но что делать? Ведь это же, как говорится, наш долг. Ну что ты смеешься, Алексей? Всегда он, знаете ли, вот так.
От автора. Алексей Максимов — мрачный и резкий. Вечно он что-то такое изображает. Владислав Карпов — из тех, кого характеризуют двумя словами: «свой парень». Иногда добавляют: «свой в доску». Любимец девочек, гитарист. Александр Зеленин — немного смешной, порывистый, очень вежливый, очень прямой, очень приятный человек.
Их дружба началась на первом курсе. Иногда удивляются дружбе совершенно разных людей, но по-настоящему дружить могут только разные люди. Между людьми сходных характеров и темпераментов неизбежны резкие столкновения и неизбежен разрыв. У этой троицы вдумчивость Зеленина и его пылкая искренность как бы уравновешивали довольно наигранный цинизм Максимова и легковесность Владьки Карпова.
Вот они какие.
И сейчас, весной 1956 года, они идут втроем против ветра и думают все об одном.
Их мысли о распределении
— Откуда это, Сашка, в тебе такая идейность? — сердито спросил Алексей Максимов. — Тоже мне загнул — экзамен наших душ!
— Так оно и есть! — воскликнул Зеленин.
— Черта с два! Распределение — это принудительный акт. И каждый культурный человек, естественно, рассчитывает, как бы увильнуть от жизни в глуши и не превратиться в животное.
— Чушь! Геологи годами бродят в тайге и не превращаются в животных.
— Геологи! Геологам лафа. Они уходят партиями, все молодежь, весело. А нас что ждет? Думаешь, я боюсь отсутствия электричества и теплого клозета? Ерунда все это! Я готов… А вот представь себе участковую больницу. Деревенька, степь или лес, ветер свищет, и ты один, совершенно один. Кончил работу, поел, послонялся из угла в угол — и спать. Проходят годы, ты толстеешь, глупеешь, начинаешь принимать приношения благодарных пациентов, мысли твои заняты курочками, свинюшками, и тебе уж больше ничего не надо, и ты уже со снисходительной улыбкой вспоминаешь об этом разговоре.
— Брр! — передернулся Владька Карпов. — Ну тебя к бесу, Макс! Страшно.
— И ты, сын рыбака, боишься деревни? — спросил Зеленин.
— Страшней войны, — засмеялся Карпов. — Но что делать — таков наш скорбный удел. Хочешь не хочешь, а надо, как поется, собирать свой тощий чемодан.
— А чего ты, собственно, хочешь? — резко спросил Максимов.
— Я? Мальчики, я хочу всегда видеть наших девочек и ваши опостылевшие физиономии, по-прежнему попирать камни этого исторического города и ходить на эстрадные концерты и в цирк и сам хочу выступать в цирке. «Соло-клоун и музыкальный эксцентрик Владислав Карпов…» Между прочим, не отказался бы от места ординатора в клинике Круглова.
— А ты чего хочешь, Алексей? — спросил Зеленин,
— Я хочу жить взволнованно! — с вызовом ответил Максимов. — Все равно где, но так, чтобы все выжимать из своей молодости. А будущее сулит сплошную серость. Судьба сельского лекаря. Надо быть честным. Нас теперь научили смотреть правде в глаза. Пускай Тарханов и иже с ним поют нам о высоком призвании, о патриотическом долге, пускай Чивилихин кричит, что трудности не страшат нас, молодых романтиков. Все знают, что он-то обеспечил себе местечко в клинической ординатуре. Какая нас ждет романтика? Вот если бы мне сказали: лезь в эту ракету, и тобой выстрелят в космос, и ты наверняка рассыплешься в прах во имя науки, — я бы только «ура» закричал. А когда мне толкуют, что мое призвание и мой долг — превратиться в Ионыча, тут уж нет, пожалуйста, не надо красивых слов! Приму как неизбежность!
— А о больных, которые тебя ждут, ты не думаешь? — спросил Зеленин.
— О больных? — опешил Максимов. Владька вставил:
— Помните, как Гущин на обходе говорил: «Нда-с, батеньки, несмотря на все наши усилия, больные поправляются».
— А о других ты ни о ком не думаешь, Алексей? — спросил Зеленин.
— А ты только о других думаешь? — крикнул Максимов.
— Эх, Алешка, Алешка, трудно тебе будет!
— Не волнуйся за меня, рыцарь, умоляю тебя, не волнуйся!
— Пошли в кино, хлопцы, — предложил Карпов.
Распределение
Этот день помнят всю жизнь. Это день массовых прогулов, побегов с лекций, валерьяновых капель, хохота, слез… Распределяются в первый день десятки, а болельщиков сотни. Родители, жены, невесты, знакомые и просто любопытствующие с младших курсов.
Максимов, Карпов и Зеленин сидят на диване в коридоре второго этажа. Максимов и Карпов ждут своей очереди, а Зеленин ждет их. Сам он распределяется завтра. За стеклянной дверью патофизиологической лаборатории видны спокойные фигуры в белых колпаках и халатах. Людям за дверью этот день не кажется необычным. Для них это просто четверг, 29 марта. Впрочем, не для всех.
— Владька, серьезно, что делать? — с глухой тревогой спрашивает Максимов.
Карпов сегодня мрачен.
— Я не подпишу! — выпаливает он.
— Ты что, того? — Максимов крутит пальцем у виска. — Диплома не выдадут.
— Пойми, Макс, как же я уеду куда-то к чертям, когда она останется здесь!
— Она? — Максимов изумленно глядит на друга. — Неужели ты даже сейчас… — Он отворачивается, вздрагивает и шепчет: — Легка на помине.
По коридору, звонко отстукивая каблучками, идет высокая девушка. Улыбается, сияет. Идет немного вызывающе, — может быть, оттого, что старается не потерять самообладания под взглядами десятков глаз. Открывает дверь лаборатории — и, вдруг увидев друзей, останавливается.
— Не обращай внимания, — быстро говорит Максимов. Вытаскивает газету, углубляется в чтение.
Девушка медленно, точно ее подтягивают на канате, подходит к дивану.
— Привет, мальчишки, — говорит она с сердечностью. Посторонний не уловил бы в ее голосе ни малейшего оттенка фальши.
— Наше вашим, — отвечает Карпов.
— Хелло, — бурчит Максимов.
— Добрый день, Верочка! — приветствует Зеленин. Вера смотрит на высокомерного Владьку, на независимого Алексея (Зеленина она почти не замечает) с ласковым пренебрежением. Но что все-таки тянет ее к ним? Прежняя дружба или то старое, тайное, от чего, оказывается, нет никаких лекарств? Ах, все это отголоски детства! Она смотрит по сторонам, блуждающие по коридору студенты поглядывают с любопытством. Курс отлично помнит, как она неожиданно дала отставку Владьке Карпову и вышла замуж за доцента кафедры патофизиологии Веселина. Это была сенсация. Вера улыбается.
— Вам неинтересно, как я распределилась? Максимов насмешливо щурится:
— А мы знаем. Действие развивалось примерно так: она вошла, грациозная и свежая, как дуновение.,, м-м-м… словом, как некое дуновение. «Это наша лучшая студентка Вера Веселина», — сказал декан. «Веселина? — удивился Тарханов. — А не жена ли она нашего уважаемого?… Ах, так! Чудесно! Думаю, что все ясно с Веселиной. Путь добрый вам в науку, толкайте ее, голубушку, в бок вместе с уважаемым…»
Вере больно. Все действительно проходило примерно так. Она не знает, что делать — вспылить, или обратить все в шутку, или заплакать. Положение спасает тот, кто выручает ее всегда, — муж. Он появляется из лаборатории и уводит Веру.
Петр Столбов, здоровенный парнище, игриво кричит:
— Вла-адька! Любимую «любить увели», а?
Подходят в обнимку Эдик Амбарцумян и любимец курса поэт Игорь Пироговский.
— Ребята, послушайте, — говорит Пироговский. — Решили мы с Эдькой соседями стать. Я — в Оймякон, а он — в Оротукан. Шашлычком из медвежатины обещал угостить. Привезу, думаю, оттуда чемодан стихов. И вот на тебе — распределяют меня в аспирантуру на терапию. Вот тебе и стихи, вот тебе и медвежатина!… Человек предполагает, а комиссия распределяв/.
— Я, пожалуй, тоже в Якутию попрошусь, — говорит Максимов, — там хоть льготы и чумы разные, аэросани, спиритус вини…
— Аэросани, спиритус вини, — подхватывает Карпов. — Правильно, Макс, уедем к чертям отсюда.
К дивану подходит пожилой человек в потертом драп-велюровом пальто и в велюровой шляпе.
— Ну, орлы, а вы куда собираетесь?
— В Рио-де-Жанейро, — острит Карпов. Незнакомец спокойно говорит:
— Что ж тут смешного? Можно и в Рио-де-Жанейро. Мне нужны судовые врачи. Есть желающие? Разъяснить? Я начальник медуправления Балтийского морского пароходстве!. Набираем врачей на суда. Условиями будете довольны. В рейсах двойной оклад плюс валюта. Стол бесплатный. Для ознакомления поработаете несколько месяцев в порту, а потом в путь.
— Куда? — восклицает Максимов.
— Рейсы самые разные — Индия, Аргентина, есть и поближе — Лондон, Антверпен, Гавр. Ну?
— Согласен! — одновременно выпаливают Максимов и Карпов. Остальные задумываются.
— Полная деквалификация, — говорит Зеленин, — это же полная деквалификация, ребята!
— Ошибаетесь, — обидчиво возражает человек, — На судне надо быть знающим и решительным врачом. Возможны всякие случайности. Недавно один наш врач оперировал ущемленную грыжу в штормовых условиях, в Атлантике. Представляете? Можно и научной работой заниматься. Не удивляйтесь. Чем, например, не тема для диссертации — физиология труда моряков в условиях резкой смены климатических зон? Дело непочатое. Возьметесь за него с огоньком — обещаю всестороннюю поддержку.
— Квартиру даете? — спрашивает Петр Столбов.
— На первых порах общежитие. Прописка постоянная в Ленинграде. Но в перспективе и квартира…
— Ясно. Я согласен. Незнакомец открывает блокнот.
— Ваши фамилии, орлы? Итак, Максимов, Карпов, Столбов и… Нужен еще один.
— Зеленина запишите! — кричит Максимов и показывает кулак молчащему Сашке.
Человек уходит. Студенты молчат. Зеленин молчит и дымит. Столбов молчит, прикидывает. Максимов и Карпов молчат и остолбенело смотрят перед собой. Все! Где она, судьба Ионыча! Где сытое прозябание в деревенской глуши? Человек в драп-велюровом пальто, словно волшебник в детском спектакле, отдернул шторку, за которой открылась сверкающая водная гладь. Проплыл мираж — пальмы, небоскребы, купола, пирамиды. Вы мечтали о жизни необычайной, насыщенной, интересной? Вы думали, мечты не осуществляются? Напрасно. Получайте входные билеты и бегите в будущее, увлекательное и легкое, как кинофильм. Индия! Аргентина! Двойной оклад! Диссертация! Штормовые условия.
Вдумчивый Сема Фишер с сомнением качает головой. Он не представляет себе жизни вне больничных стен, без утренних обходов и ночных дежурств, без мучительных раздумий над историей болезни. Игорь Пироговский завидует. Амбарцумян не знает, завидовать или не стоит. «Светский человек» Генька Бондарь иронически улыбается. Костя Горькушин возмущается: дурни, полезли в экзотику. Несерьезный народ. Владька Карпов и Леха Максимов — чудилы и стиляги, Столбов только о бизнесе думает, а Сашка-то Зеленин хорош — молчит!
Наконец Карпов произносит программную фразу:
— Мальчики, должен же кто-то бороздить мировой океан!…
Ветреный вечер
Натиск весны в этом году был сокрушительным. С середины марта все потекло. Пошла работа для треста очистки. С утра до вечера улицы скоблили и подметали разные самодвижущиеся механизмы. А дворники дедовским способом ухали снег с крыш, бомбардировали тротуары. Веселая бомбежка в Ленинграде! Вечером солнце, клонясь к частоколу зданий Васильевского острова, пробивало лучами вереницу троллейбусов и автомашин на Большом проспекте Петроградской. Потом небо над закатом начинало зеленеть, напоминая о лете, о пионерском лагере, о мечтах про далекие страны, и странствия. В мокрых скверах появлялись парочки и шумные группы с гитарами. Начиналась весенняя ночь с треньканьем струн, с тихими возгласами, с шорохом, с хохотом, с поцелуями.
Вечером после распределения Максимов и Зеленин шли по Кировскому проспекту к Неве. Карпов исчез: видимо, побежал оповещать о радостном событии знакомых девочек.
Вот она, Нева! Над Ростральными колоннами, над Военно-Морским музеем стояла золотая, предзакатная пыль. По Дворцовой набережной, как по желобу, катились сверкающие шарики автомобилей. Приходило привычное настроение. Они любили молчаливые прогулки по Ленинграду. Кто-то сказал, что дружба — это умение молчать вдвоем. Слова были неуместны в такие минуты, когда город раскрывался перед ними, когда наступал еле уловимый миг, сближавший их с давно умершими строителями и мечтателями. Они пересекли Неву и пошли по набережной. Зеленин задумчиво засвистел. Алексей взглянул на его худое лицо под широкополой шляпой и разозлился. Молчит Сашка, насвистывает. Это зеленинское свойство всегда раздражало Алексея. Вдруг Зеленин начинает отчужденно улыбаться и насвистывать что-то свое, какой-то идиотский мотивчик. Мысль его в эти минуты блуждает по неведомым для Максимова путям.
— Все-таки это самый лучший вариант! — громко сказал Максимов.
— Что? — вздрогнул Зеленин.
— Самый лучший вариант распределения. И для тебя тоже. Я же вижу, что тебе до смерти не хочется покидать Питер. А так между рейсами будешь бывать здесь. Не забудь завтра напомнить о себе начальнику.
— Да-да, — отозвался Зеленин, — непременно, обязательно, бесповоротно.
«Вот тебе и экзамен наших душ», — удовлетворенно подумал Максимов.
— Постоим?
— Давай.
Они оперлись на парапет и стали смотреть на реку, во многих местах которой возникали сейчас багровые сияния. Ветер с Балтики пахал воду. Спустя некоторое время Максимов стал оборачиваться на проходящих девушек.
— Черт побери, сколько хорошеньких!
— Да-да, — весело воскликнул Зеленин, — хочется танцевать со всеми!
— Это нетрудно сделать. Хлопнем по бутылочке «777», и тебе покажется, что ты танцуешь с женщинами всего мира. Гарантирую полный фестиваль! Так пойдем, выпьем?
— За океан, за паруса, наполненные ветром? — спросил Зеленин.
— За котлы и турбины, — усмехнулся Максимов.
— Нет, именно за паруса. Знаешь, когда я думаю о море, я слышу увертюру к «Детям капитана Гранта». Какая гениальная музыка!
— Довольно, хватит! — оборвал его Максимов. — Пошли.
Они повернулись и увидели, что на них смотрят двое: кругленький, толстенький инвалид с костылем в правой руке и высокий обтрепанный мужчина. Оба основательно навеселе.
— Подожди, Миша, — сказал инвалид и обратился к ребятам: — Разрешите нарушить ваше уединение?
— Пожалуйста. Что вам угодно? — сказал Зеленин. Инвалид скользнул нетвердым взглядом, и на его лице появилась добрая пьяная улыбка.
— Мне угодно задать вам ряд вопросов. Вы на вид культурные ребята — по одежде и вообще. Студенты? А я человек с незаконченным высшим образованием. Война помешала закончить. Егоров моя фамилия, Сергей Егоров. — Зажав костыль под мышкой, он протянул Максимову руку и воскликнул: — Чем вы живете? Вот вы, молодежь? Куда клонится индекс, точнее индифферент ваших посягательств? Мы в вашем возрасте знали, что делать, мы насмерть стояли.
— А сейчас больше по этому делу? — Алексей щелкнул себя по горлу.
Инвалид вскинул голову и неожиданно ясным взглядом впился ему в глаза.
— Мы, фронтовики, и сейчас знаем, что делать, а вы, видно, только по Невскому можете шмалять, и ничего больше.
— Это мы-то?
— Ну да, вот такие, как вы, типчики!
— Отваливайте, Егоров, гуляйте! Мы вас не знаем.
Максимова разобрала злость. Он взял инвалида за плечи и стал, осторожно поворачивать.
— Руки прочь! — раздался грозный окрик высокого мужчины. У него было костлявое лицо, скошенное кислой гримасой, словно во рту он держал ломтик лимона. Он обнял Егорова и зашептал: — Сережа, с кем ты связался, это же мразь, пижонство! А еще оскорбляют героя войны. Вот, друзья, полюбуйтесь, — обратился он к остановившимся прохожим: — Два ничтожных пижона оскорбляют инвалида войны…
— Мы не пижоны! — воскликнул Зеленин. — И мы не оскорбляли его.
— …Инвалида войны, который за них кровь проливал, отдал свою правую ногу. При мне ему миной оторвало ногу в сорок первом под Ростовом. Помнишь, Серега, друг ты мой тяжкий, помнишь окопчик тот? Ты с ПТР лежал, а я с автоматом шагах в десяти. Тут как раз и ахнуло. Потом танки пошли.
— Танков я уж не помню, — сказал Егоров.
Вокруг молча стояли люди. Максимов подмигнул Зеленину и деланно рассмеялся:
— Бойцы вспоминают минувшие дни, а ногу, наверное, отрезало трамваем. Заснул в пьяном виде на рельсах…
Он осекся. Высокий молча смотрел на него. Он словно проглотил наконец свой ломтик лимона, — лицо пересекли большие спокойные морщины, и только в глазах Алексей увидел презрение. Жгучее, незабываемое презрение. Алексей выдвинул плечо вперед. Неожиданно сзади кто-то взял его под локоть: полковник авиации.
— Вы, ребята, не глумитесь над этим. Бойцам не грех вспомнить минувшие дни. И ты, друг, зря так: не знаешь людей, а называешь пижонами.
— Мы не пижоны, мы врачи. — Зеленин попытался сказать это с достоинством, но голос его дрогнул.
— Что ты оправдываешься? — резко бросил Максимов. — Пойдем.
Они ходили по набережной до темноты, дошли до моста Лейтенанта Шмидта и вернулись обратно. Сильный ветер устроил на воде пляску световых пятен. Пятна плясали каждое что-то свое, прыгали вдоль берега, словно боялись рвануться в сплошную мглу, к темному массиву Петропавловки. Максимов и Зеленин подняли воротники.
— В этой истории, конечно, виноват я, — сказал Максимов. — Зря я подковырнул инвалида. Алкоголики на такие штуки реагируют остро.
— Почему ты решил, что они алкоголики? Может быть, просто отмечали какое-нибудь событие.
— Нормальные люди не лезут в душу к незнакомым.
— А помнишь, у Уолта Уитмена? «Если в толпе ты увидишь человека и тебе захочется остановиться и поговорить с ним, почему бы тебе не остановиться и не поговорить с ним?» Знаешь, я очень ярко представил себе, как они лежали в этом окопчике под Ростовом. Им тогда было столько же лет, сколько нам сейчас, им хотелось жить, не хотелось терять конечности, а они лежали и стреляли — и не помышляли о бегстве. Не думаю я, что эта стойкость шла у них только от храбрости или подчинения дисциплине. Должно быть, они чувствовали свой долг перед всеми поколениями русских людей и свою ответственность за грядущие поколения. А наше поколение, как ты думаешь, способно на подвиг, на жертвы?
— Жертвенность? Вздор! Дикое слово! Что мы, язычники?
— Ну не жертвенность, так долг. Это тебе понятно?
— Обязанность?
— Нет, братец, именно долг, наш гражданский долг. Чувство своего окопчика.
У Максимова погасла сигарета. Никак не мог раскурить ее на ветру. Возился со спичками и говорил сквозь зубы:
— Ух, как мне это надоело! Вся эта трепология, все эти высокие словеса. Их произносит великое множество прекрасных идеалистов вроде тебя, но и тысячи мерзавцев тоже. Наверное, и Берия пользовался ими, когда обманывал партию. Сейчас, когда нам многое стало известно, они стали мишурой. Давай обойдемся без трепотни. Я люблю свою страну, свой строй и не задумываясь отдам за это руку, ногу, жизнь, но я в ответе только перед своей совестью, а не перед какими-то словесными фетишами. Они только мешают видеть реальную жизнь. Понятно?
Зеленин с силой ударил кулаком по граниту и вроде не почувствовал боли.
— Ты неправ, Алешка! Мы в ответе не только перед своей совестью, но и перед всеми людьми, перед теми с Сенатской площади, и перед теми с Марсового поля, и перед современниками, и перед будущими особенно. А высокие слова? Нам открыли глаза на то, что мешало идти вперед, — так надо радоваться этому, а не нудить, как ты. Теперь мы смотрим ясно на вещи и никому не позволим спекулировать тем, что для нас свято.
Максимов наконец сделал глубокую затяжку и сказал непонятно:
— Да, рыцарь, ты мудр!
…Двое стоят, подняв воротники, на ветру. Им пока не много лет, и временами они чувствуют себя совсем мальчишками, но временами в хаосе весеннего разлива они оглядываются назад и смотрят по сторонам и вперед, смотрят вперед, выискивая тропу.
ГЛАВА II.
Последние каникулы
— Дикари!
— Голуба, врежь длинного!
— Сделай из него клоуна! Да сделай же клоуна из него! Эх, мазила!
Крики болельщиков не помогали. Команда «дикарей» — Лешка Максимов, Саша Зеленин и другие — с позорным счетом обыгрывала волейболистов дома отдыха «Обувщик». Максимов откинул мяч Зеленину. Тот взмыл в воздух, и сильно ударил в первую линию. Удар закончил игру. Конечно, у Сашки упали очки. Они падали у него почти после каждого прыжка, но сейчас ему казалось, что так и должно быть после столь блестящего удара — и лица расплывчаты, и кроны лип слегка набекрень. Максимов хлопнул его по спине:
— Молодец, Сашка!
— Где, где, где? — забормотал Зеленин.
— Эта блондиночка?
— Да. Где же она?
— Собери свои диоптрии и увидишь.
Стройная девушка в узких серых брючках стояла под елкой. Поймав растерянный Сашкин взгляд, она расхохоталась и пошла прочь, ведя сбоку гоночный велосипед. Максимов печально пропел:
— Средь шумного матча случайно…
— Верно! — воскликнул Саша. — Ты угадал мое настроение. Это она, она!…
— Но ты, к сожалению, не во. фраке и грязноват, — проворчал Максимов. — Идем купаться.
Пляж был пуст. Даже самые одержимые ныряльщики разошлись по дачам. Друзья прошли на самый край мола и постояли там, не в силах оторвать взгляда от заката. Солнце, как купол сказочного дворца, поднималось над сверкающим горизонтом. Через все море, словно след от удара бичом, тянулась красная дрожащая полоса.
— Вредное зрелище — закат, — сказал Максимов.
— А по-моему, прекрасное.
— А по-моему, вредное. Утрачивается уверенность — вот в чем штука. Кажется, что за горизонтом раскинулась прекрасная неведомая страна, где говорят на высоких тонах и все взволнованны и очень счастливы. Но на самом-то деле ее нет.
— Поплыли, проверим?
Они разом бросились в воду. Плыли кролем по солнечной полосе. Брызги, слетавшие с рук, казались каплями вишневого сиропа. Максимов оглянулся и обвел глазами хвойную дугу Карельского перешейка, окаймленную снизу желтой полоской пляжей. Это был теплый берег, где в этот час тысячи людей готовили ужин.
— О-го-го! О, радость бытия! — заголосил Алексей. Рядом вынырнул Сашка с вытаращенными глазами и открытым ртом.
— Рубины из сказочной страны! — крикнул он, ударяя ладонью по воде.
Они вернулись к молу и уселись на железной лестнице.
— Через два дня выходить на работу, а Владька еще не вернулся, — сказал Алексей.
Саша вздохнул:
— А мне послезавтра двигаться в свою Тьмутаракань. Последние каникулы, прощайте. Грустно!…
— Да не езди ты туда.
— Как это так?
— А так. Папа Зеленин надевает черную тройку, идет в горздравотдел, идет туда, звонит сюда — и дело в шляпе. Неделя угрызений совести в высокоидейном семействе, а потом жизнь продолжается. Вот и все.
— Не пори чепухи, Алешка.
— Тебе очень хочется уехать?
— Нет! — сердито отрезал Зеленин.
— Еще бы! Ведь ты горожанин до мозга костей, потомственный интеллигентик. Вот Косте Горькушину везде будет хорошо…
— Костя мечтал о своей Волге, а уехал в Якутию.
— Потому что в Якутии двойные оклады и надбавка.
— Нет, не поэтому, — твердо сказал Зеленен.
Максимов повернулся к другу. Тот сидел на железной ступеньке, по пояс высовываясь из воды, белесый, тощий и вдохновенный.
— Мальчик, вернись на землю. Да-да, на земле существуют оклады, простые и двойные, и, кроме того,, прописка. Уезжающим в Якутию хоть прописка бронируется. Ты говоришь, что место судового врача пере-хватили, но Якутия-то осталась!
— Прописка — не приписка. Почему я должен дрожать над ней? Это меня унижает.
— Ну хорошо. Ты же знаешь, что я не только это имел в виду. Ты же будешь в медвежьей дыре, в глухомани, хотя и недалеко от Ленинграда. Якутия все-таки экзотика, просторы…
— Я тебе правду скажу. Никто у меня места не перехватывал. Просто на распределении я услышал, что в этом поселке два года не было врача, и попросил туда назначение.
— Браво! — воскликнул Максимов. — Твое имя запишут золотом в анналах…
— Сутки езды от Ленинграда, и нет врача — позор! Поехать туда — это мой гражданский долг.
Максимов не понимал, зачем это он затеял такой разговор напоследок, но что-то его подмывало перечить Сашке.
— Иди к черту! — сказал он. — Противно слушать! Тоже мне ортодокс нашелся!
— Не глумись, Алешка. Помнишь, мы с тобой говорили о цене высоких слов? Я много думал об этом и…
— Я тоже думал и понял, что все блеф. Есть жизнь, сложенная из полированных словесных булыжников, и есть настоящая, где герои скандалят на улицах, а романтически настроенные девицы ложатся в постели к преуспевающим джентльменам. А сколько вокруг жуликов и пролаз! Они будут хихикать за твоей спиной и делать свои дела. Мое кредо — быть честным, но и не давать себя облапошить, не попадаться на удочку идеализма.
— А ведь когда-то, Алешка, ты мечтал о настоящей жизни, о борьбе!
— Это и есть борьба, борьба за свое место под солнцем.
— А о других ты не думаешь?
— Опять ты за свое? Опять о предках и потомках?
— Да, о них.
— А что я, Алексей Максимов, могу для них сделать?
— Продолжать дело предков во имя потомков. Мы все — звенья одной цепи.
— А самому сейчас не жить? Я не знаю вообще, что будет после моей смерти. Может быть, ни черта? Может, этот мир только мой сон?
— Дурак! Позер! — отчаянно закричал Зеленин. — Твой солипсизм гроша ломаного не стоит.
В этот момент им показалось, что в море, в метре от них, врезался метеорит. Обрушился столб воды. Когда разошлись круги, в глубине они увидели извивающееся тело.
— Морду надо бить за такие штучки! — сказал Максимов.
Показалась красная шапочка, лицо, бронзовые плечи.
— Владька! — ахнули оба.
Владька подплыл и вылез на мол. Он был красив, мулатоподобный южанин Карпов. Мускулы его играли под глянцевитой кожей, как рыбы. От ослепительной улыбки веяло плакатной свежестью.
— Спорт и джем полезны всем! — крикнул Максимов.
— Ф-фу, коллеги, вы все такие же, — шумно дыша, сказал Владька.
— Как отдохнул?
— Железно. А вы?
— Неплохо.
— Сашка что-то бледный.
— Забыл? Саша у нас всегда бледный. Тревожная душа, высокие порывы! А тут еще любовь поразила его накануне свершения гражданского подвига.






