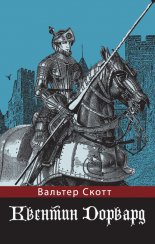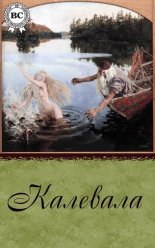Архивы Дрездена: Кровавые ритуалы. Барабаны зомби Батчер Джим

Она поцеловала меня в лоб и грустно улыбнулась:
– Спасибо, Гарри. Вы всегда нам помогали.
Странное что-то творилось с моим зрением: словно я смотрел на все сквозь длинный серый туннель. Я сделал попытку встать, но мне удалось лишь повернуть голову, и то с трудом.
Все, что мне осталось, – это смотреть, как Жюстина сбрасывает халат и выходит из комнаты – туда, к Томасу.
К своей смерти.
Глава 20
Бывает, ты просыпаешься, а какой-то негромкий голос, звучащий в голове, уверяет тебя в том, что день сегодня совсем особенный. У большинства детей такое случается: иногда на день рождения и почти всегда в утро сочельника. Я до сих пор помню одно такое – Рождество: я был тогда совсем маленький, и отец был жив. Еще раз я ощутил что-то подобное лет восемь или девять спустя, в то утро, когда Джастин Дю Морне приехал забрать меня из детского дома. И еще раз – утром того дня, когда Джастин привез из другого детского дома Элейн.
Вот и теперь этот внутренний голос требовал, чтобы я проснулся. Кричал, что день сегодня особенный.
Псих он, этот мой внутренний голос.
Я открыл глаза и обнаружил, что лежу на кровати размером с небольшой авианосец. Сквозь шторы в помещение пробивалось немного света, но недостаточно, чтобы разглядеть что-либо, помимо неясных силуэтов. Тело болело от полутора десятков ушибов и ссадин. Горло сводило от жажды, а желудок – от голода. Одежда моя вся была заляпана кровью, если не чем-нибудь похуже, лицо поросло щетиной, волосы свалялись почти до состояния модной афропрически, и мне даже представлять не хотелось, что подумают об исходящей от меня вони те, кто может войти в любой момент. В общем, мне не мешало бы принять душ.
Я тихонько выскользнул в первую комнату – ту, с понижением и подушками. Трупа я нигде не увидел, впрочем для этого за нами и послали Барби-шофера. Судя по темно-синему небу за ближним окном, до рассвета оставалось еще немного времени – значит, я отключался всего на несколько часов. Самое время сесть в машину и отчалить.
Я нажал на дверную ручку – дверь оказалась заперта. Я покрутил, потолкал, подергал еще, – похоже, помимо пары замков, ее заперли снаружи еще и на задвижку. Отпереть ее изнутри не имелось никакой возможности.
– Отлично. Что ж, тогда будем действовать, как Халк.
Я отошел от двери на несколько шагов, повернулся к ближней, по моему представлению, от выхода из дома стене и принялся концентрировать волю. Я не спешил, стараясь делать все обстоятельно, чтобы по возможности контролировать поток энергии.
– Мистер Мак-Джи, – пробормотал я, обращаясь к стене. – Настоятельно не советую вам злить меня. Вам вряд ли понравится, если я разозлюсь.
Я совсем уже собрался было дунуть, двинуть и разнести стену к чертовой матери, когда залязгали замки и задвижки и дверь отворилась. Вошел Томас – выглядел он так же, как всегда, только одежду сменил на армейские брюки и белую хлопчатобумажную водолазку, поверх которой накинул длинный кожаный плащ; в руке он держал спортивную сумку. Увидев меня, Томас застыл. На лице у него отобразилось нечто, чего, я полагал, не увижу на нем никогда: стыд. Он опустил глаза, избегая моего взгляда.
– Гарри, – негромко произнес он, – извините за дверь. Я хотел, чтобы вам никто не мешал, пока вы сами не проснетесь.
Я промолчал. Перед моими глазами стоял образ Жюстины – такой, какой я видел ее в последний раз. А потом меня захлестнул гнев – самый простой, примитивный гнев.
– Я тут принес вам одеться… полотенец всяких. – Томас опустил сумку на пол у моих ног. – Там, налево по коридору, вторая дверь – гостевая комната. Душ и все такое.
– Как Жюстина? – спросил я.
Голос мой прозвучал жестко, чуть хрипло.
Он стоял молча, не поднимая взгляда. Руки мои сами собой сжались в кулаки. До меня вдруг дошло, что я вот-вот брошусь на Томаса с голыми руками.
– Так я и знал, – сказал я и шагнул мимо него к двери. – Ладно, помоюсь дома.
– Гарри.
Я остановился. Голос его выдавал душевное волнение, но звучал странно: словно горло Томаса заполняла какая-то горькая дрянь.
– Я хочу, чтобы вы знали. Жюстина… Я пытался остановиться вовремя. Я не хотел ей зла. Никогда.
– Угу, – буркнул я. – Вы хотели как лучше. Это все меняет.
Он прижал руки к животу, словно его тошнило, и низко опустил голову. Волосы упали ему на лицо.
– Я никогда не скрывал, что я… что я хищник. Я, Гарри, никогда не притворялся, будто она значит для меня более того, чем была на самом деле. Пищей. Вы сами знаете. И она знала. Я никому не лгал.
У меня на языке вертелось множество резких реплик, но я сдержался.
– Прежде чем Жюстина пошла к вам сегодня ночью, она просила передать, что любит вас.
Наверное, если бы я резанул его бензопилой, это не причинило бы ему боль сильнее, чем мои слова. Взгляда он на меня так и не поднял, но вздрогнул, как от удара, и задышал часто-часто.
– Погодите, не уходите. Мне надо поговорить с вами. Пожалуйста. Произошло такое…
Я шагнул к двери. Наверное, все до единой крупицы язвительной горечи, что еще оставались во мне, я вложил в свои слова:
– Запишитесь на прием у меня в офисе.
Он сделал шаг мне вдогонку:
– Дрезден, Мавре известно про этот дом. Ради вашей же безопасности дождитесь хотя бы рассвета.
А ведь он говорил дело. Черт возьми! Рассвет загонит Черных в их убежища, а если у них и есть подручные из смертных, с этим я как-нибудь справлюсь. Артуро наверняка еще не проснулся, а Мёрфи только-только одевается и собирается в спортзал. Боб вернется в последний момент, так что для разговора с ним мне все равно пришлось бы дожидаться рассвета. В общем, в любом случае у меня имелось свободное время.
– Ладно, – буркнул я.
– Вы не против, если я скажу вам несколько вещей?
– Еще как, – сказал я. – Против.
Голос его дрогнул:
– Черт подери, вы что, думаете, я хотел этого?
– Я думаю, вы причиняли боль человеку, который любил вас. Использовали его… ее. И вообще, насколько я понимаю, вы не существуете. Вы выглядите как человек, но на деле вас нет. Мне стоило бы это с самого начала помнить.
– Гарри…
Гнев ослепил меня багровой вспышкой. Я бросил на Томаса такой взгляд через плечо, что он пошатнулся.
– И радуйтесь, Томас, что вас нет, – сказал я. – Вам крупно повезло. Это единственное, что сохраняет вам жизнь.
Я вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Потом распахнул ногой дверь в гостевую комнату, о которой он говорил. А потом и этой дверью хлопнул за собой, пусть это и было чистым ребячеством. Только оказавшись в душе, я сделал глубокий вдох, заставив себя успокоиться, и пустил воду.
Горячая вода. Райское наслаждение. Нет слов, способных описать удовольствие от горячего душа после нескольких лет жизни без нагревателя. Некоторое время я просто отмокал, потом нашел на полке мыло, шампунь, крем для бритья и бритву. Воспользовавшись ими, я почувствовал себя заметно лучше. Я даже решил, что стоит мне выпить немного кофе, и я буду почти в порядке.
Еще я решил, что если лорд Рейт может позволить себе такой здоровенный дом, то на горячей воде как-нибудь не разорится, поэтому проторчал под душем почти полчаса. Когда я наконец вылез, зеркало в ванной совершенно запотело, а пар стоял такой густой, что впору было задохнуться. Я наскоро вытерся полотенцем, обернул его вокруг бедер и вернулся в гостевую комнату. Здесь дышалось легче, да и свежий воздух сам по себе доставлял наслаждение.
Я расстегнул Томасову сумку. В ней обнаружились пара синих джинсов более или менее моего размера и пара серых спортивных носков. Потом я достал из нее то, что поначалу принял за тент от небольшого шапито, но что на поверку оказалось огромной гавайкой с сине-оранжевым растительным узором.
Я продолжал с сомнением коситься на нее, натягивая джинсы. Они пришлись очень даже впору. Чистого белья Томас в сумку не положил – может, и к лучшему. Лучше я похожу дикарем, чем надену трусы, вполне возможно пережившие прошлого владельца. Вот только молнию пришлось застегивать с повышенной осторожностью. На дверце ближайшего шкафа обнаружилось зеркало, и я подошел к нему причесаться: надеть рубаху у меня пока не хватало храбрости.
Из зеркала на меня глянуло отражение Инари. Она стояла у меня за спиной, широко раскрыв глаза. Сердце мое подпрыгнуло, чтобы застрять комом в горле, но вместо этого продырявило мне мозг и вылетело из затылка в потолок.
– Ох черт! – только и пробормотал я.
Я повернулся к ней. На ней была славная такая ночная рубашонка – розовенькая, вся в желтых Винни Пухах. Девицам помоложе или пониже ростом она доходила бы почти до колен, но у нее только-только срам прикрывала. Правая рука пряталась в черном гипсе – аж по локоть; левую руку она прижимала к себе, держа колчеухого щенка. Он имел весьма недовольный вид и вел себя беспокойно.
– Привет, – сказала Инари; голос ее звучал мягко-мягко, смотрела она отстраненно и рассеянно.
Где-то в голове у меня затренькал звоночек пожарной тревоги.
– Ваш щенок ночью вылез из комнаты, и папа попросил, чтобы я отловила его и вернула вам.
– Э… – ответил я. – Мм… спасибо. Да вы не ждите меня. Просто положите его на кровать.
Вместо этого она продолжала смотреть на меня – точнее, на мой торс.
– У вас мускулы сильнее, чем мне казалось, – сказала она. – И шрамы.
Взгляд ее на мгновение перешел на щенка. Когда она снова подняла на меня глаза, зрачки ее сделались светло-серыми, а еще через пару секунд приобрели металлический оттенок.
– Я пришла сказать вам спасибо. Вы ведь спасли мне жизнь сегодня ночью.
– Всегда пожалуйста, – отозвался я. – Щенка на кровать, будьте добры.
Она скользнула вперед и опустила песика на кровать. Он выглядел усталым, но начал негромко предостерегающе рычать, не сводя глаз с Инари. Оставив щенка, она повернулась и медленно двинулась ко мне:
– Я не понимаю, что в вас такого… Вы потрясающий. Я всю ночь искала возможности поговорить с вами.
Я изо всех сил старался не обращать внимания на ту почти змеиную грацию, с которой она двигалась. Боюсь, если бы я следил за ней внимательнее, то вообще перестал бы замечать что-либо другое.
– Я никогда еще не чувствовала ничего такого, – продолжала Инари, обращаясь скорее к себе самой. Взгляд ее оставался прикован к моему голому торсу. – Ни к кому…
Она придвинулась ко мне достаточно близко для того, чтобы я ощущал аромат ее духов – запах, от которого у меня на мгновение подогнулись колени. Глаза ее сияли нечеловеческим, серебряным блеском, и я вздрогнул – судорога неистового физического желания сдавила мне тело. Не такого, как при первой встрече с Ларой, но не менее сильного. Как-то слишком живо я представил себе, как валю Инари на кровать и срываю с нее эту славную ночную рубашонку, и мне пришлось крепко зажмуриться, чтобы отогнать этот образ.
Должно быть, я зажмуривался чуть дольше, чем мне казалось, поскольку следующее, что я помню, – это как Инари прижалась ко мне. Дрожа, она провела кончиком языка по моей ключице. Я чуть не выпрыгнул из своих взятых напрокат джинсов. Поморгав, я открыл-таки глаза, поднял руку и попытался выразить протест, однако Инари прижалась ртом к моему, а руку мою направила вниз и провела ею по чему-то обнаженному, гладкому и восхитительному. На секунду, наполненную паническим ужасом, какая-то часть меня поняла, что я повел себя недостаточно осмотрительно, позволил себе расслабиться и меня взяли тепленьким. Однако эта часть быстро заткнулась, потому как рот Инари оказался таким… ничего слаще я в жизни не пробовал. Щен продолжал предупреждающе рычать, но я уже не обращал на это ни малейшего внимания.
Мы оба уже изрядно задыхались, когда Инари оторвала опухшие от поцелуев губы от моего рта. Глаза ее сияли теперь ослепительно-чистым белым светом, а кожа переливалась перламутром. Я сделал еще одну попытку произнести хоть пару слов, сказать ей, чтобы она прекратила это… Но слова сами собой застряли у меня в горле. Она оплела мою ногу своей и с какой-то нечеловеческой силой прижалась ко мне, продолжая лизать и целовать мне шею. Холод начал разбегаться по моему телу – восхитительный, сладкий холод, отнимавший у меня остатки тепла и сил, оставляя одно наслаждение.
А потом случилась престраннейшая, черт подери, штука.
Инари издала панический вопль и отшатнулась от меня. Потом со стоном повалилась на пол. Секунду спустя она подняла голову, глянула на меня – полные смятения глаза ее снова сделались обычного цвета.
Губы ее превратились в один сплошной ожог. Прямо на глазах вокруг них вспухали все новые волдыри.
– Что? – пробормотала она. – Что случилось? Гарри? Что вы здесь делаете?
– Ухожу, – сказал я. Мне все еще не хватало воздуха, словно я не целовался, а, скажем, пробежал стометровку. Я взял с кровати щенка и повернулся к двери. – Мне необходимо выбраться отсюда.
И тут в дверь с диким видом вломился Томас. Он уставился на Инари, потом перевел взгляд на меня и облегченно выдохнул:
– Слава богу. С вами обоими все в порядке?
– Мой рот… – произнесла Инари. – Это больно. Томас? Что со мной? – Она начала задыхаться. – Что происходит? Эти жуткие твари вчера ночью… и ты раненый был, и у тебя глаза побелели… Томас… я… что?!
Ох. Даже смотреть на нее было больно. Мне приходилось видеть людей, для которых существование потустороннего мира становилось сильнейшим потрясением, но чтобы это происходило так болезненно… Я имею в виду, боже правый… девочкины родные оказались совсем не теми, кем она их считала. Даже наоборот – они являлись частью этой кошмарной новой реальности и не сделали ничего, чтобы подготовить ее к подобному открытию.
– Инари, – мягко произнес Томас, – тебе нужно отдохнуть. Ты почти не спала, да и руке твоей нужно время, чтобы зажить. Ступай-ка ляг.
– Но как? – Голос ее дрогнул, словно она вот-вот заплачет, но слезы она все-таки сдержала. – Как я могу? Я не знаю, кто вы. Не знаю, кто я. Я никогда ничего такого не чувствовала. Что со мной происходит?
Томас вздохнул и поцеловал ее в лоб:
– Мы с тобой обо всем поговорим. Скоро. Хорошо? Я дам тебе некоторые ответы. Но прежде тебе нужно отдохнуть.
Она прижалась к нему и закрыла глаза:
– Я вся словно пустая, Томас. И рот болит.
Он поднял ее на руки, как маленькую:
– Ш-ш-ш. Мы все вылечим. А пока ты можешь поспать у меня в комнате. Идет?
– Идет, – пробормотала она, закрыла глаза и положила голову ему на плечо.
Все еще влажный после душа, я наконец замерз и созрел для того, чтобы надеть эту жуткую гавайку. Поверх нее я накинул плащ; слава богу, всей этой южной пестроты из-под нее не было видно. Потом я сунул грязную одежду в сумку и вышел в коридор. Томас как раз выходил из своей комнаты и запирал за собой дверь.
Я видел его в профиль. Он переживал за Инари. В этом не было никакого сомнения. И – хотел он это признавать или нет – он переживал и за Жюстину. При мысли о Жюстине я снова испытал приступ холодного, горького гнева – Жюстина как минимум раз рисковала ради него жизнью. И отдала эту жизнь за него сегодня ночью. Гнев был столь сильным, что удивил меня самого. А потом я понял.
Он не хотел этого. Может, Томас и убил женщину, которую любил, но гнев, что я испытывал, не был реакцией на его поступок. На этот раз все происходило без моего прямого участия, но я уже сталкивался с подобной ситуацией, когда Красная Коллегия сломала жизнь Сьюзен. Я не желал Сьюзен зла – ни за что на свете, но факт оставался фактом: если бы она не пошла тогда со мной, возможно, она и теперь жила бы в Чикаго, писала бы статьи в «Волхв». И оставалась бы человеком.
Вот почему я испытывал гнев и горечь, глядя на Томаса: я смотрелся в зеркало, и то, что я там видел, мне не нравилось.
Я и сам почти самоуничтожился после обращения Сьюзен. И насколько я понимал, Томасу сейчас приходилось тяжелее, чем мне. Я, по крайней мере, спас Сьюзен жизнь. Да, я потерял ее как любимую, и все же она жила – сильная, волевая женщина, исполненная решимости собственными руками строить свою жизнь, пусть и не со мной. Томасу не досталось и этого утешения. На его долю выпало нажать, так сказать, на спусковой крючок, и мысль об этом жестоко терзала его.
Не стоило мне пытаться сделать ему еще больнее. Да и вообще в моем ли положении, сидя в стеклянном доме, швыряться камнями?
– Она понимала, на что идет, – нарушил я тишину. – Она знала, чем рискует. Она хотела помочь вам.
Томас скривил губы в горькой улыбке:
– Угу.
– Это ведь не вы принимали решение, Томас.
– Кроме меня, там никого больше не было. Если не мой зов, то чей тогда?
– Ваш папаша и Лара знали, как важна для вас Жюстина?
Он кивнул.
– Они заманили ее в это, – сказал я. – Они могли поручить вас кому угодно. Но они знали, что Жюстина здесь. Ваш отец дал Ларе особые инструкции отнести вас в вашу комнату. И судя по тому, что Лара говорила по дороге сюда, в машине, она прекрасно знала, что он задумал.
Томас поднял взгляд. Мгновение-другое он смотрел на запертую дверь.
– Ясно, – сказал он. Рука его сжалась в кулак. – Впрочем, сейчас это вряд ли имеет значение.
Вот тут я возразить ничего не мог:
– То, что я говорил вам… Не берите в голову.
Он покачал головой:
– Нет. Вы были правы.
– Быть правым и быть жестоким – не одно и то же. Я прошу прощения.
Томас пожал плечами, и мы больше не возвращались к этой теме.
– Мне сегодня по разным местам мотаться, – сказал я, сделав пару шагов по коридору. – Хотите поговорить – проводите меня.
– Не туда, – негромко произнес Томас. Мгновение он молча смотрел на меня, потом кивнул, – похоже, напряжение немного отпустило его. – Пошли. Проведу вас в обход мониторов и охраны. Если отец увидит, что вы уходите, он может предпринять еще одну попытку убить вас.
Я повернулся и догнал его. Щенок заскулил, и я почесал его за ушами.
– Какая такая «еще одна попытка»? О чем это вы?
– Инари, – негромко произнес Томас. Взгляд его не выражал ровным счетом ничего. – Он послал ее к вам, как только увидел, что вы вышли из моей комнаты.
– Если он хотел моей смерти, почему сам не пришел и не разделался со мной?
– Это не в обычаях Белой Коллегии, Гарри. Мы привыкли сбивать с пути, соблазнять, манипулировать. Используя при этом в качестве инструментов других.
– Значит, ваш отец использовал Инари.
Томас кивнул:
– Он хотел, чтобы вы стали у нее первым.
– Э… Первым – кем?
– Первым любовником, – ответил Томас. – Первой жертвой.
Я поперхнулся.
– Мне не показалось, будто она понимала, что делает, – заметил я.
– Она и не понимала. У нас в семье так: мы растем как обычные дети. Как… как люди. Никакого Голода. Никакого такого кормления. Вообще никаких вампирских штучек.
– Я этого не знал.
– Об этом вообще мало кто знает. Но рано или поздно это приходит к каждому, а она как раз достигла нужного возраста. Ужас и боль должны послужить катализатором ее Голода.
Он задержался возле ничем не примечательной панели обшивки и толкнул ее бедром. Панель сдвинулась в сторону, открыв проход в полутемный узкий коридор. Он шагнул в проем.
– В общем, все это, и болеутоляющее, и усталость… и то, что она не понимает, что делает…
– Постойте-ка, – перебил я его. – Вы хотите сказать, первая кормежка – смертельна?
– Всегда, – кивнул Томас.
– Получается, она юна и неопытна, так что с учетом обстоятельств ей можно было бы простить потерю контроля над собой. Я бы погиб в результате вполне правдоподобного несчастного случая. А Рейт чист от любых подозрений.
– Угу.
– Если так, кой черт никто не предупредил ее, а, Томас? Кто она такая? Каков мир на самом деле?
– Нам не позволено, – негромко ответил Томас. – Мы обязаны скрывать это от нее. Я тоже не знал об этом, пока не достиг ее возраста.
– Бред какой-то, – сказал я.
Томас пожал плечами:
– Он убил бы нас, если бы мы нарушили правила.
– Что случилось с ее ртом? Я имею в виду… гм… наблюдатель из меня, прямо сказать, и был неважный в тот момент, когда это произошло. Я не очень уверен, правильно ли все разглядел.
Томас нахмурился. Из потайного хода мы вышли в полутемную комнату, что-то среднее между берлогой и библиотекой, набитую книгами, уставленную уютными кожаными креслами и полную аромата трубочного табака.
– Мне не хотелось бы лезть в вашу личную жизнь, – сказал он. – Но кто был последний, с кем вы были?
– Э… вы. На протяжении этой прогулки.
Он закатил глаза:
– Я не в этом смысле. В интимном.
– А… – Не могу сказать, чтобы ответ дался мне легко, но я все же ответил: – Сьюзен.
– Ага, – кивнул Томас. – Тогда ничего удивительного.
– Ничего удивительного – это вы о чем?
Томас остановился. Взгляд у него был затравленный, но он явно прилагал усилия, чтобы сосредоточиться на ответе.
– Послушайте. Когда мы кормимся… наша жизнь сливается с жизнью нашей жертвы. Сплавляется. Мы превращаем часть ее жизни в свою, а потом забираем ее. Ясно?
– Вполне.
– В принципе это не слишком отличается от того, что происходит между людьми, – продолжал он. – Секс не сводится ведь к простым ощущениям. Это союз, соединение энергии двух жизней. Взрывоопасное соединение. Это процесс сотворения жизни. Сотворения новой души. Поразмыслите над этим хорошенько. Вряд ли можно найти энергию опаснее и капризнее, чем эта.
Я кивнул, хмурясь.
– Так вот, любовь – другая форма энергии… впрочем, этим вас не удивить. В конце концов, магия питается в первую очередь эмоциями. Так что когда два человека соединяются, когда они, забыв себя, любят друг друга, это меняет их обоих. Это остается в энергии жизни каждого из них – даже когда они расстаются.
– И что же?
– А то, что для нас это смертельно. Мы можем внушать страсть, похоть, но это всего лишь жалкая тень любви. Иллюзия. Опасная эта штука – любовь. – Он тряхнул головой. – Не забывайте, дружище, любовь убила динозавров.
– Как-то я был уверен, Томас, что динозавров погубил метеорит.
Он пожал плечами:
– Нынче в научных кругах популярна теория, что падение метеорита привело к вымиранию только крупных видов. Но, кроме них, было ведь полно всяких мелких рептилий – размером плюс-минус с тогдашних млекопитающих. По логике вещей, рептилии должны были бы восстановить свои позиции в животном мире, но этого не случилось, потому что млекопитающие способны испытывать любовь. Они способны на всепоглощающую, даже иррациональную преданность спутнику и потомству. Это помогло им выжить. А ящерицам этого не дано. Падение метеорита дало млекопитающим шанс, однако изменила историю именно любовь.
– Но какое, черт подери, это имеет отношение к ожогам Инари?
– Вы что, не слушали? Любовь – это изначальная энергия. Реальное соприкосновение с этой энергией ранит нас. Обжигает. Мы не можем кормиться энергией, которой коснулась любовь. К тому же это понижает нашу способность внушать похоть. Даже атрибуты любви между двумя людьми могут быть опасны для нас. У Лары, например, круглый шрам на левой ладони – это она неосторожно чужое обручальное кольцо подобрала. Моя кузина Мэдлин взяла в руки розу, которую кто-то подарил своей возлюбленной, и шипы отравили ее так сильно, что она неделю провалялась в постели. Так вот, в последний раз, когда вы были с кем-то, – это была Сьюзен. Вы с ней любите друг друга. Ее забота, ее любовь до сих пор с вами и продолжают защищать вас.
– Если так, почему мне приходится поправлять штаны всякий раз, когда мимо проходит Лара?
Томас пожал плечами:
– Вы нормальный человек. Она хороша собой, да и вы не избалованы женской лаской. Но поверьте мне, Гарри, никто из Белой Коллегии не сможет больше полностью завладеть вашими чувствами или кормиться вами.
Я нахмурился:
– Но это было год назад.
– Если с тех пор у вас не было никого, значит след от этого все еще самый сильный.
– Как, интересно, вы определяете, любовь это или нет?
– Проще простого, Гарри. Я сразу узнаю ее, когда вижу.
– И на что она похожа?
– Вы можете владеть хоть всем миром, но, если у вас нет любви, проку от всего этого никакого, – с готовностью ответил он. – «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. <…> А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь…»
– «…Но любовь из них больше», – договорил я. – Это из Библии.
– Первое послание к коринфянам, глава тринадцатая, – кивнул Томас. – Отец заставлял нас всех запомнить эти строки. Это примерно то же самое, когда родители наклеивают яркие зеленые стикеры с гадкой мордой на ядовитые моющие средства под раковиной.
«Что ж, не лишено смысла», – решил я.
– Так о чем вы хотели со мной поговорить?
Томас отворил дверь в дальнем углу библиотеки и пропустил меня в длинную тихую комнату, щелкнув предварительно выключателем. Пол устилал мягкий серый ковер. Стены тоже были серыми. Редкие плафоны под потолком освещали ряд портретов, развешанных с равными интервалами по трем стенам.
– Вы и вправду здесь. Я и подумать не мог, чтобы вы оказались в одном из наших домов – даже в этом, недалеко от Чикаго. И я хочу, чтобы вы увидели кое-что, – негромко добавил он.
Я повернулся к ближней стене:
– Что именно?
– Портреты, – сказал Томас. – Отец всегда пишет портрет женщины, которая родила ему ребенка. Посмотрите их.
– Что я должен увидеть?
– Просто посмотрите.
Я нахмурился, но послушно двинулся вдоль стены, обходя комнату по часовой стрелке. Художником Рейт был настоящим, без дураков. Первый портрет представлял высокую женщину средиземноморского типа; судя по одежде, она жила веке в шестнадцатом или семнадцатом. Золотая табличка на раме гласила: «ЭМИЛИЯ АЛЕКСАНДРИЯ САЛАЗАР». Я перешел к следующему портрету, потом к следующему. Для того, чью основу жизни составляет кормежка на людях посредством секса, Рейт отличался относительной сдержанностью в том, что касается заведения потомства. Сколько я ни смотрел, я не нашел и двух портретов, разница во времени написания которых составляла бы меньше двух десятков лет. Зато портреты могли бы служить хорошим пособием по истории моды вплоть до наших дней.
С предпоследнего полотна на меня смотрела женщина с темными волосами, темными глазами и резкими чертами лица. Пожалуй, я не назвал бы ее безупречной красавицей, и все же ей нельзя было отказать в привлекательности – шокирующей, интригующей. Она сидела на каменной скамье – в длинной темной юбке и темно-алой рубашке. Голова чуть надменно склонена набок, губы изогнуты в ироничной улыбке, руки раскинуты и непринужденно лежат на спинке скамьи, словно намекая, что все вокруг принадлежит ей…
Сердце мое вдруг дернулось и забилось чаще. Очень часто! Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы прочитать надпись на золотой табличке:
МАРГАРЕТ ГВЕНДОЛИН ЛЕФЭЙ
Я узнал ее. У меня сохранилась всего одна ее фотография, но я узнал ее.
– Моя мать, – прошептал я.
Томас покачал головой. Он просунул пальцы за ворот водолазки и вытянул оттуда серебряную цепочку. Снял ее с шеи, протянул мне, и я увидел, что на ней висит пентаграмма – почти такая же, как моя.
Да нет, не почти: точно такая же!
– Не ваша, Гарри, – негромко, непривычно серьезно произнес Томас.
Я тупо смотрел на него.
– Наша мать, – сказал он.
Глава 21
Я все смотрел на него; сердце мое ныло от потрясения, а поле зрения сузилось, превратившись в серый туннель, в дальнем конце которого виднелся Томас. В комнате воцарилась тишина.
– Врете, – произнес я.
– Нет.
– Наверняка врете.
– Зачем? – спросил он.
– Затем, что это ваше основное занятие, Томас. Вы врете. Манипулируете людьми и врете.