Квентин Дорвард Скотт Вальтер
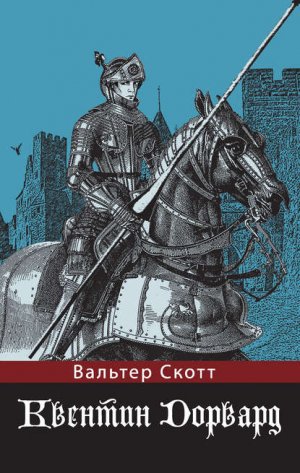
– Потише, потише, любезный кузен! Умерьте свой пыл… Смотрите, что вы делаете. К каким сумасбродствам приводит иногда влюбленных их торопливость! Вы чуть было не спутали руку Анны с рукой ее сестры. Не прикажете ли мне самому подать вам руку Жанны?
Несчастный принц поднял глаза и содрогнулся, как ребенок, которого заставляют дотронуться до предмета, внушающего ему инстинктивное отвращение. Однако, сделав над собой усилие, он взял безвольно опущенную руку принцессы. Когда эта молодая пара стояла потупившись, причем трепещущая рука жениха еле касалась холодных, влажных пальцев невесты, трудно было решить, кто из двоих несчастнее: герцог ли, чувствовавший себя связанным неразрывными узами с той, к кому он питал лишь отвращение, или бедняжка принцесса, вполне сознававшая, какое чувство она внушает тому, чью любовь она охотно купила бы ценой собственной жизни.
– А теперь на коней, господа! – сказал король. – Мы сами будем сопровождать нашу дочь де Боже, и да благословят бог и святой Губерт нашу сегодняшнюю охоту!
– Боюсь, что мне придется вас задержать, государь, – сказал вернувшийся тем временем граф Дюнуа. – Бургундский посол ждет у ворот. Он требует немедленной аудиенции.
– Требует? – переспросил король. – Но разве ты не сказал ему, как я передал тебе через Оливье, что сегодня я принять его не могу, а завтра праздник святого Мартина, который мы, с помощью божьей, не желаем осквернять земными помыслами? Послезавтра же мы отправляемся в Амбуаз. Но, возвратившись оттуда, примем его, как только нам позволят другие неотложные дела.
– Я все сказал ему, государь, – ответил Дюнуа, – но он все твердит…
– Черт возьми! Друг мой, что у тебя застряло в горле? Видно, слова этого бургундца трудно проглотить?
– Если бы меня не удерживали мой долг, приказания вашего величества и неприкосновенность личности посла, я бы заставил его самого проглотить эти слова, государь. Клянусь Орлеанской девой, я бы охотнее заставил его проглотить их, чем передавать вашему величеству!
– Но, боже мой, Дюнуа, как странно, что ты, сам всегда такой горячий, так строг к тому же недостатку нашего взбалмошного и пылкого брата Карла Бургундского, – сказал король. – А я, право, друг мой, так же мало обращаю внимания на его дерзких послов, как башни этого замка – на северо-восточный ветер, который дует из Фландрии и принес нам этого нежданного гостя.
– Так знайте же, государь, – ответил Дюнуа, – граф де Кревкер ждет у ворот с трубачами и со всей своей свитой. Он объявил, что, если ваше величество откажет ему в аудиенции, он будет ждать хоть до полуночи, ибо его господин приказал ему требовать немедленного свидания с французским королем и дело его не терпит ни малейшего отлагательства. Он сказал, что добьется своего и переговорит с вашим величеством в любой час, как только вы выйдете из замка и куда бы вы ни шли, государь: по делам, на прогулку или на молитву, – и что ничто, кроме грубой силы, не заставит его изменить свое решение.
– Он дурак, – сказал невозмутимо король. – Неужели этот взбалмошный фламандец воображает, что разумному человеку трудно просидеть спокойно двадцать четыре часа в стенах своего замка, когда у него на руках дела целого государства? Сумасбродные головы! Они, кажется, думают, что все люди скроены по их образцу и каждый человек только тогда и счастлив, когда сидит в седле… Прикажите-ка убрать и накормить собак, друг Дюнуа. Вместо охоты мы сегодня назначим совет.
– Государь, – возразил Дюнуа, – этим вы не отделаетесь от Кревкера. Он говорит, что если вы не дадите ему аудиенции, то, по приказу своего господина, он прибьет перчатку к ограде вашего замка в знак того, что герцог отказывается от верности Франции и немедленно объявляет ей войну.
– Вот как! – сказал Людовик, не меняя тона, но его косматые брови так нахмурились, что на минуту почти совсем закрыли черные пронзительные глаза. – И так говорит с нами наш старинный вассал! Так обращается к нам наш любезный кузен!.. Ну что же, Дюнуа, придется нам развернуть наше боевое знамя и кликнуть: «Дени Монжуа!»[71]
– В добрый час, государь, слава богу! – воскликнул воинственный Дюнуа.
А королевские стрелки, не в силах обуздать охватившую их радость, зашевелились на своих постах, так что по залу пронесся негромкий, но отчетливый звон оружия. Король поднял голову и гордо посмотрел вокруг; в этот миг он выглядел и думал, как его герой отец.
Но минутная вспышка уступила место политическим соображениям; при существующих условиях открытый разрыв с Бургундией был бы для Франции чрезвычайно опасен. В то время на английский престол взошел воинственный и храбрый король Эдуард IV,[72] лично участвовавший более чем в тридцати сражениях. Он был братом герцогини Бургундской и, весьма вероятно, ждал только явного разрыва между Людовиком и своим зятем, чтобы вторгнуться во Францию со своими войсками через всегда открытые ворота Кале.[73] Он одержал много блестящих побед в междоусобных войнах и теперь хотел самой популярной у англичан войной с Францией изгладить из народной памяти тяжелые воспоминания о внутренних распрях. К этому соображению у короля примешивались сомнения в верности герцога Бретонского[74] и другие не менее важные политические расчеты. Поэтому, когда Людовик после долгого молчания опять заговорил, хотя тон его голоса не изменился, смысл речи был уже совершенно иной.
– Однако сохрани бог, – сказал он, – чтобы мы, христианнейший король, стали проливать французскую кровь без крайней необходимости, если мы можем избежать этого бедствия, не бесчестя нашего имени. Жизнь наших подданных мы ставим выше всех оскорблений, какие может нанести нашему достоинству какой-нибудь грубиян посол, который, быть может, даже преступил пределы своих полномочий. Впустить сюда бургундского посла!
– Beati pacifici![75] – сказал кардинал де Балю.
– Воистину! А те, кто смиряется, вознесутся – не так ли, ваше святейшество? – добавил король.
– Аминь, – сказал кардинал.
Но почти никто из присутствующих не повторил этого слова. Даже бледное лицо герцога Орлеанского вспыхнуло румянцем стыда, а Меченый не в состоянии был скрыть своих чувств: он чуть не выронил из рук бердыш, который глухо звякнул, задев концом об пол. За такую несдержанность ему пришлось выслушать строгий выговор от кардинала и наставление, как следует стоять на часах в присутствии государя. Сам король был, видимо, смущен воцарившимся кругом тяжелым молчанием.
– Ты о чем-то задумался, Дюнуа, – сказал он, – или ты осуждаешь нас за уступчивость перед этим дерзким послом?
– Нет, государь, – ответил Дюнуа, – я не вмешиваюсь в дела, которые не входят в круг моих обязанностей. Я просто думал попросить ваше величество об одной милости.
– О милости, Дюнуа? Говори, что такое? Ты редко о чем-нибудь просишь и можешь заранее рассчитывать на наше согласие.
– В таком случае я прошу вас, государь, послать меня в Эвре управлять тамошним духовенством, – сказал Дюнуа с истинно военной прямотой.
– Вот действительно дело, которое не входит в круг твоих обязанностей, – с улыбкой заметил король.
– Во всяком случае, – ответил граф, – я был бы не худшим командиром для попов, чем его святейшество епископ или, если ему больше нравится, его святейшество кардинал – для солдат гвардии вашего величества.
Король опять загадочно улыбнулся и шепнул Дюнуа:
– Может быть, придет скоро время, когда мы с тобой подтянем попов… А пока будем терпеть это самодовольное животное епископа. По теперешним временам и он годится… Ах, Дюнуа, это Рим взвалил нам на плечи и его, и другие тяжелые обузы! Но потерпим, мой друг: будем тасовать карты, пока не добьемся хорошей игры.
В эту минуту звуки труб во дворе возвестили о прибытии бургундского посла. Все присутствующие поспешили разместиться по старшинству вокруг короля и его дочерей, как того требовал этикет.
В зал вошел граф де Кревкер, известный своей храбростью. Вопреки обычаю, принятому у послов дружественных держав, он был в полном вооружении и только с непокрытой головой. На нем были великолепные стальные латы миланской работы, выложенные фантастическими золотыми узорами. С шеи, поверх блестящего панциря, спускался бургундский орден Золотого Руна – в то время один из почетнейших рыцарских орденов. Красивый паж нес за ним его шлем; впереди шел герольд с верительными грамотами, которые он, преклонив колено, протянул королю. Сам же посол остановился посреди зала, как будто для того, чтобы дать возможность присутствующим полюбоваться его величественной осанкой, решительным взглядом, гордыми манерами и спокойным лицом. Остальная свита стояла во дворе и в прихожей.
– Подойдите, граф де Кревкер, – сказал Людовик, бросив мимолетный взгляд на поданные ему бумаги. – Мы не нуждаемся в верительных грамотах нашего кузена, чтобы принять столь славного воина, и не сомневаемся, что он вполне заслуживает доверия своего господина. Надеемся, что ваша прекрасная супруга, в жилах которой течет кровь наших предков, находится в добром здоровье. Если бы вы явились рука об руку с нею, граф, мы могли бы подумать, что вы надели ваши доспехи, чтобы отстаивать первенство ее красоты перед всеми влюбленными рыцарями Франции. Но сейчас мы положительно отказываемся понять, что означает ваш воинственный вид.
– Государь, – ответил посол, – граф де Кревкер оплакивает свое несчастье и просит прощения у вашего величества, но в настоящем случае он не может отвечать вам с той смиренной почтительностью, с какой он обязан говорить с государем, удостоившим его своей королевской милости. Но Филипп Кревкер де Корде говорит не от своего имени: устами его говорит его доблестный государь и повелитель герцог Бургундский.
– Что же скажет нам герцог Бургундский устами графа де Кревкера? – спросил Людовик с царственным достоинством. – Постой! Не забывай, что в эту минуту Филипп Кревкер де Корде говорит с государем своего государя.
Кревкер поклонился и, гордо выпрямившись, проговорил громким голосом:
– Король французский! Великий герцог Бургундский еще раз шлет вам письменный перечень обид и притеснений, совершенных на его границе чиновниками и гарнизонами вашего величества. Вот первый пункт, на который он требует ответа: намерены ли ваше величество дать ему удовлетворение за нанесенные ему оскорбления?
Король мельком взглянул на бумаги, которые держал перед ним коленопреклоненный герольд, и сказал:
– Это дело давно уже рассмотрено нашим советом. Некоторые из перечисленных здесь оскорблений были лишь возмездием за обиды, нанесенные моим французским подданным; другие ничем не доказаны, а третьи уже отомщены войсками и гарнизонами герцога. Если же найдутся еще и такие, которые не подойдут ни под одну из вышеуказанных рубрик, то, разумеется, мы, как христианский король, никогда не откажемся дать за них должное удовлетворение нашему соседу, хотя все незаконные поступки на нашей границе были сделаны не только без нашего ведома, но и вопреки нашим строжайшим повелениям.
– Я передам ответ вашего величества моему благородному господину, – сказал посол, – но осмелюсь заметить, что так как ответ этот ничуть не отличается от прежних уклончивых ответов вашего величества на справедливые жалобы моего господина, то я не думаю, чтобы он удовлетворил моего государя и мог восстановить мир и согласие между Францией и Бургундией.
– Да будет так, как угодно господу, – сказал король. – И если я даю столь сдержанный и умеренный ответ на дерзкие упреки, которые позволяет себе твой господин, то делаю это не из страха перед его оружием, а единственно из любви к миру. Продолжай!
– Второе требование, на котором настаивает мой государь: чтобы ваше величество прекратили тайные сношения с его городами Гентом, Льежем и Малином; чтобы вы немедленно отозвали оттуда своих тайных агентов, сеющих смуту среди его добрых фламандских граждан; чтобы ваше величество изгнали из своих пределов или, вернее, отдали бы для заслуженного наказания в руки их законного государя тех изменников, которые бежали от него, совершив свои вероломные поступки, и нашли надежный приют в Париже, Орлеане, Туре и других французских городах.
– Передай герцогу Бургундскому, – ответил король, – что я ничего не знаю о тех тайных кознях, в которых он так дерзко меня обвиняет; что мои французские подданные действительно находятся в постоянных сношениях со славными городами Фландрии, но сношения эти чисто торгового характера, и не только мне, но и самому герцогу было бы невыгодно их прерывать; что многие фламандцы живут в нашем государстве по тем же причинам и пользуются покровительством наших законов, но, насколько я знаю, между ними нет ни одного скрывающегося изменника или ослушника герцогской воли. Продолжай! Ты слышал мой ответ.
– Как и первый, скажу с прискорбием, государь, – ответил граф де Кревкер, – он недостаточно ясен и прям, чтобы герцог, мой повелитель, счел его должным возмещением за целый ряд происков – тайных, но тем не менее существующих, хотя ваше величество и отказываетесь их признать. Но я продолжаю. Герцог Бургундский требует далее, чтобы король французский немедленно и под верной охраной выслал к нему Изабеллу, графиню де Круа, и ее родственницу графиню Амелину, той же фамилии.[76] Это последнее требование герцог основывает на том, что графиня Изабелла, состоящая под его опекой по законам страны и по положению своих феодальных владений, бежала из Бургундии и нашла тайный приют и покровительство у французского короля, который подстрекает ее к неповиновению герцогу, ее законному государю и опекуну, и тем нарушает все законы божеские и человеческие, признаваемые всей цивилизованной Европой. Еще раз жду ответа вашего величества.
– Вы хорошо сделали, граф де Кревкер, – сказал Людовик презрительно, – что потребовали аудиенции с утра, потому что если вы намерены спрашивать у меня отчета за каждого вассала, бежавшего от гнева моего взбалмошного кузена герцога, то перечень грозит затянуться до самого заката. Кто смеет утверждать, что эти дамы находятся в моих владениях? А если бы даже и так, кто смеет сказать, что я содействовал их побегу или взял их под свое покровительство? Где доказательства, что они во Франции и что мне известно их убежище?
– Государь, – сказал Кревкер, – вашему величеству известно, что у меня было это доказательство… был свидетель, видевший этих дам в гостинице под вывеской «Лилия», неподалеку от вашего замка; он видел их в вашем обществе, государь, хотя ваше величество и были переодеты в недостойный вашего звания костюм турского горожанина. В вашем присутствии, государь, этот свидетель получил от дам письма и устные поручения к их друзьям во Фландрию. То и другое было передано этим человеком герцогу Бургундскому.
– Где же он, этот свидетель? – спросил король. – Приведите его сюда. Посмотрим, осмелится ли он повторить в нашем присутствии свою гнусную ложь.
– Вы заранее торжествуете, государь, потому что знаете, что свидетеля этого больше нет в живых. Это был бродяга цыган по имени Замет Мограбин. Вчера, как я узнал, он был казнен людьми начальника полиции вашего величества… вероятно, затем, чтоб он не мог подтвердить здесь то, что сообщил герцогу Бургундскому в присутствии совета и моем – Филиппа Кревкера де Корде.
– Клянусь пречистой девой Эмбренской, – воскликнул король, – это обвинение так нелепо и совесть моя в этом деле так чиста, что я готов скорее смеяться, чем сердиться! Мой прево казнит ежедневно воров и бродяг, и это его прямая обязанность, но неужели слова какого-нибудь вора и бродяги, хотя бы они были сказаны самому герцогу Бургундскому в присутствии его мудрого совета, могут запятнать мою королевскую честь? Пожалуйста, граф, передайте от меня любезному нашему кузену, что если он так любит общество подобных людей, то пусть держит их при себе, ибо у меня им, кроме самой короткой расправы да доброй веревки, не на что больше рассчитывать.
– Мой повелитель не нуждается в таких подданных, ваше величество, – ответил граф таким непочтительным тоном, какого до сих пор еще себе не позволял, – ибо благородный герцог не имеет обыкновения гадать у колдунов и бродячих цыган о судьбе своих союзников и соседей…
– Всякому терпению наступает конец, – перебил его король. – А так как, по-видимому, единственная твоя цель – оскорблять нас, то мы сами пришлем кого-нибудь к герцогу Бургундскому для окончания переговоров: мы твердо убеждены, что своим поведением ты превышаешь данные тебе полномочия, каковы бы они ни были.
– Напротив, я далеко еще не выполнил их, – сказал Кревкер. – Слушай же, Людовик Валуа, король Франции!.. Слушайте, вельможи и дворяне, здесь присутствующие!.. Слушайте и вы все, честные и добрые люди!.. А ты, герольд Туасон д’Ор, повторяй за мной слова моего государя. Я, Филипп Кревкер де Корде, имперский граф[77] и рыцарь почетного ордена Золотого Руна, именем моего могущественного государя и повелителя Карла, – милостью божьей герцога Бургундии и Лотарингии, Брабанта и Лимбурга, Люксембурга и Гельдерна, графа Фландрии и Артуа, княжества Эно, Голландии, Зеландии, Намюра и Зутфена, маркиза Священной империи, владетеля Фрисланда, Салина и Малина, – во всеуслышание объявляю вам, Людовик, король Франции, что так как вы отказываетесь дать удовлетворение за все беззакония, обиды и вред, совершенные и нанесенные лично вами или при вашем содействии, с вашего ведома и по вашему подстрекательству, моему государю герцогу и его верным подданным, он, моими устами, отныне отказывается от всякого повиновения и подданства вашему престолу, объявляет вас вероломным лжецом и вызывает на бой как короля и человека! Вот вам залог и подтверждение того, что я сказал!
С этими словами граф снял с правой руки латную перчатку и бросил ее на пол.
До последней дерзкой выходки графа во время этой необычайной сцены в аудиенц-зале царило гробовое молчание. Но едва лишь раздался глухой стук ударившейся об пол тяжелой перчатки и вслед за тем громкий возглас Туасона д’Ор, герольда, «Да здравствует Бургундия!», как началось всеобщее смятение. В то время как Дюнуа, герцог Орлеанский, престарелый лорд Кроуфорд и еще двое-трое вельмож, которым их звание позволяло подобное вмешательство, спорили о том, кому поднять перчатку, все остальные кричали: «Бейте его! Рубите его! Он осмелился оскорбить короля в его собственном замке!»
Но король разом восстановил тишину, воскликнув громовым голосом, покрывшим шум и крики:
– Молчать! И чтобы ничья рука не смела прикоснуться ни к этому человеку, ни к брошенной им перчатке!.. А вы, граф… Чем обеспечена ваша жизнь? Или, быть может, вы считаете себя неуязвимым, что так опрометчиво рискуете собой? Да и ваш герцог, должно быть, сделан из какого-нибудь особого металла, если вздумал отстаивать свои воображаемые права таким необычайным способом!
– Это правда, он создан из другого, более благородного металла, чем все остальные европейские государи, – ответил бесстрашный граф де Кревкер. – В то время как никто из них не осмеливался дать вам приют… да, вам, король Людовик!.. когда вы еще дофином были изгнаны из Франции, когда вы испытывали на себе всю горечь родительской мести и всю силу власти отца-короля, мой благородный государь принял вас и обласкал, как брата. И вот как вы отплатили ему за его великодушие! Прощайте, я кончил, ваше величество!
И граф де Кревкер, даже не поклонившись, вышел из зала.
– За ним! За ним! Поднимите перчатку и догоните его! – крикнул король. – Я говорю это не тебе, Дюнуа… И не вам, лорд Кроуфорд: вы слишком стары для такого дела… И не вам, кузен мой, герцог Орлеанский, вы для него слишком молоды… Ваше святейшество… господин епископ Оксерский, ваш прямой долг, ваша священная обязанность – мирить государей… Поднимите же перчатку и постарайтесь вразумить графа Кревкера, указав ему, какой страшный грех он совершил, оскорбив великого государя в его собственном замке и вынуждая его подвергнуть бедствиям войны свое и соседнее государство!
Не осмеливаясь ослушаться этого прямого приказа, кардинал де Балю поднял перчатку с такой осторожностью, точно дотронулся до ядовитой змеи (так велико было, по-видимому, его отвращение к этой эмблеме войны), и поспешно вышел из зала, чтобы исполнить приказание короля.
Людовик молча окинул взглядом собрание. За исключением тех, о ком мы уже упоминали, здесь были большей частью люди низкого звания, обязанные своим возвышением при королевском дворе отнюдь не доблестным подвигам на поле брани. Бледные от испуга после только что происшедшей сцены, они переглядывались в сильном смущении. Людовик презрительно посмотрел на них и сказал:
– А все-таки нельзя не сознаться, что, несмотря на всю дерзость и самоуверенность графа де Кревкера, герцог Бургундский имеет в его лице отважного и верного слугу. Хотел бы я знать, где мне найти такого же верного посла, чтобы отвезти мой ответ?
– Вы несправедливы к французскому дворянству, государь, – сказал Дюнуа. – Ни один из нас, я уверен, не откажется отвезти герцогу Бургундскому ваш вызов на конце своего меча.
– Вы обижаете также и шотландских джентльменов, которые служат вам, государь, – прибавил старый Кроуфорд. – Ни я и ни один из моих подчиненных, достойных того по своему званию, ни на минуту не задумались бы проучить этого гордого графа за его дерзость. Моя рука еще достаточно тверда, государь, только бы ваше величество соизволили дать мне свое разрешение.
– Но вашему величеству, – продолжал Дюнуа, – не угодно поручить нам такое дело, которое могло бы принести славу нам самим, нашему государю и Франции.
– Лучше скажи, Дюнуа, – ответил король, – что я не хочу давать волю вашей безумной отваге, которая из-за какого-нибудь пустого вопроса рыцарской чести готова погубить вас самих, французский престол и всю страну. Все вы знаете, как дорог сейчас каждый час мира, чтобы залечить раны нашей истерзанной страны, а между тем каждый из вас готов очертя голову ринуться в бой из-за какой-нибудь выдумки бродячего цыгана или из-за бежавшей красавицы, которая, быть может, стоит немногим больше его… Но вот и кардинал – надеюсь, с мирными вестями… Ну что, ваше святейшество, удалось вам вразумить этого взбалмошного графа?
– Государь, – сказал де Балю, – вы задали мне нелегкую задачу. Я объяснил этому гордому графу, какое оскорбление он нанес вашему величеству своим дерзким упреком, прервавшим аудиенцию; я сказал ему, что его повелитель, во всяком случае, не мог уполномочить его на столь наглый поступок, который был вызван лишь его собственным необузданным характером, и объявил ему, что такое поведение отдает его в руки вашего величества и что теперь в вашей власти наказать его, как вы найдете нужным.
– Вы говорили правильно, – сказал король. – Что же он вам ответил?
– В ту минуту, когда я подошел к нему, граф уже занес ногу в стремя, чтобы сесть на коня, – продолжал кардинал. – Он повернул ко мне голову, выслушал мою речь, не меняя позы, и ответил: «Если бы я был за пятьдесят лье отсюда и мне сказали бы, что король французский оскорбил моего государя, я, не задумываясь, вскочил бы на коня и прискакал сюда, чтоб облегчить свою душу ответом, который я только что ему дал».
– Я говорил, господа… – сказал король, обращаясь к присутствующим без всяких признаков гнева или волнения, – я говорил, что в лице графа Филиппа де Кревкера герцог, наш кузен, имеет самого достойного слугу, когда-либо служившего государю… Но вы все-таки уговорили его подождать?
– Только двадцать четыре часа, государь, и на это время взять обратно свой вызов, – ответил кардинал. – Он остановился в гостинице «Лилия».
– Позаботьтесь о достойном для него приеме за наш счет, – сказал король. – Такой слуга – драгоценный камень в венце государя… Двадцать четыре часа? – прошептал он, глядя прямо перед собой задумчивым взором, словно старался заглянуть в будущее. – Двадцать четыре часа?.. Не много времени!.. Впрочем, за двадцать четыре часа, употребленные с умом, можно сделать больше, чем за целый год, проведенный беспечным бездельником… Но что же я!.. На охоту! В лес, в лес, господа! Любезный родич герцог Орлеанский, отбросьте вашу скромность, хотя она вам очень к лицу, и не обращайте внимания на застенчивость Жанны. Скорее Луара перестанет сливаться с Шером, чем Жанна откажется от вашей привязанности… а вы – от ее, – добавил Людовик вслед бедному принцу, который медленно побрел за своей нареченной. – Запасайтесь копьями, господа, потому что мой доезжачий Аллегр выследил нынче вепря, который задаст работу нам всем: и людям, и собакам… Дай мне твое копье, Дюнуа, и возьми мое: оно для меня тяжело, а ведь ты никогда еще не жаловался на тяжесть копья. На коней, на коней!
И охотники поскакали.
Глава IX
Охота на вепря
«Король Ричард»
- А я с мальчишками и с дураками
- Чугуннолобыми водиться буду.
- На что нужны мне те,
- кто с подозреньем
- Следят за мной!
Несмотря на то что кардинал имел возможность прекрасно изучить характер своего государя, на этот раз он сделал непоправимую ошибку. Ослепленный тщеславием, он вообразил, что, уговорив графа де Кревкера отложить свой отъезд, оказал королю такую услугу, какую не сумел бы ему оказать никто другой. А так как кардиналу было известно, какое важное значение придавал Людовик отсрочке войны с герцогом Бургундским, то он невольно давал ему понять, что вполне понимает всю важность своей услуги. Он держался ближе обыкновенного к особе короля и все время старался наводить разговор на утренние события.
Это было большой неосмотрительностью во многих отношениях: короли вообще не любят, чтобы подданные приближались к ним, всем своим видом показывая, что помнят об оказанных ими услугах и тем самым как бы требуют награды или благодарности. А Людовик, самый подозрительный из всех когда-либо живших монархов, положительно не выносил людей, ни слишком высоко ценивших свои услуги, ни пытавшихся проникнуть в его тайны.
Но, ослепленный своим успехом, как это иногда случается и с самыми осторожными людьми, кардинал, вполне довольный собой, продолжал ехать рядом с королем, при каждом удобном случае заводя разговор о Кревкере и о его посольстве; и хотя очень возможно, что в ту минуту этот предмет больше всего занимал мысли Людовика, именно о нем-то он меньше всего желал говорить. Наконец король, долго и со вниманием слушавший кардинала, хотя ни одним словом не поддерживавший разговора, сделал знак Дюнуа, ехавшему немного поодаль, чтобы тот приблизился к нему с другой стороны.
– Мы едем охотиться и развлекаться, – сказал он, – но его святейшеству очень хочется заставить нас начать совет о делах государства.
– Надеюсь, ваше величество, избавите меня от участия в нем, – сказал Дюнуа. – Я рожден сражаться за Францию, мое сердце и рука к ее услугам, но голова моя не годится для советов.
– А вот у кардинала голова точно нарочно создана для них, – ответил король. – Он исповедовал Кревкера у ворот нашего замка и передал нам всю его исповедь… Или, может быть, не всю? – добавил король с особым ударением на последнем слове и бросил на кардинала взгляд, сверкнувший из-под густых темных бровей, словно клинок обнаженного кинжала.
Кардинал вздрогнул и, пытаясь попасть в тон королевской шутке, сказал:
– Действительно, мой сан обязывает меня хранить тайны, открытые мне на исповеди, но нет sigillum confessionis,[78] которая не растаяла бы под дыханием вашего величества.
– А так как его святейшество, – продолжал король, – готов поделиться с нами чужими тайнами, то он, естественно, ожидает от нас такой же откровенности и выражает вполне разумное желание, чтоб мы пошли ему навстречу и сообщили, действительно ли обе дамы де Круа находятся в наших владениях. К сожалению, мы не в силах удовлетворить его любопытство, так как нам неизвестно точное местопребывание странствующих красавиц, переодетых принцесс и оскорбленных графинь, могущих скрываться в пределах наших владений, которые, благодарение господу богу и пресвятой деве Эмбренской, слишком обширны для того, чтобы мы имели возможность ответить на этот вопрос его святейшества. Но предположим, что местопребывание этих дам мне известно. Что бы ответил ты, Дюнуа, на повелительное требование нашего кузена?
– Я отвечу вам, государь, если вы откровенно скажете мне, чего вы желаете: войны или мира? – сказал Дюнуа с прямотой, свойственной его открытому, смелому характеру, благодаря которому он заслужил привязанность и доверие короля, ибо Людовик, как все коварные люди, настолько же любил читать в чужих сердцах, насколько не любил открывать свою душу.






