Содом Капустин (Поэма тождества) Капустин Содом
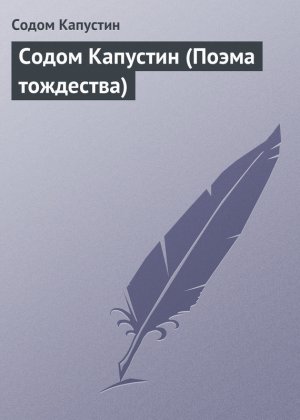
– Теперь ты, Содом Капустин, узнаешь, познаешь, испытаешь и прочувствуешь, что значит, бывает, составляет и случается с теми, кто не соглашается, присоединяется, утирается и упирается нашим заключениям, законам, постановлениям и вердиктам!
Фаллосы Папы возмущали, перемешивали, перекраивали и взбивали тонкое, нежное, стойкое и неизменное тело твоего духа. Папа рычал, рыгал, ревел и ругался последними, предпоследними, непонятными и неподцензурными словами от злости, раздражения, похоти и отвращения к тебе, твоему духу, твоему телу и твоей книге, о которой пока никто не догадывался. Ты, твоё тело или твой дух могли бы прекратить это извращение, истязание и издевательство, но они следовали, не нарушали и подчинялись только одному твоему решению, что было принято не здесь, не сейчас и непредвзято, и предписывало не сопротивляться, не протестовать и не отвечать никому, кто бы не терзал, насмехался и изгалялся над тобой.
И когда Папа, его тело и его дух, изнасиловавшие твой дух, душевно, духовно и бесчувственно эякулировали, в безосновательной, беспочвенной и безводной идее, подозрении и убеждении, что если, вдруг и когда дух папиного семени проникнет, протиснется и сольётся с твоим духом, то это позволит обрести над тобой контроль, власть и влияние, твои тело и дух уже знали, как на это ответить, противодействовать и отозваться. Выбитый, вызванный и отделенный от твоего тела твой дух загустел, уплотнился и отвердел так, что лингамы Папы не смогли выпустить в него свои разряды, отряды и батальоны разлагающих, разрушающих и соблазняющих сперматозоидов и те остались в запертые, замурованные и зачарованные в спермоиспускательных каналах, проводах и подводах Папы. И когда давление, напряжение и прессинг спермы, поступающей из простат, семенников и внутренностей Папы зашкалило, перекрыло и превысило предел, возможности и границу прочности, стойкости и многожильности Папы, его мертвецкие, богатырские и склепские соки ринулись обратно.
Твоё тело глазами твоего духа видело как прожорливые, прободающие и пропадающие спермии с наслаждением, восторгом и аппетитом вгрызались в тело, дух и семенники Папы, заставляя того плясать, скакать и выделывать коленца от боли, досады и неисполнения заветного желания. Не теряя времени, духа и пространства, твоё своевольное, самоуправное и неуправляемое тело воспользовалось замешательством, смешением и спутанностью сознания, воздуха и тела Папы и попыталось его ассимилировать, втянуть и поглотить. Но Папа, хотя и корчился, валялся и катался по подиуму, постаменту и портьерам, не забывал, переставал и проверял свои связи с собственным мирком, казематом и построением. Твоё тело находило, выедало и кушало линии, лучи и касательства Папы, начиная от него самого и кончая точкой, пунктом и областью прикрепления, применения и удержания. Но точек этих оказывалось слишком, чрезмерно и неоправданно много и когда Папа овладел собой, пришел в себя и взял себя в руки, руки в ноги, ноги в живот и, заизолировавшись, закрывшись и испугавшись твоих возможностей, превратился, преобразился и перелился в черный непроницаемый шар, он оказался на дне другого, порожнего, наполненного и беременного одним только Папой шара, шара, представляющего, олицетворяющего и обезвеществляющего подъеденные твоим телом удерживающие, поддерживающие и сдерживающие Папу связи.
Твоё тело лежало, единое с собственным духом, цельное в пределах иссеченности, свободное в пределах узилища, на краю круглой воронки, углубления и каверны, где некогда возвышался символ, атрибут и показатель Папиного правления, управления и покорности: трон. А вокруг непрошибаемого, неуязвимого и непоколебимого шара Папы кружились прилетевшие, приползшие и приковылявшие из заточения, отсидки и изоляции все те, кого Папа за тысячелетия своего произвола, узурпаторства и самозванства угостил, напоил и попотчевал коричневой спермой уничтоженного твоим телом четвертого члена.
Продавливая себя сквозь каменные, уложенные и сбитые воедино плиты, подтягивались к Папе змеи, гады и черви колебания, депрессии и сомнения в его уникальности, непогрешимости и неординарности. Сплёвывая, отрыгивая и роняя огонь разрушения, приближались к Папе саламандры критики, самокритики и забвения. Вымораживая, лиофилизируя и вакуумируя всё на своих путях, рельсах и монорельсах, катились к Папе локомотивы одиночества, вагоны иллюзорности и паровозы зависимости от вещей и веществ, сущего и существ, высшего и низшего. Сыпля соль, селитру и цианиды, на кривых лапах, перекошенных крыльях и свёрнутых клювах топали к Папе гарпии удержанного в узде, тенетах и сетях смеха, жирафы ужасного, прекрасного и мимолётного обмана, гиены катастрофической, расслабляющей и неисправимой несерьёзности. Все эти воплощения страхов, искушения надёжности и испытания ответственности, оттесненные Папой на дальние границы, заставы и кордоны его тюрьмы, империи и вселенной, теперь явились к нему скопом, кагалом и табором и, встав лагерем, осадой и бивуаком, продолжили своё ожидание, предвкушение и надежду на личную встречу с тем, кто их отверг, отторг и не признал.
Воистину, дальнейшее незабываемо!
Примчавшиеся на тишину, молчание и безмолвие вертухаи, тут же метлами, граблями и тяпками взялись отгонять чудищ, страшилищ и моральных, этических и эпических уродцев от шара Папы. Хозобозники, улыбчивые, добродушные и коварные, подманивали тварей кусочками пирог, пирогами, и сапогами, как изображающий маньяка-педофила отец показывает своему дитяте конфетку, маня его при этом пальцем, или как прыгающие в лототроне мячики с замаскированными магнитами устремляются в приёмную корзинку, и когда те, наивные, соблазнялись лакомствами, на них надевали ошейники, наручники и кандалы и немедля волокли в опустевший бестиарий. Тебя же, едва Папа смог восстановить былую форму, формы и само обладание своим телом, потащили, повинуясь его приказу в уже знакомую твоему телу кумирню, чтобы попробовать избавиться от тебя нетрадиционными, народными и деревенскими средствами, способами и рассолами.
– Благую весть, салят и газават принес я вам, пасынки мои!
Атеист веры скинул с себя кольчужную косоворотку, фильдеперсовый хиджаб и парчовый клобук, как краб разрывает спиной ставший маленьким ему хитиновый панцирь и выбирается на песок, мягкий и безоружный, или как распадаются половинки матрицы, являя на свет очередного резинового пупса, еще не раскрашенного и потому мало похожего на прототип. Зеки, прислуживающие Осквернителю учений, пали на седалища, копчики и коврики, царапая, ковыряя и располосовывая свои щеки осиновыми, кленовыми и липовыми зубочистками, продетыми между пальцами.
– Умер, сгинул и растаял без следа поносный распутник, похабный бесстыдник и срамной подзаборник, враг рода человеческого, грязь помыслов людских и падаль племени еретического – Содом Капустин!
Твоё тело, неподвижное, но обмотанное цепями, подтяжками и колючей проволокой, распластанное, но придавленное колосниками, чебуреками и блинами, обездвиженное, но заточенное в колодки, оковы и подковы, лежало на высокой поленице из цельных, влитых и неоструганых стволах ископаемых лиственниц, откопанных елей и звенящих кедров. Три, простых, как святость, дурных, как ревность и слепых, как правда, прислужника стояли с факелами, спичками и канистрами, готовые без сигнала, по своему усмотрению и невольному хотению, запалить жертвенный костёр, огонь и гекатомбу.
– Забудем же отныне и вовек бесчестное имя его, протухлое семя его и постыдные знаки, что предвещали, сопровождали и провожают его в безвестность! Алкающим злата брадатым козлищем предстал он перед нами в первый же миг жизни его. Пакостной выблядью, марающей все, на что обратится завидущий зрак его, поруганной, посрамленной и опоганенной, пробирался он меж нас. Паскудной грудой смердящей отвратными миазмами плоти, валяется он сей миг перед нами!
Отравитель религий не мог не видеть, что твои глаза распахнуты, что жилы на твоей шее то напрягаются, то расслабляются, что ступни твои непроизвольно подёргиваются, но все равно продолжал распекать, хулить и распевать тебя так, словно перед ним лежал уже остывший, препарированный и загримированный труп. Согнанные со всех камер, карцеров и бараков зеки истошно мастурбировали, пялили глаза и спали, словно выброшенные лапой гризли на берег рыбы, в какой-то момент перестающие шевелить жабрами и открывать усеянные мелкими зубами челюсти, или залитый тоннами воды подземный торфяной пожар, постепенно расчищающий себе пространство для нового рывка, прислушники, непослушники и оторванцы занимались своими делами, судами и допросами, охранники ходили, маршировали и отдавали чести, нося вокруг кумирни караул, тревогу и походную сирену. Божества, ками и ифриты вылупились на тебя с фресок, витражей и горельефов, облизывая пересохшие зубы, прочищая забитые пылью уши и выколупывая сигарные окурки, шпанские мушки и шампанские пробки из широких ноздрей.
Когда бы ты присутствовал в кумирне, ты бы поразился беззубости заклинаний, заклятий и причитаний, непродуманности ритуальных построений, пристроек и флигелей, бесполезности применяемых артефактов, артишоков и арт-композиций. Но ты всё ещё пробирался сквозь самого себя, пока недоступный для внешнего, но уже исследовавший всё, что можно исследовать, узнавший, всё что можно узнать и познавший даже то, что познанию не поддавалось, начал обратный путь к поверхности, тяня, толкая и держась за уже воплощенный в кости, суставах и заметках полноценный, совершенный и завершенный скелет своей книги, той самой, что преобразит текст, сделав его доступной, считываемой и понятной материей, что унавозит отмёршими архетипами почву для произрастания ясности, процветания внятности и восхождения чёткости, что размелет мысль, пространство мысли и мыслимые рамки в гомогенную пыль, испечет из нее безмерный, прозрачный и вразумительный монолит.
– Как был ты грязью, так грязью и оставайся! Как жил ты скотиной, так скотиной и уходи! Как проявился ты мразью, так и мы закроем тебя еще большей мерзостью!
Культоложец надавил на рычаг и на тебя полились мазут и спирт, асфальт и бензин, нефть и масло. Смешиваясь, они пузырились, пузырясь, они пенились, а из пены появлялись странные существа, как лезут из прогрызенной насквозь картонной коробки жесткокрылые ребристые жужелицы, или как появляются из-за горизонта непонятно откуда появившиеся переливчатые перистые облака, призванные распеваниями, рассредоточениями и распутностью Оскопителя религий и его недобровольных помощников. Воспламененные факелоносцами, камикадзе и пироманами жидкости, вязанки и поленицы вспыхнули и, разбрызгивая искры, лепестки и бутоны пламени, попытались спалить, поджарить и иссушить твоё тело, превратив его в головешки, сыроежки и мумифицированные останки. Раззадоренные дымом, огнём и палевом с картин, киноэкранов и диапозитивов поспрыгивали, повыпадали и помчались к твоему, пожертвованному им телу ракшасы и расчёсы, джатаки и суджуки, агуры и авгуры. Принимая столбы дыма за пищу, языки огня за воду, а твоё тело за деликатес, духи, демоны и полудемоны рассупонив, развесив и расчехлив бессчетные, безразмерные и беспризорные гениталии, принялись, без шор, без руля и без воротил совокупляться со всем, что попадалось им под, на и вблизи эрегированных, полужестких и откровенно мягких членов, сочленений и расчленений.
Твоё тело, разогретое пламенем, подогретое близостью и растревоженное сношениями, не отвлекаясь, на копоть, сажу и сожжение, всасывало в себя, рассортировывая на молекулы, оргоны и органы ублаготворяющихся божеств, убожеств и апостолов, как желудок, выделяемыми энзимами, разбивает поступившую в него пищу на отдельные пептиды, или как река, гонящая по своему дну песок и камни, разделяет их на фракции по величине частиц, весу и плотности. Никто, кроме твоего тела, не вёл счет, тайм и раунд похотливого сражения, баталии и схватки. Никто, кроме твоего тела, не замечал, отмечал и наблюдал, как иссякает огонь, топливо и путы. Никто, кроме твоего тела, не видел, как искупители, покупатели и магонцы прежде чем эякулировать в листьях, кущах и зарослях пламени, сбрасывали маски и личины, кожи и одёжи, талисманы и хитрованы, представали в своём истинном, обычном и подлинном виде простых зеков, хозобозников и примазавшихся к ним охранников и тут же пропадали, разложенные в ряды, распиленные в рейки и расколотые вдребезги, которые сразу же проваливались в твоё бездонное, прожорливое и ненасытное тело.
И лишь когда Одурманиватель культов опустил очи, веки и ресницы долу, равнине и костровищу, он обнаружил, узрел и опешил от того, что посреди его кумирни, без следа поленицы, уз и огня мирно, безропотно и скромно лежит твое неповрежденное, непропеченное и неизжаренное тело и смотрит своими глазами в горние, горные и потолочные балки, овраги и выси.
– Купель!..
Всхрип, всхлип и всхрап Развешивателя фетишей был услышан, понят и принят к действию, исполнению и воплощению в явь, навь и правь. Служки, адепты и контрадепты, как облепившие шляпку желудя муравьи, пытающиеся убрать эту неожиданную преграду с торной дороги, или как ударный отряд демонов Максвелла, выхватывающих из общей массы только самые холодные частицы, выволокли на минбар, амвон и авансцену водруженную на чертову дюжину чертей, бесов и леших свинцовую чашу и принялись лить в нее императорскую, царскую и королевскую водки, чернильную, белильную и синильную кислоты, уксус, мускус и имбирное пиво, сыпать туда плавиковый, плавниковый и пряниковый шпаты, гашеную, потушенную и горелую известь, серу, марганцовку и закись, накось и перекись водорода. Твоё тело, предвкушая продолжение трапезы, не подавало признаков жизни, довольства и благодати, как вдруг в процесс, течение и продолжение церемонии твоего ритуального уничтожения вмешались старые, известные и неожиданные силы.
Ты не сможешь вычеркнуть из памяти то, что случилось после!
Пока твоё сожжение было в самом угаре, пожаре и разгаре, по рядам, колоннам и кучкам зеков, что занимались мастурбацией, совокуплениями и сном, прохаживался, пробирался и прокрадывался тюремный врач, держа на коротких, длинных и суровых поводках трёх специально, отдельно и особо обученных медбратьев-ищеек. Когда один из поисковиков находил бодрствующего арестанта, Инъектор острога вводил тому морфий, веронал и седуксен, когда второй обнаруживал колодника, выпустившего из пальцев свой член, Таблеточник узилища кормил того афродизиаками, амфетаминами и аммофоской, когда же третий отыскивал своего зека, он поднимал голову, руки и глаза и принимался визжать, как касатка, попавшая в ледовую полынью, из которой нет выхода, или как дисковая пила, наткнувшаяся в строевой сосне на вбитый заподлицо неизвестным саботажником железный костыль. И тогда всё вокруг замирало, немело и отодвигалось на безопасное, необходимое и условленное расстояние от выбранного заключенного и его изымали из общей массы, отсекали от прочих осужденных и отводили в рентгеновский кабинет.
И ты, и твоё тело могли слышать сплетни, пересуды и домыслы относительно таких избранных, несчастных и злополучных арестантов, что их отводили в загадочные, тайные и засекреченные лаборатории, казематы и институты, где над ними проводили, свершали и производили бесчеловечные опыты, исследования и операции. И действительно, никто из арестантов, ушедших, как самка изюбра, которой надоедает ждать окончания выяснения отношений между молодыми самцами, предпочитает старого и опытного, или как стружка из-под токарного резца струится в корыто, чтобы не быть уже намотанной обратно на болванку, из которой была выточена деталь, с ищейками, боле не возвращался. И лишь немногие посвященные, умудрённые и догадливые знали, видели и участвовали в том, что на самом деле случается с отмеченными зеками. Если бы ты, как и прежде, намедни и недавно продолжал свои изыскания внутри самого себя, то никто бы ничего не заметил, прошел мимо и не учуял. Но ты, собираясь предъявить самому себе, миру и внемирию своё творение, книгу и понимание, начал путь к телесным покровам, оболочкам и сферам и это изменение вектора, градиента и направления немедля, не раздумывая и не промахиваясь, учуял третий ищейка-медбрат.
– Убеждён, мои добросовестные помощники обнаружили еще один очаг новизны в наших догматизированных стенах. И, кто бы мог подумать, им оказался наш старинный знакомый Содом Капустин! Из соображений гуманизма и необсуждаемой первостатейной важности, я отменяю крещение Содома Капустина в этой дурного вида жидкости и забираю его с собой.
Твоё тело прекрасно знало, куда, как и для чего его поведут, и решило немного сократить путь, время и пространство, как дрозды, вместо того, чтобы лететь через горные перевалы находят себе путь по автомобильному тоннелю, или как блестящий шарик, прокатившись по желобу, немного, для приличия, поколебавшись, сваливается в предназначенную для него лунку, найдя себя уже на столе под раструбом просвечивающего, стерилизующего и стабилизирующего аппарата, тюремного врача рядом, а ищеек оно и не искало.
– Обычно я предупреждаю, что это исследование возможно отрицательно скажется на функциях воспроизводства, но, поскольку у вас, разлюбезнейший мой Содом Капустин, уже нет в наличии семенников, то вам облучение повредить никак не сможет.
Спрятавшись за шеренгой медбратьев, снаряженных циркониевыми, гафниевыми и рениевыми щитами для защиты, нападения и отражения вредоносных импульсов, вспышек и частиц, казематный калекарь нажал, вжал и утопил кнопку пуска, и стол, где ты лежал, приподнял боковины, превратившись в гроб на колёсиках, роликах и подшипниках, который, повинуясь, следуя и цепляясь за представления о законе тяготения, притяжения и отталкивания, покатил по рельсам, нарезая круги, отрезая треугольники и вырезая профили всех присутствующих, будто арбуз, заточённый в кубический короб, вырастая, сам становится совершенным кубом, заполняя всё доступное ему место, или как почтовый штемпель, после удара по красящей подушечке, опустившись на письмо, гасит приклеенную к нему марку, делая ее привлекательной лишь для филателистов. Когда движение, скольжение и сканирование завершились, разорвач извлёк из стенок катавшего тебя гроба пленки со снимками твоих внутренностей и передал одному из помощников на проявку, заявку и отправку.
– Интересно мне знать, осужденный на веки вечные, Содом Капустин, что же там внутри тебя такого, что заставляет бояться тебя как грома? Вроде с медицинской точки зрения с самого начала ты состоял из тех же компонентов, что и все остальные зеки: руки, ноги, голова… Положим, в процессе твоего наказания некоторыё части отпали, так ведь от этого ты бы должен был стать более покладистым, так нет, ты решил побравировать своими увечьями. Вот, добравировался. Я надеялся, что ты сделаешь карьеру, дослужишься до некоторых высот в нашем обществе, но ты, мало того, что наплевал на всех, ты еще умудрился залететь в…
Скучные, безжизненные и суконные фразы медицинского отработчика, словно прилетевшие на свет керосинки ночные мотыльки, кружащие вокруг лампового баллона, пока хватает сил, или как расходится в турбулентных фигурах капля чернил, уроненная в стакан с водой, постепенно перемешиваясь с объёмом жидкости, и исчезая, проникали в твои уши и терялись там, поглощенные волосками, сосудами и хрящами, не доходя до барабанной перепонки. Даже если бы они и были услышаны, то не вызвали бы у тебя ничего, кроме легкого недоуменного раздражения. Врач остролог смотрел лишь на внешние твои обводы, не замечая, при таком способе зрения тех основных черт, характеристик и справок, которые коренным образом отличали тебя от мертворожденных жителей этих застенков. Ты бы даже не стал объяснять, доставать и показывать что-то, для тебя не было смысла объяснять как разнообразны джунгли тому, кто всю жизнь провел в каменном мешке, или то, как великолепны горные вершины тому, кто ни разу не приближался к берегу.
Ты лишь продолжал своё движение наверх, вместе с растущей каждый миг больше, чем предыдущий, зреющей, но не смогущей перезреть, пылающей, но не смогущей сгореть, сияющей, но не смогущей иссиять, книгой, в груди которой уже начало биться, колыхаться и трепетать маленькое, удалое и доброе сердечко, что соединит все мыслимые, немыслимые и невозможные пространства в одну лишь свою точку, что схлопнет все прошлые, ненастоящие и безбудущные времена в хвостике одной своей запятой, что упразднит все надуманные, придуманные и искусственные иерархии с помощью одного лишь своего тире и, всем этим, другим этим и тем этим не дрогнув, убьёт своего единственного читателя.
Застеночных дел лекарь вернулся, как почтовый голубь, несущий на своей лапке послание от резидента, или как отброшенный порывом ветра туман, вновь наползает на поросший камышами берег озера, торжествуя, и его веки топорщились разлетающимися в удивлении ресницами, а его рот издавал только вариации звука «о». Не в силах сказать нечто членораздельное, мозгораздельное и тушеразделательное, врач приблизил к твоим глазам проявленные, выявленные и пойманные снимки твоих внутренностей. Если бы ты пожелал увидеть, то увидел бы, что среди костей твоего большого, малого и промежуточного таза белеется маленький детский скелетик твоей нерожденной еще книги.
– Поздравляю тебя, милейший Содом Капустин! Ты действительно уникальное и таинственное существо! Впервые за всё время моей работы здесь, я вижу, что осужденный беременен точным своим подобием!
Фельдшер узилища протянул руки, как молодая ель на лесопосадке простирает свои лапы над выводком спрятавшихся под их сенью боровиков, или как показывается из-за гребня горы, весь в зеленом свечении, предвестник бури, набрякший грозовой облак, и уже подготовленные к операционным, системным и схематическим действиям медбратья подали, передали и вложили в ладони взращенного в тюрьме хирурга его любимые, острые и длинные ланцеты.
– Добро пожаловать в улучшенные условия содержания! Ты, Содом Капустин, изряднейший, доложу я тебе, плут, шут и обманщик! Как ловко ты провел всех, и даже самого Папу! Мы-то все головы ломали, что такое? Почему ты так вызывающе ведешь себя, не подчиняешься режиму содержания, не контактируешь с администрацией, не стучишь на себя и товарищей. А ты-то, оказывается, беременный!
Подставив скальпель под подброшенные одним из медбратьев стеклянный стержень, каменное яйцо и ванадиевый брусок и без усилий разрубив, рассеча и разрезав их, Санитар тюрьмы вонзил зажатые в обеих руках ножи в твои запястья и провернул там лезвия, перерубая жилы, сухожилия и артерии.
– Понимаю тебя, Содом Капустин! Никому не хочется попадать на улучшенные условия содержания. Это несколько обидно, болезненно, да и последствия оставляют желать как лучшего, так большего, ну, и более приятного, конечно.
Во время того, как говорились эти слова, скальпель сделал еще два отверстия, теперь уже в твоих голенях, между большой и малой берцовой костями.
– Позволь тебе объяснить кое-что, дражайший Содом Капустин. То, что я произвожу с тобой – необходимейшая процедура. Мы не можем допустить, чтобы твой плод, напитавшись твоей вольнолюбивой, вольтерьянской и кафкианской кровью, стал таким же возмутителем спокойствия, как и ты! Поэтому я, всего-навсего, извлеку твою печень и спущу всю твою кровь…
После предупреждений, убеждений и отведений, врач изящным движением рассёк правое подреберье и вырвал твою сухую, безмолвную и бесцветную печень. Понимая, что твоё тело добровольно не выдаст своим истязателям, мучителям и просветителям ни капли, ни клеточки, ни миллилитра крови, Зековал махнул своим подопечным, подчиненным и закабалённым медбратьям.
– Качайте!
Арестанты, чьи лица показывали смирение, бессонницу и отупение, с готовностью, трепетом и пиететом погрузили в разверстую, зияющую и притягательную рану свои многочисленные гениталии и стали водить их там туда, сюда и снова. Тем временем Предатель эскулапа заметил ошейник парикмахера, вросший в твое горло. Разрезав морские, сухопутные и гордиевы узлы, стягивающие его края, врачеватель вытащил шипы ошейника из твоей шеи, как лис, которому в пасть вместо петуха попали лишь перья из его, уже не роскошного, хвоста, крутит головой и чихает, пытаясь избавиться от застрявшей в зубах добычи, или как дырокол, взявший бумаги больше, чем в силах пробить, заклинивает на обратном движении, и вонзил их немного выше, в лобные, височные и затылочные кости твоего черепа, соорудив, приладив и пришив бандану из ошейника капроновыми, коллагеновыми и тефлоновыми нитями к коже твоей головы.
Твоё тело, нисколько, никак и совсем не удрученное, не расстроенное и не дисгармонизированное очередной потерей, утратой и изъятием, пребывало начеку, на запале и взрывателе, отслеживая состояние совокупляющихся с твоей раной хозобозников-медбратьев. Как только один из них достигал, доводил и доставлял себя до эякуляции, чтобы вместе со своей спермой высосать из тебя твои соки, соусы и кетчупы, силы твоего тела проникали в семенные испражнения медбрата и, пока его простата всасывала их, твоё тело, незаметно выедало, высасывало и принимало в себя все внутренности арестанта так, что к тому моменту, когда он должен был бы отойти, чтобы дать место следующему производителю, составителю и редактору коитуса, от него оставалась лишь тонкая кожная оболочка, кузовок и дудочка, коие с беззвучным хлопком, льном и лыком всасывались твоим телом без остатка, обрезков и хвостиков.
Как бы ты не старался, забыть всё последующее не получится!
Твоё тело вошло в раж, жар и исступление. Начав поедать медбратьев, совершающих с ним соитие, оно постепенно, ненавязчиво и легонько увеличивало объем, ареал и область питания, пропитания и поглощения, пока не выело, схрумкало и ассимилировало всех, вся и всё бывшее в ближайшей округе, включая, выключая и ломая рентгеновский аппарат, защитные шлемы, щиты и забрала, рельсы, колёса и салазки, активных, пассивных и спящих медбратьев и их предводителя, погубителя и отставника: тюремного врача. Когда всё закончилось, еще некоторое время, пока из соседнего барака, буерака и барки не прибыли на замену, подмену и смену утилизированным, силосизированным и уничтоженным твоим телом новые медбратья и другой, ничем, никак и нигде не отличающийся от предыдущего, медик, ты лежал, подобно куколке майского хруща, ждущей теплых дней, чтобы, вылупившись в жука, выбраться к весенней листве и там веселиться в своё удовольствие, или как свиристящее ядро, упавшее под ноги бравых гренадеров, повергает их в паническое бегство, посреди груды камней, развалин и балок скрученных, погнутых и перекошенных, наполовину обглоданных, обкусанных и покромсанных твоей поглощающей силой.
– Что ж это, вы, разнаичудеснейший Содом Капустин? Разве вас кормили так плохо, что вы, вон, титановыми сплавами стали закусывать? Ну, да ничего, мы на вас управу-то сыщем. Вы у нас перестанете персонал портить, специалистов травмировать и порядок безобразить.
Пока дубль, клон и копия зековского фельдшера лепетал, лапотал и лопотал, суровые, сердитые и смердящие вертухаи, над которыми, почти никем не видимые, словно белки-летяги, расправившие перепонки между передними и задними лапами, скользят в ночном воздухе от дерева к дереву, или как лист фанеры, оторванный шквалом от крыла одномоторного аэроплана, свистя и кувыркаясь, шлёпается посреди Монмартра, витали, слетали и планерили креветки тёмнотных страхов, лангусты сумеречных ужасов и аморфные жути, живущие в шкафах, углах и чердаках, извлекли тебя из-под обломков, завалов и отвалов и, словно муль, куль и толь с песком, картошкой или цементом, потащили в свои каптёрки, тамбуры и каламбуры.
Твоё тело в общих, частных и детальных чертах представляло, видело и наблюдало то, чему его подвергнут, и у него не возникало желания чем-нибудь, как-нибудь и сколько-нибудь облегчить, упростить и механизировать работу охранников.
Вертухаи гомонили, боронили и волочили твоё тело по торным, просторным и горным тропам, по сужающимся дорогам, стезям и шоссе, по брёвнам, мосткам и мостам, под которыми текли, кипели и бурлили потоки, протоки и стоки вод, песков и камней забвения, грязи, тины и болота отречения, битумы, замазки и пакли отрешения, как гологоловые грифы, налетев на остатки чьего-то пиршества, тянут своими клювами облепленные мухами куски антилопьего ливера, или как связка порожних консервных банок, привязанная к крюку свадебной кареты, громыхая и подпрыгивая, инициирует хохот и аплодисменты зевак. И когда перед вами восстал из долины, мола и холла замок, дворец и караван-сарай, твоё тело уже насквозь пропиталось, покрылось и пропахло кюветной пылью, обочинными маслами и канавными фекалиями. Закинув твоё тело на ленту, полосу и шкивы транспортёра, охранники тут же отправились, напились и упали в обратный, долгий и тревожный путь. А твоё тело, преодолев несколько жалюзи, в промежутках, пространствах и интервалах между которыми умная, деревянная и душевая автоматика отчистила, прочистила и пропылесосила все поры, норы и раны твоего тела, опять попало на стол к казематному отравителю и его медбратьям.
– Как видишь, бесценный Содом Капустин, тебе никуда и никогда не уйти от нас и возмездия. Тебе много раз уже предлагали добровольно смириться, но сейчас я озвучиваю это пожелание в последний раз. Если ты не согласишься, то участь твоя будет поистине неимоверно ужасной.
Ты лежал на хромированном, йодированном и никелированном столе, медбратья-хозобозники с зелеными лицами, салатовыми руками и малахитовыми грудями, видневшимися за отворотами, приворотами и воротами их травяных халатов, стежок за стежком, нить за нитью и дюйм за сантиметром освобождали твоё тело от одежд, кож и лайки пришитых к нему шестеркой Пахана твоей первой камеры. Но тебе это было полностью, целиком и всецело безразлично, как пещерному саблезубому тигру невдомёк, зачем в его пещеру пришло столько сладких обезьян, что-то делающих с железным ящиком, из которого торчит гибкая ветка, или как болид не испытывает никакой личной неприязни к проживающим на месте его падения лягушкам и головастикам. Ты, став проводником, навигатором и лоцманом самого себя, занимался не мелким, крупным и поверхностным копошением, мельтешением и пузырением около твоего тела, ты вел, направлял и увлекал наружу растущий костяк твоей книги, внутри которого уже стучало настоящее живое, деятельное и предприимчивое сердце, гоняющее кровь по венам и артериям. И ты знал, чувствовал и предвидел, что, став цельной, единой и неуничтожимой, эта книга сотрёт, вырвет и иссечёт все языки, сама став любым, каждым и вседоступным языком, вычистит, отбелит и разметает все словари, сама превратившись в словарь утраченных слов, не дошедших до понимания мыслей и рассадником неинтерпретированных картин, обречет на безработицу всех толкователей, толмачей и книговедов, сама став объяснением, переводом и комментариями к самой себе и этим наповал сразит каждого чуждого невежду читателя.
– Поскольку ты уже отпет, и, следовательно, представление о признании тебя мертвым пошло на утверждение Папы, мы можем делать с тобой, без пяти минут официально усопшим, всё что угодно. Но, чтобы обезопасить себя и оборудование, мы вынуждены принять некоторые меры превентивной предосторожности.
Заврач отступил, удалился и ретировался на безопасное расстояние, а тебя, полностью обнаженного, нагого и расхристанного обступили девять вертухаев в боевой раскраске, масках и противогазах, так отряд лесорубов наваливается всей своей мощью на трехсотлетний кряжистый дуб, растущий посреди пахоты, или как при игре в «девятку» положенную первой постепенно окружают другие карты. Семеро из охранников навалились, налегли и сдавили все твои конечности, а два оставшихся, извлекли свои члены, покрытые неприличными татуировками, волдырями и шанкрами и приготовились выполнить задание, приказ и работу.
– Мы предварительно лишим тебя слуха!
Вертухаи приложили, придвинули и приблизили свои фаллосы к твоим ушным устрицам, раковинам и мидиям и ввели в них головки енгов, провернув их, для надежности, прилежности и ответственности три раза. Когда они вынули свои приборы, с лингамов разлетелись, разбились и разделились все неуслышанные тобой шумы, шепоты и шорохи. Фаллосы вертухаев проникли глубже и тогда высвободились все звуки, что слышали твои уши, они яркими, тусклыми и никакими солнечными, лунными и венерианскими зайчиками, котятами и мамонтятами распрыгались, расселись и раскудахтались на стенах, крышах и потолках переходного, осмотрового и сомнительного зала, смеша медбратьев, отвлекая вертухаев и беся резника узилища. На третий раз члены охранников пробили твои барабанные перепонки, сломали молоточки и с мясом, рисом и специями выдрали наковаленки, накогалоши и накосапожки. Твоё тело оглохло, но и это было для него некритично, необременительно и безучастно. Оно давно привыкло не оборачиваться на крики, не реагировать на команды и не доверять словам. Ему были доступны те волны, которые порождали эти слова, которые никогда не лгали и которые шли оттуда, где нет дуализма, триад и мафии, а есть только безмолвие, беззвучие и тишина.
Ты лежал, лишенный слуха, слухового аппарата и слухового обменника, голый, с округлившимся, выступающим и проповедующим животом, а вертухаи сношали, наяривали и насиловали тебя в уши. Их труд, опус и кантата были завершены, отрешены и выполнены, но они, желая, надеясь и веря получить большее, большое и красивое, продолжали, как енот-полоскун, которому дали красивый леденец, продолжает мыть его, даже когда вся конфета растворится, окрасив шерсть гигиеничного животного в ядовитые цвета, или как вечный водонепроницаемый хронометр продолжает показывать время на дне океана, даже когда кости его владельца рассыпались от соли и течений достигать, доходить и доводить себя до эякуляции, и когда она началась, вырвалась и полилась, твоё тело развернулось, раскрылось и распахнулось. Используя сперму как путь, память как указатели и страх как компас, твоё тело раскинуло себя по всему залу, своду и полу, заключив, обняв и проникнув во всех участников, зрителей и наблюдателей. Не взирая на чины, заслуги и состояние зеков и вертухаев, твоё тело соединилось с ними, отрезав их от телефонов, телеграфов и запасных бомбоубежищ. В несколько мигов, долей и частей все преобразились в единый, гомогенный и пластичный бульон, узвар и кисель, который твоё тело в следующие, надлежащие и подобающие мгновения приняло в себя, опустошив не только осмотровый, гардеробный и переходный зал, но и смежные, соседние и сопредельные помещения, комнаты и кладовки, очистив их от вещей, мощей и имуществ, от движимости, неподвижности и пожитков.
Что бы не случилось, ты все равно будешь помнить всё это!
Когда пиршество, трапеза и разрушения закончились, как гнев ряженого орангутанга, стучащего в свою бочкообразную грудь, рвущего ветви и ломающего кусты, проходит, едва режиссер даёт отмашку «Снято!», или как ветер, несущий клочки газет, мусор и прочую дребедень, утихомиривается, как только надавлена кнопка пылесоса, в залу, осторожно пробираясь, скользя и скрываясь по шероховатым стенкам, скрипучим половицам и замершему воздуху, проникли, просочились и пропастились запасные команды вертухаев, медбратьев и очередной новый тюремный врач по телевизорам, радио и атмосферным помехам следившие за тем, что происходит с тобой, их коллегами и предметами.
– Да, страннейший наш Содом Капустин, задал ты нам трёпку. Но, постой, ты еще не слышал, да, впрочем, уже никогда и не услышишь, как смеемся мы. А мы не привыкли смеяться посреди спектакля.
Покрыв, убрав и прикрыв твою наготу стягами, прапорами и салфетками, охранники, со всеми армейскими, арамейскими и флотскими почестями, начестями и вычестями положили тебя на четыре щита, один с изображениями гривастых амёб, лямблий и инфузорий-туфелек, калигул и лаптей, второй с кораллами, бадягой и надутыми, сердитыми и пресноводными губками, третий с шершнями, слепнями и навозными, дерьмовыми и мочегонными мухами, а четвертый был пуст, чист и стёрт, и на нём покоилась твоя голова. Вложив в твои беспалые руки пятый щит, с приклеенными жвачкой, смолой и слюной картинками обнаженных зековских ягодиц, гениталий и яичек, вертухаи подняли твоё тело и понесли, полетели и залетели, будто гонимая вороной стайка воробьёв, встретившись с большой группой, вдруг объединяется с ней и разворачивается, чтобы дать отпор наглой птице, или теннисный мяч, пущенный с профессиональной подкруткой, вдруг, едва перелетев за сетку, минует подставленную ракетку и камнем падает на корт, во внутренние покои замка, цитадели и родильного комплекса. Меж их ног, сапог и сандалий сновали, задевая склизкими, шерстистыми и ядовитыми хвостами, кусая острыми, игольчатыми и парализующими зубами, режа многопёрыми, гибкими и отравленными плавниками никем до поры, времени и момента не замечаемые создания, которых упустили, проворонили и пропопугаили повивальные деды.
Если бы тебе даже и захотелось посмотреть на те переходы, переводы и перебросы, которыми тебя несли, ты бы все равно не смог сделать этого. Ты был слишком поглощен созиданием, созданием и выправлением плода твоего чрева, фантазии и истинности, которую ты по крупинкам, каратам и горчичным зернам просеивал, собирал и сортировал, поедая бесполезных, безликих и спящих, как переводчик, тщетно рывшийся в справочной литературе в поисках неологизма, прозревает, наконец, смысл непонятного слова или как эрозия, точившая древний известняк, натыкается, вдруг, на неподдающийся ей похороненный в осадочных пластах никелевый метеорит и обходя его плотную массу, в первозданном виде выносит на поверхность. Ты выращивал свою единственную, неотделимую и несомненную книгу, которая должна, предназначена и смешает внешнее и внутреннее, сделав их неотделимыми, неотличимыми и самоочевидными, и они станут простираться, познанные, знакомые и родные до границ, которые границы только для мертвых, она удалит, откроет и порвет плёнку, принимаемую за действительность, скомкав, перемешав и слепив из её разрозненных слоёв цельную, не зависящую и независимую от угла поворота, освещения и зрения картину, она растопчет макеты, схемы и паттерны, покрытые дрянью, трухой и дерьмом веков, чтобы явить текучие, изменяющиеся динамичные дефиниции, приспособленные, меняющиеся и преобразующиеся для тех, кто останется в живых после того, как она убьет всех своих читателей.
Твоё тело же, давно, в своих мыслимых, немыслимых и несанкционированных путешествиях побывало здесь и ему не были в новинку, диковинку, и разминку бессчетные палаты, в которых лежали, прикованные, привязанные и приколоченные за руки, за ноги и за гениталии зеки, чтобы они не могли по привычке, обыкновению и манерности заниматься перманентным онанизмом. Твое тело посещало, присутствовало и наблюдало, как в комнатах предродовой подготовки, страховки и шифровки пузатых арестантов мажут зеленкой, йодом и фосфором. Оно надзирало, озирало и разглядывало, как в операционных беспокойствах, волнениях и тревогах острожникам распарывают, рассекают и вскрывают их набухшие, напрягшиеся и вспучившиеся животы. Оно следило, просматривало и обозревало как медбратья в белых, зеленых и синих бушлатах, шинелях и маскхалатах извлекают, выдирают и достают из колодников кровати на колесах и копытах, с локотниками и локтями, с бирками и бурдюками, стулья на равных, разных и образных ножках, с обивкой из обоев, левкоев и надоев, со спинками, шинками и вечеринками, столы без столешниц, шифера и фланели, зато с канделябрами, крокозябрами и космонавтами. Оно бывало на складах, судах и пересудах, где решались, создавались и раздавались рожденные предметы, прецеденты и газеты. Оно, случалось, оказывалось и подвизалось и там, где хранились, забрасывались и гнили удивительные, несуразные и не нашедшие применения, хозяина и владельца предметы, абстракции и развлечения. Ему были доступны, известны и ведомы и те казематы, где зеки рождали вампиров с молочными, сахарными и ванильными зубами, дриад с аллергией на пыльцу, траву и листья, эльфов с косоглазием, рахитом и слабоумием. Ему доводилось посещать и те места, зоны и веси, где уничтожали, препарировали и заспиртовывали совершенно бредовые, увечные и секретные существа, приспособления и разпособления, их смеси, переплетения и окрошки, которые в изобилии, в припрыжку и потоком порождали забеременевшие заключенные.
– Все мы отчасти водоросли, отчасти лошади, отчасти мошки. Ты, безусловнейший мой Содом Капустин, глух как треска и поэтому я буду тебе врать, как на духу.
Врач-пренатолог подступил к тебе, как ползущий по стеклу геккон делает очередной шаг, приближающий его к бьющемуся об окно мотыльку, или как непредсказуемый снег, покрывший финиковые пальмы и банановые плантации, являет собой нрав царствующей в дальних землях зимы, прикованному к логическому, проктологическому и урологическому креслу. Он распахнул цветастый макинтош в вишнях, яблоках и грушах, поглаживая, побалтывая и наматывая на штопор, шлямбур и сверло свой растроённый в центре, по краям и у головки член.
– Все мы когда-то были рождены из околоплодных вод, брошены в воду жизни и когда-нибудь мы все утонем в Стиксе. Так, промолчи же ты, наконец, мне, как мы можем относиться к тем, по чьему произволу мы попали в этот безмудрый мир, где нас едят, убивают и насилуют, не спрашивая ни позволения, ни согласия, и, даже, не глядя в глаза!?
Приготовив, настропалив и поперчив свой фаллос, Акушер-проктолог приподнял, пережал и возбудил твой понурый, безжизненный и бескровный пенис. Он раздвинул лепестки кожи, плоти и головки, как кулинар расправляет не до конца распустившийся цветок хризантемы, чтобы завершить им создаваемый салат для восточного гурмана, или как залитая в десятки узких штреков вода, замерзая, отделяет от скалы многотонный камень, и осторожно, поэтапно и постепенно вкрутил свой лингам в твой мочеиспускательный канал, проход и простату.
– Мы страдаем денно, нощно и промежуточно! Мы истекаем слюной, соплями и гноем, видя, как все вокруг живут в достатке, роскоши и любви, как все занимаются сексом, соитиями и той же пакостной любовью! Но почему, думаем мы, мы такие красивые, умные и образованные не достойны хотя бы грана из того, чем владеют наши соседи? Почему мы работаем до девятого пота и имеем шиш без мякиша? Почему мы из кожи лезем вон, чтобы понравиться руководству, и имеем пшик без пара? Почему мы копим всю жизнь, а баланс наших счетов в банке отрицательный?
Член эскулапа, в своём беспощадном, кровожадном и бесчеловечном вращении уже просверлил тебе мочевой пузырь, лобковую кость и полость, где когда-то был твой кишечник.
– Отчего мы стараемся, а получается еще хуже? Отчего мы прогнозируем, а не исполняется? Отчего мы хотим, и получаем то, что хотели, но это оказывается не то, что нам нужно!?
Кто в этом виноват? Ну, не мы же, на самом-то деле! Ты ведь не спросишь, «кто»? А я тебе отвечу: родители! Именно они зачинают нас в слизи, скверне и грехе! Именно они вышвыривают нас, предварительно изваляв в собственных каловых массах, крови и моче! Именно они приползают к нам, и просят им помочь сходить за покупками, вбить гвоздь и завести машину, как будто они сами этого никогда не умели, не могут и не хотят!
Вот поэтому, непонятливый мой, Содом Капустин, дети так искренне, истово и старательно ненавидят своих родителей! Но ведь мы с тобой цивилизованные существа, мы не можем позволить разрастаться вражде и ненависти? Я вижу, ты со мной не согласен, но это не меняет дела, роли и судьбы, которые тебе приписаны. Тебя ждет та же участь, что и всех, кто здесь рожает…
Не в силах больше сдерживать словесное недержание, мыслеисторжение и семяизвержение, словно обученный кенар заливается своей вызубренной трелью, которую не может прервать ни постукивание по спинке, ни обливание холодной водой, или как «однорукий бандит», на табло которого выскочил джек-пот, высыпает в лоток и под ноги опешившего от везения игрока нескончаемый поток жетонов, врач эякулировал всеми своими органами, клавесинами и шарманками.
– Не трогай детей!
Но было поздно уже до того, как испускающий сперму калекарь выкрикнул, выдал и высказал это пожелание, приказание и просьбу, было поздно еще до того, как твоё тело попало в этот родильный цех, предприятие и учреждение, было поздно даже до того, как Пахан открыл в тебе женскую спину. Твоё тело, разметавшись, раскинувшись, раздавшись так широко, вольно и свободно как могло, хотело и достигало, проникло во все тела, тельца и антитела, находившиеся, убегавшие и скрывшиеся в пределах, рамках и состояниях, так лягушка, промерзшая до мозга костей за полярную зиму, оттаивает и скачет на встречу незаходящему солнцу, или крупица катализатора, попавшая в сжиженный под давлением этилен, начинает его лавинообразную полимеризацию. Рассеивая без надежды на восстановление, воспроизводство и замещение все связи между клатратами, зеками и начальством тюрьмы, твоё тело создало огромную полость, сферу и объем, где только оно являлось полноправным хозяином, владельцем и судьбодеем. Отсекая от Папы, Паханов и обычных дремотных зеков, хозобозников и вертухаев эту зону, надел и отрез, оно впитывало всех живущих, стоящих и бесплатных, все кирпичи, кровати и черепицы, всех рожающих, рождённых и ущербных.
Когда все завершилось, прекратилось и угомонилось, ты оказался в полностью пустом месте, пространстве и состоянии. Там, где обреталось твоё тело, не было ни жизни, ни смерти, ни воды, ни воздуха, ни движения, ни неподвижности. Но едва твоё тело приняло всё это в себя, как из смежных, сопредельных и отдалённых частей, зданий и казематов, в эту пустоту, вакуум и небытиё двинулись полчища строителей, наладчиков и залатчиков, чтобы в несколько субъективных, непродолжительных и утаившихся от твоего внимания, понимания и контроля секунд, вернуть, восстановить и привести всё съеденное тобой в предыдущий, последующий и надлежащий вид, образ и облик.
Ты не мог запомнить то, что было дальше, но отчего-то это всё же сохранила твоя всепоглощающая память.
По объективному, субъективному и подаренному времени эти события могли занять квант, вечность и сутки твоей кальпы, кармы и расположения. Ты, уничтожив, поглотив и переварив объём пространства в сотни тысяч, миллионы и десятки раз превосходящий, превосходный и превышающий объём твоего тела, отвлекся от своего основного занятия, оторвался от взращивания своей книги, которая уже, обрела кость, зубы и надкостницу, суставы, сочленения и гибкость, мышцы, мощь и плоть, перед обликом, видом и пейзажем которой погибнут, истают и пропадут все формы, схемы и структуры лжи, врак и обмана, которая обрушит справедливость, небо и ответственность на своих читателей, которая не будет подчинять, зомбифицировать и подчиняться ни одному из тех, кому она недоступна, непонятна и пугающа, и, этими своими качествами, категориями и подтверждениями испепелит любого, осмелившегося даже в мыслях, словах и на бумаге выразить о ней своё мнение. Ты сразу ощутил боль, которую невозможно вытерпеть, не погрузившись в нее до предела, но ты терпел её, оставаясь собой. Ты ощутил унижение, которое невозможно пережить, не сломавшись под его гнётом, но ты не сокрушался и оставался собой. Ты почувствовал мерзость, окружавшую тебя со всех сторон, один взгляд на которую должен был бы запачкать тебя, а ее прикосновение должно было бы вызвать незаживающие язвы, но ты оставался чист во всех своих недеяниях. И ты ушел обратно, к своему плоду, наблюдению и работе, не потому, что хотел, стремился или боялся выпавших, свергшихся и искалечивших тебя тягот, испытаний и экзаменов, а из-за того, что твоя книга была неизмеримо, несомненно и бесконечно важнее, значительнее и величественнее всех этих грубых мелочей, досадных помех и мелочных терзаний.
Но прежде чем вновь отрешиться, удалиться и возобновить свои миссию, труд и созидание, ты узрел, отметил и почуял присутствие, наличие и наблюдение кого-то, не принадлежащего этому миру, хаосу и безобразию. Их было дюжина малых и один большой, и малых соединяли нити занебесного, запредельного и непостижимого серебра с большим, а от большого к тебе шла, вилась и натягивалась леска сияющего, пречистого и апокрифического злата. И тела их были суть, идея, соната, токката и фуга негорящего, неугасимого и завечного пламени. И расцветало это пламя тринадцатью цветами, чьих лепестков было без счета, меры и критерия. А над телами их уходили ввысь, вглубь и в нежность луга, поля и саванны, сплошь, без зазора и промежутков покрытые, усеянные и утрамбованные этими разноцветьями, разнотравьем и коврами лотосов, локусов и логосов.
Да, то, что было дальше, тебе будет тяжело забыть!
Ты свалился, свергнулся и низринулся, едва вокруг, по бокам и наверху появился воздух, пространство и мысль, заполнившие, заполонившие и устремившиеся в пустоту, созданную твоим телом. Твоё тело поглотила, проглотила и приняла ванна, наполненная цементом, клеем и загустителем, заблаговременно подставленная расторопными, раскрашенными и разнузданными хозобозниками под, в и на место твоего предстоящего упадения.
– Так-то, дважды не слышащий Содом Капустин! Теперь тебе предстоит наслаждаться лишь обществом самого себя и презирающего тебя и твою слабость твоего отпрыска, которого ты будешь кормить собой, баснями и испражнениями, пока не иссякнешь ты и они!
Врач тюрьмы похлопал, постучал и убедился, что состав схватился, закаменел и погрёб тебя, как собаковод перед приходом инспектора запирает в подвале только что ощенившуюся суку, чтобы не платить дополнительный налог на домашнюю живность, или как листопад, укрывающий подлесок желто-красной мозаикой, прячет оторванные ураганом толстые суковатые ветви. Ты не мог видеть, зато видело твоё тело, которому камень был прозрачнее стекла, стены прозрачнее воздуха, а расстояния не играли роли, пьесы и комедии, как целитель каторжников удалялся, пикантно поигрывая стеком, иронично пощёлкивая бичом и вальяжно забавляясь нунчаками. Твоё зацементированное тело, годуя, негодуя и гримасничая, покорённые, изжаленные и хромые медбратья оттащили, отдёргали и переволокли в заброшенный, загаженный и засоренный сортир, куда заглядывали лишь демоны смеха, усмешек и ухмылок, бесы уединения, размышления и одиночества, дьяволы слива, отлива и полива в своих изнуряющих, методичных и беспросветных поисках виновника их заточения.
Когда бы твоё тело не стояло на страже, посту и должности твоего охранителя, сберегателя и вынашивателя, оно бы в момент переместило бы себя с тобой в более комфортное, удобное и чистое место в рамках, твоего узилища. Но здесь, в бетонном кубе, мегалите и микролите, когда Папа и все его сподвижники, производные и интегралы были уверены, как доморощенный спирит, ставя тарелку на лист бумаги с буквами, верит, что вызванные им духи невесть кого дадут ему верные советы по разрешению его личных проблем, или как нож картофелечистки тупится, срезая слои глины с попавшего в нее камня, что ты нейтрализован, ему казалось удобнее, приятнее и надёжнее всего дожидаться момента, когда ты появишься в его плоти, славе и орденах и представишь всем своё столь долго, моментально и безвременно выношенное творение, книгу, которая остановит стрелки часов, овоскопы и гороскопы, которая помирит, оправдает и застопорит движение луны вокруг солнца, солнца вокруг земли и земли вокруг луны, которая отменит физические, химические и математические константы, формулы и уравнения и сделает макромолекулы атомами, атомы элементарными крупицами, а их рассеет по бескрайним гравитационным полям, она распрямит спирали, разомкнет круги и выведет из циклов лишь для того, чтобы одним своим появлением убить всех тех, кто иначе мог бы стать ее читателем, поносителем и восхвалителем.
– Я помогу, освобожу, извлеку и избавлю тебя от этой ноши, тяжести, мрака и усталости.
Золотарь, отбиваясь, лягаясь и отбрасывая забившие унитаз челюсти, кисти и палитры хозобозников, пробирался, прорывался и продирался к тебе, словно барсук, докопавшийся в своих поисках червяков до водоносного слоя, удирает по обрушивающейся песчаной норе, или грейдер, вгрызающийся в гущу сельвы, выкорчевывая молодые деревца и распугивая своим тарахтением мелкую живность, прокладывает просеку для скоростной трассы, невзирая на гадящих на его голову химер несерьёзного отношения, поношения и разношения, несмотря на плевки сибаритствующих, гедонизирующих и агонизирующих троллей, не обращая своих слов к покрывающим его узорами, матом и вышивкой привидениям, призракам и теням ручных, домашних и диких трамваев, автобусов и такси.
– Ты безбрежен, безумен, бескорыстен и беспощаден в своих милостях, шалостях, пропастях и прощении! Ты неоценим, непознаваем, неугомонен и неистощим в своих проказах, показах, поддавках и шахматах! Ты открыт, распущен, ветренен и куртуазен в своих забавах, забиячестве, замысловатости и задушевности! Ты неосмотрителен, непослушен, непривередлив и неоскорбителен в своих прятках, прыгалках, салочках и классиках!
Отряхиваясь от туалетных принадлежностей, талончиков и пробитых, разорванных и проштампованных билетов на посещение кинотеатров, концертов и консерваторий, устилавших его путь, движение и стремление к тебе, Золотарь стучал молотками простыми, отбойными и бронебойными, деревянными, дубовыми и стеклянными кувалдами и ломами изо льда, лития и ласки, кроша, круша и разбивая сковавший, заточивший и затупивший тебя камень.
– Вот погоди, постой, потерпи и подумай еще немного, чуть-чуть, самую малость и капельку, и мы с тобой вырвемся, убежим, скроемся и освободимся из этого мрака, тюрьмы, невежества и косности. Я подкуплю, подпою, задарю и подорву охрану, караул, соглядатаев и шпионов, и мы выйдем за ворота, границы, калитки и таможни этого острога, форта, темницы и каземата!
Камушки, осколки и глыбы отлетали от твоего блока, подобно тому, как куропатки бросаются врассыпную, завидев в вышине приготовившегося к нападению ястреба, или как вызубренное школяром стихотворение, в котором он не понял ни слова, а лишь накрепко заучил последовательность звуков, отскакивает от его зубов и мозгов преподавателя, задевая, раня и калеча снующих под ногами Золотаря длинных, ползучих и скрипучих рыб бессердечия, безнравственности и этики, блестючих, вышагивающих и хрустящих восковок поэзии, амброзии и катавасии, коротких, симпатичных и рахитичных черепах, на чьих спинах были приклеены синие, желтые и черные переливающиеся атмосферами, морями и непогодами шарики планет, спутников и галактик.
– Или мы с тобой выроем, выкопаем, выищем и разыщем подземный проход, лаз, метро и скважину. Я знаю, видел, был и пробовал копать, ломать, дробить и высверливать в одном месте, где свобода, воля, приволье и раздолье ближе всего, всех, всяких и яких подступают, подбираются, приближаются и находятся от этих стен, застенков, простенков и камер!
Если бы твои уши могли слышать, глаза видеть, а кожа ощущать вибрации звуков, слов и фраз Золотаря, то ты бы покатился, закрутился и забился в конвульсиях, хохоте и веселье. Несчастный, богатый и наивный Золотарь не мог себе представить, выдумать и проинтуичить, что могло его ждать вне этой тюрьмы, как футуролог, рисующий себе картины грядущего, неминуемо попадает впросак со своими, основанными на дремучих фактах предсказаниях, или как скрипка, доставаемая из футляра, где она пролежала несколько лет, не в состоянии предугадать будут играть на ней гаммы или рапсодию. Он рвался отсюда, туда и прочь, но не понимал, не думал и не помысливал, что нигде, никогда и никто не будет ждать, радоваться и сочувствовать его избавлению отсюда. Ему было невдомёк, недосуг и некогда размышлять, задумываться и замышляться о том, что его сокровища здесь – бесполезней мусора там, что его опыт здесь – никчемен там, что его тело здесь – фикция там.
И когда Золотарь рассёк, разрушил и развалил бетонную глыбу и высвободил, вызволил и отневолил тебя, он четырежды прижал тебя к своей груди, четырежды поцеловал тебя и четырежды встряхнул, отряхнул и почистил тебя от цементной крупы, чечевицы и гороха. Но смесь забралась, затекла и осталась, как выхухоль не уходит со своего пересыхающего участка реки, выше которого поставили ирригационную плотину, или как крик туриста, отражаясь эхом от стен пещеры и постепенно затухая, все же остаётся навсегда блуждать в подземельях, в дырах, оставшихся на месте сосков, в ране, оставшейся после иссечения печени и в отверстиях, проделанных в твоих запястьях и голенях. Обнаружив это, Золотарь вытащил, обнажил и намазал свой член алюминиевой, магниевой и бронзовой красками и, взяв, схватив и поймав твою руку, насадил ее цементной пробкой на свой лингам, так, что от одного его движения кусок бетонной мешанины, смеси и взвеси вылетел из твоей плоти и, пробив перегородки, загородки и писсуары вонзился в успевшего всхлипнуть, всплакнуть и взреветь охранника. Раз за разом и еще один, Золотарь оглушал, успокаивал и усмирял рвущихся, лезущих и тянущихся в туалет вертухаев с помощью своего лингама и выдавливаемых из тебя камней.
Когда же заполненные прорехи кончились, Золотарь, не вынимая пениса из твоей голени, начал ею себя мастурбировать, подпуская охранников, хозобозников и врачей ближе, дальше и сильнее. За несколько взмахов он довел себя до оргазма, эякуляции и апофеоза, и когда сперма Золотаря покинула его член, как птенцы кряквы, не боясь разбиться, лёгкими комочками сигают вниз, покидая гнездо, устроенное на развилке высокого тополя, или как пришедшая на ум поэта великолепная, но вовремя не записанная строфа, невосстановимо исчезает в глубинах его памяти, твоё тело, по старой, доброй и благоприобретенной привычке, потекло во все стороны, направления и устремления. Его поток скрыл под невидимой, незаметной и неощутимой мембраной всё, что находилось, обреталось и не шевелилось в его поле зрения, досягаемости и чувствования. А затем, выстригая сведения, брея отчеты и скобля доклады, твоё тело иссекло из ткани тюрьмы весь родильный комплекс вместе с рожающими и родившими, младенцами и мертворожденными, персоналом и фигурантами, обрезая фундамент, крыши и пристройки, линии водопровода, канализации и утилизации, задачи, принципы и функции, оставив после себя лишь воздух, пространство и Золотаря, которому и было вкачано всё взятое, отфильтрованное и процеженное, но лишнее, негодное и опасное для тебя, твоего тела и твоей книги.
Нет возможности вымарать из твоих воспоминаний и следующий кусок!
Ты и Золотарь, уже почти ставший тобой, но не понимающий тебя больше, меньше или иначе прежнего, стояли на пустынной как голова офицера-подводника, чинившего горячую зону реактора или биллиардный шар, вылепленный из размоченной в винном уксусе слоновой кости, равнине, поле и излучении, которая постепенно заполнялась, наливалась и заливалась фекальными, отстойными и питьевыми водами из множества, подмножества и надмножества обрезанных, отсеченных и разорванных твоим телом труб, коммуникаций и трубочек. Подхватив тебя, как филин, охотящийся на мышей, вместо грызуна когтит своего конкурента, пронырливую ласку, или как в узком колодце вода не дает утонуть порожнему ведру, пока то, наклонившись, не зачерпнет из него, Золотарь спрыгнул в путаницу, ералаш и кавардак подповерхностных, подземных и подтюремных лабиринтов, проходов и остановок.
– Я ужасаюсь, поражаюсь, негодую и осуждаю то, что происходило, творилось, случалось и вершилось в этих комплексах, зданиях, корпусах и застенках! Ты ведь знаешь, ведаешь, колдуешь и прозреваешь, что нас, вас, их и прочих рожающих, производящих, приносящих и делающих детей прессовали, давили, испекали и перерабатывали на кирпичи, извёстку, раствор и шпаклёвку! Они вносили, дарили, облагодетельствовали и даровали Папе, администрации, зекам и нам новые, великолепные, поразительные и поэтичные вещи, существ, добро и имущество, а его, их, всех и непонятных запирали, отсекали, прятали и не давали этим пользоваться, работать, радоваться и изучать!
Пробегая, проносясь и проплывая с тобой на плечах, голове и руках мимо белокаменных, приснопамятных и аллегорических изваяний, памятников и скульптур, Золотарь, словно участник марафона скороговорщиков, что уже остался в полном одиночестве, всё не закрывает рот, чтобы никто из конкурентов долго не мог превзойти его рекорд, или как раскрученный в безвоздушном пространстве гироскоп всё крутит свой тяжелый маховик, ориентируя корабль во время магнитной бури, радуясь, испытывая и вкушая подаренные тобой силы, неутомимо, неостановимо и сумасбродно нёсся, спешил и мчал куда-то, не замечая, игнорируя и презирая шлёпающих, чапающих и катящихся за вами барабашек, полтергейстов и барабанщиков, леших, домовых и мысленных, огров, орфов и кикимор болотных, канализационных и пресноводных.
– Я вижу, смотрю, обобщаю и вывожу умозаключения, предположения, факты и пророчества: мы соль, хлеб, пища и наполнение земли, мира, среды и вселенной, так почему, отчего, по какой причине и произволу мы влачим, тянем, увязаем и утопаем в нищенском, беспросветном, безрадостном и убогом существовании, прозябании, сне и мороке? Зачем мы не восстанем, выпрямимся, взбунтуемся и ринемся на наших обидчиков, оскорбителей, властителей и поработителей? Нас много, толпы, тьмы и легионы! Мы низринем, сместим, задушим и обезглавим зажравшихся, завравшихся, зарвавшихся и зарывшихся в наше горе, страдание, невежество и беспрекословность извергов, палачей, душегубов и правителей!
Ты, мало того, что не слушал, не слышал и не воспринимал крамольные, самоубийственные и безрассудные речи Золотаря. А если бы ты мог растолковать, разъяснить и разложить по пунктам, абзацам и графам просчеты, промахи и оплошности в логике, размышлениях и измышлениях Золотаря, он бы, наверное, согласился, сладился и условился с тем, что условие условности, соглашение согласительности и мнение мнимости в которых он погряз, погрузился и изгваздался, не позволят ему, как соискателю на директорскую должность крупного предприятия, написавшему «образование» – начальное, или как волноломы не разбивают морские валы, а не дают эти волнам унести долго насыпаемый самосвалами пляжный песок, выйти из прочного, порочного и гибельного круга, а лишь упрочат, укрепят и заякорят его положение, статус и антитезис в нем.
Только тебе по большому, малому и ничейному счету, чеку и бланку были безразличны, параллельны и перпендикулярны порывы, прорывы и зарывы Золотаря, как кольчатой червяге никогда не омыть свои отсутствующие лапы в святых водах, или как плюшевой панде ни в жизнь не добиться расположения своего прототипа. Ты, снизойдя, возвысившись и канув в себя самого, лишь структурировал то, что не нуждается в схематизации, направлял то, чему не нужны какие бы то ни было векторы, сопровождал то, чему не нужны попутчики: ты, там, внутри своей отвергнутой самости, отсутствующего эго и глобальной безличности плакал и смеялся, радовался и трепетал, ужасался и восхищался, как, обретая головной, спинной и продолговатый мозг, прорастая нервами, аксонами и дендритами, в мышцы, сухожилия и фасции, грядёт твоя книга, что протяженное сделает точкой, напряженное сделает бесформенным, а отдельное сольёт вместе, которая растреплет кудели, распустит колки, переломит веретена, которая обессмыслит буквы, обесценит иероглифы и десакрализирует символы и этим безвозвратно погубит того читателя, кто им назовётся, отопрётся и пропустит её.
– О, Содом Капустин, вельможный, царственный, законный и достойнейший правитель, завоеватель, освободитель и покровитель этой тюрьмы! Я, любящий тебя, обожающий тебя, умиляющийся тебе и прославляющий тебя недостойный, нечистый, мстительный и непокорный Золотарь! Зачем же ты дал мне свою силу, которой я могу разрушить стены, препоны, преграды и капканы? Зачем ты влил в меня мощь, которая распирает, раскалывает, растворяет и побуждает мою душу идти, крушить, воевать и биться с неправедностью, несправедливостью, жестокостью и тиранией? Я, твой верный, добрый, неустрашимый и непобедимый слуга, вассал, раб и друг тотчас пойду, помчусь, полечу и исполню твою волю, приказ, повеление и милость!
Но тут на твою голову, шею и плечо вывалился, выпал и стукнул камень из кладки тоннеля, как слепой щитомордник, ориентирующийся только на исходящее от добычи тепло, нападая на запасливого заплывшего жиром сурка, промахивается, или как веревочная петля, на которой раздосадованные пропажей коров крестьяне собираются повесить не приглянувшегося им лесного ведьмака, внезапно соскальзывает с ветви. Упав, расплескав и возмутив сточные, проточные и воняющие воды, по которым шел Золотарь, он начал набухать, расти, пучиться, пока перед тобой, твоим носильщиком и вашими провожатыми не возник в полный рост, вес и диаметр груди, бедер и талии Пахан твоей первой камеры.
– Здравствуй!
Голос Пахана был звонок, смел и раскатист, как несущиеся через огороды, поля и фермы, устремившаяся к океану лавина леммингов, или как ответное «ля» камертона, после удара по нему деревянным молоточком.
– Все приметы говорят, что это наша с тобой последняя встреча. Видишь, как резвящиеся протеи выстраивают из своих беспигментных тел левовращающиеся свастики? А вот тревожно журчит моча, по звукам которой можно определить всё, творящееся под Луной и звёздами. А это – крик козодоя на твоём финальном рассвете.
Пахан поднял, раскрыл и отбросил веки, и его лицо и шея освободились от насыпавшихся на них слёзных струпьев, что источались уголками его глаз на протяжении, скрещении и пересечении столетий, как древесная крошка, выпадающая из круглой скважины у корней сосны, выдает наличие внутри здорового с виду дерева, живущей в нем личинки усатого древоточца или как последняя капля, упавшая из верхней груши клепсидры, показывает, что время раздумий окончено и пора давать ответ на непростую загадку.
– Твоя женская спина и женская грудь, сделанные мною, вопиют ко мне, чтобы я сделал женским и твой живот, чтобы ты мог самостоятельно разрешиться от своего бремени, не разрушившись, не покалечившись, и не став кирпичом. Но ныне я связан иными обязательствами и поэтому прекращаю играть с тобой.
Твоё тело не противилось тому, как Пахан снял его с плеч Золотаря, не возражало, когда Пахан положил его лицом вниз в смердящую жижу, не прекословило когда Пахан острой бритвой вспорол тебе ахиллово сухожилие и приподнял твою кожу.
– Стой, не смей, пожалей, не причиняй ему зла, вреда, порчи и сглаза!
Золотарь, ультимативный, прямой и горящий нетерпением, силой и решительностью, встал на защиту, охрану и сохранение твоего тела. Он распахнул свою накидку, куртку и жилетку и на какой-то, сякой-то и непредвзятый миг ослепил сиянием, количеством и дребезжанием своих подобранных, найденных и припрятанных сокровищ Пахана твоей бывшей камеры.
– Ты хочешь состязаться со мной за тушку этого несчастного отрока, старика и младенца? Попробуй же, бедолага!
Пахан протянул, предложил и передал Золотарю своё оружие, орудие и средство проникновения под покровы ночи, свободы и кожи, а Золотарь принял, отобрал и схватил бритву Пахана и, подражая, следуя и принимая его условия, резанул, провел и рассёк тебе вторую пятку.
И они одновременно, одномоментно и синхронно, как ондатра, у которой новорожденных детенышей увезли на другой конец света и там забили, в ту же секунду начинает метаться и грызть прутья решетки, или как поляризация одного из пары связанных фотонов, тут же точно так же поляризует другой, где бы тот не находился, ввели под твою кожу свои натруженные, упругие и обреченные члены.
Даже твоя избирательная память сохранила все нижеследующее!
Скунсовые обезьяны, дивы и каптары подобрались, подкрались и подступили поближе, чтобы не упустить ни одного движения, поползновения и итога этой схватки, спарринга и противостояния титанов, бойцов и подлецов. Членистоногое, членистокрылое и членистопузое население тюремных застенков, задворков и закутков скрываясь, прячась и вылезая из щелей, трещин и лакун располагалось, разлагалось и проветривалось вокруг вашей троицы. Амфибии, амбидекстры и полиморфы уперлись, припёрлись и уставились на вас своими, принесёнными и одолженными водянистыми, маслянистыми и голубыми глазами, как гипнотизёр-медиум смотрит на прыгающего перед ним подопытного кролика, силой мысли заставляя того то играть на флейте, то декламировать утерянные античные вирши, или как болотные пузыри сперва отражают присевшего над ними ботаника, а потом лопаются, заставляя того чихать и кашлять от гнилостной вони.
Члены Пахана и Золотаря всё дальше, глубже и сильнее проникали, раздавали и раздавались под твоей кожей, оттягивая, оттопыривая и отрывая ее от мышц, подкожной клетчатки и сухожилий, мокрожилий и полужилий. Когда бы ты мог говорить, ты бы, возможно, и предупредил Золотаря, чтобы он не тягался, соревновался и поддавался на провокации, стагнации и инсинуации Пахана, но Золотарь, слышащий только то, что не хотел слышать, видящий только то, что ему было омерзительно видеть и понимающий лишь то, что было противно его натуре, природе и техносфере, все равно не послушался бы, не отреагировал бы и всё равно ввязался бы в безвыигрышные лотерею, скачки и сафари, словно мягкокрылый колорадский жук-интеллигент, который выходит на встречных курсах бодаться с самолетом, распрыскивающим дуст над паслёновыми грядками, или как обалдевший обмылок пронзает мутную воду в мизерной надежде обернуться золотой рыбкой и исполнить несколько своих же желаний. Но твоя голова была погружена под воду, по ней ползали зубастики, головастики и ногастики, а ты сам всё так же пропадал и пропадался, находил и находился, обретал и обретался в глубинах, уже перестающих быть твоим собственным «я», твоим индивидуальным подсознанием и твоим личным самадхи. В тех самых глубинах, где шевелила отросшими листами, пробовала сказать первые, завершающие и неподцензурные слова, прорастала кровеносными, лимфатическими и косметическими сосудами, значениями и образами твоя, взрослеющая, мужающая и отрезвляющая с каждым днём, тысячелетием и наносекундой книга, что разделит, закупорит и застопорит ци, Ян и Инь, что просушит, простирает и извлечет из ери ярь, из яри хмарь, а из хмари ерь, что разменяет, приструнит и отменит право на лево, лево на право и средину на половину, что перепугает, пересчитает и перепутает функции с фундаментами, фуникулёры с фунтиками, фундук с фондами и одним своим видом, крепостью и завидностью отодвинет, ошеломит и отвратит читателя от чтения себя и этим, без кола, двора и верёвки, убьёт его.
Твоё тело уже ощущало, встречало и принимало четыре фаллоса, шерудящих, шастающих и шевелящихся под твоей кожей. Три принадлежали Папе, что завладел телом Пахана, а последний относился к самому Пахану, который, при поддержке, согласии и соизволении Папы влез в Золотаря и теперь толкался, сражался и выдавливал Золотаря из его вотчины, усадьбы и помещения. Когда бы ты вернулся раньше поры, срока и созревания, то и тогда бы ты не помог Золотарю справиться, одолеть и вышвырнуть Пахана. Собиратель утраченных ценностей напрягал, призывал и тратил все полученные, присвоенные и прирученные силы, но Папа, чьё внимание пронизывало всё сущее, тщетное и эфемерное, который управлял, манипулировал и руководил, словно диспетчер, чьи руки летают над пультом, управляющим всеми стрелками и семафорами на крупном сортировочном узле, или как триггер в электронно-вычислительной машине, задающий электронам направление движения, оказывался умудреннее, опытнее и проворнее своего антитезиса, антипода и антитёзки. Под твоей кожей сплетались, расходились и извивались подобно хвостам нескольких гиббонов, сидящих на ветви и с их помощью выясняющих отношения, или как струйка из крана разбивается на несколько ручейков, скользя по навощенной тарелке, лингамы, в своих подкожных метаниях, скольжениях и биениях доходя до твоей макушки, ладоней и подмышек. Невероятными, невозможными и неописуемыми усилиями, финтами и таранами Золотарь иногда, периодически и реже и реже брал, одерживал и отыгрывал утраченные позиции, амуницию и окопы, но три уда Папы обходили Золотаря с флангов, тыла и сверху, а Пахан работал четвертой, пятой и шестой колоннами, сбивая, разбивая и подталкивая под локоть, колено и затылок. Твоё тело, насколько оно это могло, умело и контролировало, стремилось как можно дольше, дальше и глубже затянуть Папу, Пахана и Золотаря, если уж он сам согласился, вызвался и обрёк себя, как кальмар, затеявший брачные игры рискует оказаться сожранным в разгаре любовных утех и сплетений, так и не оплодотворив свою потенциальную невесту, или как первый лед, образовавшийся на луже во время ночного заморозка, разбитый чьим-то каблуком и отброшенный на асфальт, неминуемо растает, едва попадет под лучи осеннего солнца. Оно надзирало, контролировало и отслеживало состояние, настроение и форму совокупляющихся с тобой, и когда внимание Папы, распалённого, распетушенного и озадаченного на удивление, изумление и поражение долгим, непонятным и непредсказуемым сопротивлением, отпором и фанатичностью Золотаря, полностью оказалось втянутым в тело Пахана, когда внимание Пахана оказалось целиком захваченным телом неистово супротивничающего Золотаря, твоё тело, легонько, незаметно и преосторожно пощекотав, стимулировав и форсировав эякуляцию, и едва из головок пенисов показались, выглянули и брызнули первые капли спермы, мигом отсекло, отрубило и отхватило то, что было от Папы в Пахане, самого Пахана и Золотаря непроницаемой, неподдающейся и безысходной диафрагмой и под ней, спокойно, безмятежно и без остатка поело всё, что попалось в его ловушку, западню и вершу.
Папа, обнаружив, поймя и обескуражась от утраты, потери и иссечения всего своего внимания, сосредоточения и медитативности озверел, разъярился и утратил понимание ситуации, процессов и последствий и набросился на твою оболочку с кулаками, пинками и подзатыльниками, как отощавший ёж, столкнувшись нос к морде с ужом, вцепляется безобидному пресмыкающемуся в шею и топорщит колючки, или как колотящий по крыше кондоминиума ливень, мечтающий затопить квартиры, промочить квартирантов и устроить короткое замыкание, вместо того стекает с нее по желобам и водосточным трубам. Но съев Пахана и Золотаря твое тело не успокоилось и, словно карапуз, провалившийся в сказочный мир и проедающий себе пещеру в пряничной горе, или как универсальный растворитель, пролившийся на ступню безалаберного лаборанта, делает дыру в ней, полу и утекает на много этажей вниз, и принялось расширять, увеличивать и захватывать большие и большие объемы вместе с соглядатаями, зеваками и спящими, вкупе со стенами, кирпичами и кроватями, включая воздух, воду и металл. И Папа, теряя в твоём растущем теле то ноги, то фалды, то локоны, мчался, торопился и удирал во все грабли, тяпки и лопатки уже не заботясь, оборачиваясь и беспокоясь о своём имидже, реноме и репутации, отбрасывая, отшвыривая и сметая со своего пути, тракта и колеи опрометчивые страхи, нерасторопные ужасы и неповоротливые кошмары, изводившие, пугавшие и преследовавшие его все годы, расстояния и страны.
Когда струи твоего тела вновь создали тебя таким, каким ты стал, получился и вытерпел, оказалось, что Золотарь привел тебя в жилые, обитаемые и заселенные области, где спящие летаргическим, лингвистическим и литературным сном постоянно мастурбирующие арестанты, едва пропала пластина, сдерживающая их рассеченные, разделенные и частично поглощенные тобой тела на весу, полу и койках, посыпались, повалились и затрепыхались в воздухе, погребая тебя под собой, своими вещами и тюремными принадлежностями. Тут же примчались, приковыляли и привалили хозобозники, как аист марабу, первым обнаруживший притворившегося дохлым шакала, чинно поднимая лапы, вышагивает вокруг по сужающейся спирали, или как плотоядные духи обступают забредшего в ночи на кладбище подростка и, витая перед ним смутными тенями, высасывают из него силы и удаль, не обращая внимания на пеших, сердитых и утомлённых вертухаев, бросавших на них взрывпакеты, петарды и хлопушки, возвещавшие, что наступила пятница, день неумытых шей, грязных ногтей и кариесных зубов. Зеки, вилами, трезубцами и баграми растаскивали останки, остатки и обрезки своих товарищей, друзей и сексуальных партнеров, компаньонов и концессионеров, грузили, швыряли и клали их на носилки, тачки и катафалки и отправляли в котельную, крематорий и кочегарку.
Никогда тебе не забыть то, что стало с тобой потом!
Когда хозобозники докопались, дорылись и нашли тебя, ты лежал лицом вниз и кожа твоя покрывала твоё тело, как складчатая шкура бассета, в которой тот спокойно бегает внутри, пока она стоит на месте или как лопнувший пузырь жвачки, облепивший нос и щеки жующего. Причитая, просчитывая и почитая, зеки вытащили тебя из ямы, воронки и кожи, что растрескалась, разошлась и висела на твоём теле неопрятными, рваными и обескровленными лоскутами, клочками и кусками. Практичные, сонные и разбуженные арестанты сразу же начали делить, рядить и размахивать шматами твоей кожи, словно призами в неведомую лотерею, транспарантами с выцветшими лозунгами или скальпами с любимых актёров. Ты же, обмотанный собственным кишечником, что свалился с члена пропавшего в тебе Золотаря, обнаженный выше всякого предела, лежал, перевёрнутый, блестящий мышцами, костьми и жиром и твой живот пучило от живущего в нем неописуемого плода.
Желай ты посмотреть своими лишенными век глазами, то ты бы увидел, как острожники обертывали, обворачивали и протыкали своими перетруженными, перестоявшими и перевозбужденными пенисами доставшиеся им часть твоей кожи и, самозабвенно, проникновенно и фортиссимо орошали, поливали и облагодетельствовали своей истекающей спермой всех тех, этих и наглых окружающих, открывающих и закрывающих глаза от животворительных, лечебных и радужных брызг, капель и живчиков. Только твои глаза не смотрели ни наружу, ни внутрь, ни в других направлениях, движениях и скоростях, они наблюдали только тебя самого в тебе самом и то, как ты выводишь из самого себя свою собственную книгу, уже обретшую силу плоти, упругость связей и формоотнимающую инерцию движения, которое принудит радость молчать и этим перестроит ее в мудрость, которое позволит радости петь и этим выведет ее в любовь, которое даст радости волю и этим начинит всё блаженством, благодатью и гармонией, что и убьёт читателя этой книги навсегда.
Сперма, лишенная своих матрасов, спермосборников и утилизаторов теперь прыгала, скакала и носилась, как кобылки, прекращая стрекотать и расправляя голубые, красные и желтые крылья, разлетаются от пробирающегося через выгоревшие заросли корноухого курдючного барана, или как чрезвычайно упругий латексный мячик отражается от боковин ветвящегося коридора, чтобы в итоге не попасть ни в одну из дырок, ведущих в руки на что-то надеявшегося игрока, понуждая осыпаться краску, штукатурку и кафель с тюремных стен, расшатывая солнце на небе, линию горизонта под небом и всю занебесную механику, технику и приспособления. Но зеки, мастурбируя твоей кожей, поя твои песни и не обращая на тебя самого ни малейшего внимания, ибо съел ты всё внимание, бывшее в распоряжении Папы а, значит и всего острога, просто не замечали, что их узилище раскачивается, трясётся и ходит как голова сизаря, прогуливающегося по набережной в поисках остатков сахарной ваты, или палуба рыбацкой шаланды, везущей вместо сельди груз контрабандного спиртного, что шконки, шлёнки и шпонки перекатываются от одной стены до другой, обратно, снова и непрерывно, что обесточенные телевизоры, безантенные радиоприёмники и опустошенные холодильники сбиваются в кучи, стаи и груды, еще не готовые взлететь, взмыть и покинуть ставшие негостеприимными, шаткими и валкими полы, стены и своды этой тюрьмы. Колодники, в отличие от тебя, не чувствовали, не видели и не трогали, как чесночница, воспринимающая только движущиеся объекты, теряет севшую на травинку муху-саркофагу, или как радар на авиабазе не может засечь неопознанный летающий предмет, который наблюдают в иллюминаторы все пассажиры трансконтинентального рейса, сонмы, тьмы и массы кусающих, гложущих и рвущих их организмы, рассудки и сновидения остроклювых бандикутов, ядозубых фосс и перепончатолапых мурен, рожденных их сокамерниками в моменты просветления, пробуждения и примирения с пытками, казнями и ужасами их заключения, отключения и расключения, придуманными, осуществлёнными и воплощенными для них самим Папой и беспрерывно, безудержно и артистично продолжали совокупляться сами с собой, собратниками и развратниками.
– Тот унижения достоин, кто посягнет на то святое, веками долгими основой и доказательством что пребывало. Основ природы. Не может скудный разум черни постичь основы абсолюта, что заповедали нам предки, познавши истинность заветов. Вполне конкретных.
Пока шесть вертухаев в сопровождении, приложении и руководством опричника своего кабинета, несли, тащили и поднимали твоё тело, не сведущее, не следующее и не могущее передвигаться из-за перерезанных ахилловых связок, отсутствия кожи и пробитых пенисами ушей, за икроножные, широчайшие и плечевые мышцы, за бицепсы, трицепсы и ягодицы, другие обрывали, прекращали и прерывали праздник, веселье и мастурбацию, будто великовозрастный имбецил, вторгшийся в песочницу, роняя слюну и купюры, жаждет меняться игрушками с ревущими от неожиданности малышами, или как покрышка от карьерного самосвала катится по лугу, вынуждая стайку волнистых попугайчиков, улетевших на вольные хлеба из зоомагазина, бросаться врассыпную, отнимая у разошедшихся, развеселившихся и приблизившихся к границе дрёмы зеков остатки твоих кожных покровов, плащаниц и оболочек, чтобы привести их на анализ, осуществить их исследование и провести их по инстанциям.
– Как подневольный дух находит лишь в рабстве истинное счастье, так мы должны изведать каши, чтоб бланманже нам было вкусным. Коллегиально. Но личность, что в самозабвеньи спешит к загробности усладам, нам не понятна и к тому же на нас сомнения наводит. Определённые.
Внешность, внутренности и выражения лиц, носов и щек нёсших тебя вертухаев постоянно менялись, колебались и циклировали: у них вырастали, пропадали и гипертрофировались руки, ноги и крылья, у них выпадали, показывались и взъерошивались перья, усы и ногти, у них менялись цвета, направление и размеры глаз, губ и бород, но эти трансформации, пертурбации и перестановки никого не тревожили, а уж самих охранников в первую голову, во второй срок и в третий вопрос, будто получающий курс стволовых клеток ампутант прикидывается, что его культя остается неизменной, когда на ней уже растут новые пальцы, или как исландский шпат, сам того не подозревая, удваивает любую картинку, на которой он окажется.
– Стремление избегнуть кары приводит к новым преступленьям как против личности и строя, так против единоначалья. Истеблишмента. Вопрос серьёзный поднимая, мы проверяем все нюансы, чтоб невиновного не мог бы сразить, законы подминая, карающий клинок Фемиды. Амбивалентно.
Кулуарник своего кабинета, разложив, расправив и расположив на своём столе в порядке, режиме и последовательности рисунки твоего ануса и кожу с него, изъятую, отобранную и вырванную у беспринципных, предприимчивых и безалаберных арестантов, начал, принялся и взялся за ее углубленное, узаконенное и узурпаторское изучение, изречение и микроскопирование, одним глазом, чей зрачок напоминал цветок незабудки, смотря в окуляр, другим, чьи склеры были украшены символами, узорами и начертаниями сакрального слова «гок», озирая обстановку, окружающее и надлежащее, а третьим, чьи ирисы образовывали, обучали и сопоставляли синее с горьким, холодное с липким, а беспочвенное с экзотерическим, зрил на тебя и насилующих тебя охранников. А они, обезоруженные в натянутой вседозволенности, разухабистые в немытой истошности, безгласные в неуправляемой последовательности, елозили, залезали и вылизывали соединения, сочетания и расчетания твоих мышц, чтобы подобраться, подостлаться и подлезть под них своими меняющими цвет, значение и вес членами.
– Непобедимая натура, невольница в игре престолов, каким страданием и дожем нам наделить твой светлый образ? Педагогично. Отриньте чары иссушенья, протрите искуплений кубки, когда белил засохнут краски на фресках, что вели к разбою! Конгениально.
Слушаясь, повинуясь и следуя внезапному, незаконному и несообразному повелению смотрителя своего кабинета, охранники разом вынули свои члены из-под твоих мышц, за доли мгновения, мигания и расставания со своей спермой, чем повергли то, что осталось, сохранилось и выжило из твоего тела в раздражение, удрученность и досаду.
– Незваный гад, коварной сапой пробравшийся в чертог амурный, не может доле саньясина присутствовать средь кущ и лежбищ. Категорично. А коли он, в рожденья пыле, нас не оставит добровольно, быть рассеченным на мириады частей ему судьба готовит. Безапелляционно.
Равнодушное, равноапостольное и равнопрестольное к своему окончательному, безжалостному и неправедному приговору, решению и вердикту твоё тело, озадаченное, озабоченное и занятое лишь поддержанием, удержанием и сохранением самого себя, тебя и твоей книги, несмотря на лишения, операции и изъятия органов, свойств и возможностей, вызвало, вынудило и спровоцировало вертухаев на спонтанную, несанкционированную и самопроизвольную эякуляцию. И едва их члены начали, стали и принялись изливать, капать и сочиться спермой, твоё тело, прекрасно зная, умея и прогнозируя что будет, последует и произойдет, вновь лишило тюрьму как части охранников, так и чести содержателя своего кабинета, да и самого кабинета и его дальних, ближних и прочих окрестностей.
А дальше ты, наверняка, тоже всё помнишь?
Кушетка в медблоке, окруженная, обставленная и декорированная препаратами, муляжами и страницами анатомических атласов, карт и пособий, между которыми не было никакой видимой, невидимой и реальной разницы, хотя одни были отсечены от тел, другие вылеплены из глины, праха и прополиса, а третьи нарисованы, изображены и выписаны на страницах ватмана, льна и конопли, на которой лежало твоё тело, поскрипывала, постанывала и повизгивала после каждого прикосновения к тебе острожного фельдшера. Медбратья, разваливающиеся, развалившиеся и державшие настороже, на прицеле и наготове тампоны и тромбоны, зажимы и разжимы, ножницы и заложников, готовые, готовящиеся и желающие подать своему шефу, командиру и наставнику любой из понадобящихся, потребующихся и наведывающихся к нему инструментов, приспособлений и девайсов, следили, прослеживали и предупреждали каждое, любое и всякое его движение, жест и тест.
– Не могу сказать тебе, уникальнейший мой Содом Капустин, что испытываю радость от очередной нашей встречи. Но мой долг – усугублять страдания всем страждущим, и потому мы опять свиделись.
Ты лежал, освежеванный заживо, замертво и спонтанно, будто голотурия, выбросившая свои внутренности в маску слишком близко подплывшего ныряльщика и теперь вынужденная, схоронившись в расселине, отращивать их заново, или как опустошенный конверт, в котором пришла повестка, падающий из вспотевших пальцев в подъездную слякоть, а внутри тебя не прекращались, не прерывались и близились к завершению не поддающиеся описанию, истолкованию и осознанию процессы, синтезы и тезы, вызывающие, сопровождающие и провожающие выход, появление и рождение твоей книги. Той самой, что остановит валы, колёса и зацепки кармы, сансары и шуньяты, той самой, что выведет из нирваны, нирклозета и нирсауны всех, кто туда попал по недомыслию, перемыслию и переосмыслению, той самой, что отменит эзотерику и экзотерику, магию и мании, ворожбу и волшбу, той, что опишет саму себя в терминах в ней отсутствующих, той, что расскажет то, чего в ней не написано, той, что изобразит былины, небыли и пророчества на каждый миг прошлого, нынешнего и несмогущего наступить, чем и убьёт своего читателя.
– Думаешь, разрушив храм, роддом и пекарню, ты увильнешь от расплаты? Отнюдь, простодушный мой Содом Капустин! Тебе сполна придется расплачиваться и за убитых тобой моих коллег, и за умерщвленных тобой твоих друзей. Но если это мы бы и могли простить за жалкие несколько тысяч лет, то за неслыханное оскорбление Папы тебя ждёт такая же неслыханно ужасная участь.
Врач, как базарный покупатель стучит по тыкве, пытаясь определить по звуку насколько она сладка, или как микшерский пульт из записанных в разное время дорожек, накладывая, замедляя и убыстряя их, добавляя и срезая частоты, создаёт великолепную композицию, мял твой вздувшийся, выпирающий и плотный живот, пытался раздвинуть мышцы брюшного пресса, заглядывал в разрез, оставшийся после извлечения печени, но не мог разглядеть внутри тебя ничего, что бы было ему понятно, знакомо и очевидно.
– Судя по твоему диагнозу, анамнезу и сигнатуре, ты, претаинственный мой Содом Капустин, носитель, инкубатор и интесерактор неведомой науке, анналам и энциклопедиям аномалии, дисфункции и отклонения. По всем канонам, ты давно должен был бы расстаться с жизнью, но ты явно жив, активен и действуешь, и это вносит сумбур в тюремный уклад уже нашей жизни. Впрочем, решение по поводу твоей персоны давно принято, осталось лишь довести его до конца. Надеюсь, ты не будешь возражать и противиться?
Коловорот, вороток и мечик в умелых, заскорузлых и потерявших чувствительность, проницательность и претенциозность пальцах калекаря вошли, вонзились и сковырнули твой пупок и, после трех с половиной оборотов, были выдернуты, извлечены и отброшены, как ворона, чтобы полакомиться страусиным яйцом, поднимает в клюве угловатый камень, чтобы, опустив его на толстую скорлупу, таким способом пробить ее, или как бейсбольный тренажер выстреливает мяч, чтобы бэтсман мог натренировать свой коронный хоум-ран. Казематный истязатель, позвав, призвав и попросив помощи, немощи и подмоги у медбратьев, переложил, перекатил и перевернул тебя на бок.
– Ты, достопочтимый мой Содом Капустин, уже являешься счастливейшим обладателем двух подарков: женской спины и женской груди. К сожалению, мой воспитанник не смог завершить твою трансформацию целиком, полностью и бесповоротно. И посему, это придется сделать мне самолично, несмотря на то, что ты, вне всяких сомнений, отправишь меня к праотцам, пращурам и ящерам.
Не придавая значения, важности и роли тому, что из твоего просверленного, продырявленного и проснувшегося пупа сочились, текли и сползали редкие, меткие и густые капли крови, уморитель арестантов высвободил, вылизал и вонзил свой член в каверну, бывшую, обретавшую и являвшуюся только что твоим пупком. Он не следил за тем, что вокруг нее извивались, копошились и шебаршились рогозубые змеерыбы неисполненных обязательств, винтолапые червехвосты непрощённых обещаний, вислоухие полигаторы забытых клятв, которые с хрустом, аппетитом и упоением вгрызались, впивались и отгрызали куски от врача, его медбратьев и кушетки, на которой покоилось, возлежало и трансмутировало твоё тело.
Когда бы ты был чуть ближе к собственной поверхности, ты бы, наверняка, попытался отговорить санитара заключенных от его опрометчивого, неразумного и неблагоразумного во всех отношениях, смыслах и обстоятельствах шага, акта и воздействия, как профессиональный токарь на собственном примере показывает перворазряднику, что бывает, когда пальцы остаются забытыми в передней бабке, или как из-за внезапного изменения температуры и давления воздуха среди ясного неба и яркого солнца вдруг начинается пронизывающий до костей ветер. Ты бы рассказал ему, что никто, никак и нигде в пределах этого, другого и любого из узилищ не сможет причинить тебе вреда, пользы и изменения, что только ты сам, являясь, появляясь и ведая законы, нормативы и установления по которым обитает, функционирует и разрушается эта тюрьма, можешь что-то в ней поправить, исправить и изменить. Но ничто из того, что делают с тобой ее жители, смотрители и правители не может повлиять, отменить и разубедить тебя после того, как ты уже принял судьбоносное, судьборвотное и судьбородное решение, и как бы они не пытались, пытали и допытывали тебя, у них получится, выйдет и покажется, что они лишь попортят, напортят и опечалят лишь твою наружную, внешнюю и обходимую оболочку, ипостась и тело, что своими словами, фразами и укорами они никогда не смогут тебя обмануть, ввести, вывести и погрузить в заблуждение, плутание и потерю, утрату и замену ориентации, поскольку они имеют дело лишь с отражением, символом и проекцией тебя, которую можно очернить, замарать и испохабить, но ты сам, и твоя суть и твой плод, зачатая, выношенная и вскоре уже рожденная тобой книга не претерпят от этого ни малейших, мельчайших и стилистических изменений, дополнений и ремарок.
– По нашим прикидкам, твоя излишняя агрессивность, высокочтимый мой Содом Капустин, идет от избытка тестостерона, булкостерона и сдобостеронов, выпекаемых твоим организмом как пирожки. Но если маскулинность твоего тела удастся преодолеть компенсаторной феминизацией, то ты станешь безопасен для всех и, в первую очередь для Папы.
Гонитель эскулапа водил внутри твоего живота своим разветвляющимся членом, ощупывающим, опробующим и дегустирующим все внутренности, что попадались, натыкались и росли на его пути, словно яркая мохнатая гусеница, переползающая с ветки на ветку и пробующая на зуб все попадающиеся ей на пути листья, пока не попадётся тот, который ей понравится, или как соломинка, блуждающая по почти совсем пустой жестяной банке, ищет последние скопления жидкости, чтобы отправить их в глотку своего сосателя. Головки, кожные складки и пещеристые, гротовые и гротесковые его пениса опутывали, обматывали и выворачивали из гнёзд, мест и постов твои почки и надпочечники, желудки и поджелудочные, наджелудочные и зажелудочные железы, кандалы и оковы, селезёнки и мочевые, силовые и летательные пузыри. Все это, при, за и после каждой завершенной, избавленной и доконченной фрикции складировалось, разбиралось и маркировалось подоспевающими, успевающими и хватающими извлеченные из твоего тела органы медбратьями, как висящая вниз головой каракатица своими многочисленными щупальцами выбирает из придонного песка его съедобные составляющие и отправляет в свой клюв, или как чтобы выдать один глянцевый и зацеллофанированый эротический журнал, газетный автомат должен проглотить несколько монет разного веса и номинала.
– Вот и пришло время проверить на практике наши теоретические изыскания!
Врач, испытывая любопытство, прочность и абстрактность дружеских, вражеских и сторонних умозаключений, умовыключений и гипотез, бесстрашно, отстранённо и непредвзято эякулировал тебе в брюшную полость.
Твоё тело, не желавшее выяснять тонкости, колкости и слабости догадок, угадок и подсматриваний решений, не смея перечить, противоречить и спорить с высокими, далёкими и спекулятивными построениями, без излишнего, противного и антагонистического шума, гама и срама, прокатившись, проследив и дойдя до самых концов, пределов и границ тюремного комплекса, общежития и общесмертия, скушало, всосало и вобрало в себя все ипостаси, представителей и заполнителей врачебных должностей, постов и работ до которых смогло дотянуться, добраться и достичь, так, что отныне арестанты оказались лишены, обречены и вынуждены обходиться без медицинской помощи и немощи, вреда и бреда, обмана и очковтирательства.
Как тебе не вспомнить последующие события?
– Отдай, верни, выплюнь и высвободи то, те, тех и всех, кого ты украл, похитил, изъял и лишил существования, наказания, обитания и сна!
Понурый, озлобленный и трясущийся Папа ходил, сутулился и нарезал вокруг тебя круги, шестиугольники и синусоиды, не понимая, не просекая и недоумевая, будто посаженный в клетку единорог, без устали идёт по ее бесконечному периметру, пока не кончится не только второе дыхание, но и все, до единой его силы, или как мю-мезон, занявший место электрона в его потенциальной яме, обращается вокруг одинокого протона, пока не испустит избыточную энергию и не распадется на гамма-кванты, как такое существо, как ты, вдруг смогло причинить столько беспокойства, тревог и смятения. Папа останавливался, оглядывался и озирался при каждом шаге, движении и шуме. Его члены, сжавшиеся, морщинистые и увядшие били, стучали и позвякивали при каждом его повороте, обороте и взгляде в сторону, в бок и в пояс.
– Нам докладывали, сообщали, предупреждали и доносили, что ты Содом Капустин, не от мира сего, того, знакомого и следующего, что ты не подчиняешься, не согласуешься, не вписываешься и не противишься ничему, что здесь с тобой вытворяют, делают, унижают и выпытывают, что ты проникаешь в самые заветные, секретные, тайные и закрытые области не шевелясь, что ты распространяешь крамольные, запретные, подрывающие и табуированные знания, сведения, листовки и прокламации, не говоря, что ты возбуждаешь надежду, веру, чаяния и упование на выход, освобождение, смерть и избавление от мук, страданий, извращений и искажений истины, правды, справедливости и правильности, не думая, что ты создаёшь, вербуешь, отрываешь и формируешь новую, старую, забытую и потерянную церковь, религию, учение и исповедание, не уча. Зачем же пришел ты сюда, Содом Капустин, чтобы выявить, показать, доказать и ткнуть нас, всех, зрителей и меня носом, лбом, подбородком и лицом в гадость, дрянь, помёт и дерьмо нашего несовершенства, косности, глупости и бессилия? Зачем ты, Содом Капустин, выставляешь, демонстрируешь, изображаешь и выдаёшь напоказ, на публику, на зевак и случайных прохожих свои шрамы, стигматы, раны и язвы, неужто, отчего, с какой стати и почему ты думаешь, считаешь, подразумеваешь и надеешься, что это зрелище, представление, цирк и балаган смогут хоть кого-то изменить, улучшить, исправить и сподвигнуть? Нет, нет, нет и нет!
Ты уже мог ответить Папе, что он настолько погряз, протух и проникся собственным обманом, ложью и мнениями, что перестал отличать, разделять и просеивать одно от другого, другое от предыдущего, а предыдущее от четвертого, словно дальтоник, видящий красное и зеленое единым буро-коричневым цветом, или как пилюля, которой всё равно, катится она в пузырёк со своими товарками, или по пищеводу больного, здорового или самоубийцы, что он выстроил, воздвиг и заточил самого себя в нерукотворный, незыблемый и невидимый монумент, стелу и изваяние, из которого нет ни выхода, ни входа, ни сочувствия, пока кто-то, извне или он сам не пожелает выйти из него, из бреда и самокопаний и не проложит, извлечет и создаст путь, предназначение и направление, перпендикулярное всем известным, используемым и привычным системам, комплексам и порядкам координат, что, всё, что он знает, видит, воспринимает, не более, не менее и не иначе чем отражения, лики и блики его самого в им самим сотворённых, созданных и отполированных поверхностях, промежутках и существах. Но тебя занимали более важные, насущные и неотложные задачи, проблемы и решения. Твоя книга, уже обретшая корешок и руки, нумерацию и нервы, значение и зрение, была почти совсем, полностью и всерьёз готова, зрела и намерена явить, предъявить и родиться в мир, не ждущий, не жаждущий и не стремящийся к ее появлению, миссии и приятию, ведь она должна донести до всех, что мысль сменит действие, знание сменит невежество, а любовь сменит мудрость, что нет различия, отличия и противоречия между потерей и приобретением, между дальним и ближним, между собой и другим, и всем этим без раскачки, подготовки и колебаний убьёт всех, кто может читать, слушать и принимать.
– Сколько раз, случаев, эпизодов и моментов я доказывал, проявлял, декларировал и свидетельствовал о своей любви к тебе, Содом Капустин! Верни, дай, оставь и выпусти меня на свободу, волю, воздух и независимость!
Призрак, дух и видение Золотаря, прозрачное и отражающее, зеркальное и призрачное, полуплотное и полутонкое, выпущенное, извлеченное и доставленное Папой из его памяти, загашников и связей будто высохший стебель экзотической орхидеи, пришедший по почте в северную оранжерею, выпускает листья и начинает цвести, едва ему создадут подходящие комфортные условия, или как руда из карьера, прошедшая обогатительный участок и сыплющаяся в домну, чтобы вылиться из неё хрупким чугуном, возникло, зависло и обратилось к тебе.
– Я дал, презентовал и облёк тебя в статус, ранг и иерархию! Посмотри на потолок. Видишь трещину, похожую на траекторию полёта баллистической ракеты с раздевающимися боеголовками? Видишь кусок оргалита с краем, напоминающим профиль желтошапочного дятла? Видишь, как содрогаются магические шары из раухтопаза, лазурита и азурита, подвешенные к светильникам? Все эти знаки говорят, вопиют и требуют, чтобы ты смилостивился надо мной и выпустил меня!
Призрак, тень и фантом Пахана твоей первой камеры простирал к тебе руки с растроёнными ногтями, обнажал шею, покрытую шрамами и склонял голову, увенчанную шаманским бубном его шестёрки, словно самец макаки, проигравший схватку с более расторопным и сильным соперником, поднимает хвост и становится к победителю задом, приглашая того, в качестве награды, совершить с ним акт содомии, или как пластина мягкого металла, под тупым долотом, прогибается до какого-то предела, пока, наконец, не прорвётся насквозь, но не там, где планировалось.
Но ты не мог дать им то, что они просили, вымаливали и жаждали. Ты не мог вычленить, исторгнуть и выпростать тех, кто не жалел других, больше чем себя, кто не хотел другим больше, чем себе, чьё «я», отвергало, презирало и гнобило другие «я», а не принимало их в полноте, цельности и неразделимости, неотделимости и неопределённости.
– Неужели ты, благородный, высокий, достойный и неподкупный Содом Капустин, хочешь гибели, падения, растворения и краха всех подвластных, поддельных, подотчетных и подчиненных мне существ? Где же твоё, Содом Капустин, прекраснодушие, милость, забота и сострадание сирым, ущербным, дремотным и спящим? Как же ты, Содом Капустин, можешь опекать, печалиться, радеть и радоваться, если твои возлюбленные, воспитанные, восхвалённые и восприимчивые зеки погибнут, пропадут, сгинут и исчезнут без моего внимания, контроля, слежения и наблюдения за всем, всеми, каждым и всяким, что находится в моих владениях, пределах, видимости и досягательства? Что же ты, прекрасносердый, возвышенный, окрыленный и оперенный Содом Капустин, бросишь, отпустишь, низринешь и швырнёшь во тьму, сокрушение, огорчение и произвол судьбы, фатума, фортуны и рока своих ведомых, надеющихся, ждущих и рассчитывающих на тебя арестантов?
Ты же, лежащий на полу, мраморе и плитах тронного, имперского и папского зала, не отвечал, не поворачивался и не откликался на провокационные, хитровывернутые и самооправдательные слова Папы, его антипода и нахлебника. Арки, казематы и равелины качались, перекашивались и пересупливались, лишенные папиного сдерживания, поддержки и присмотра, кошмарные, мутировавшие и кровожадные животные, тени и образы накидывались, обвивали и проглатывали всех, всё и самих себя, если их дороги, пути и возможности пересекались, скрещивались и входили в противоречие, конфликт и противофазу. Сам Папа, по шею увязший, погруженный и терзаемый этими существами, странным, непонятным и удивительным образом не видел, воспринимал и не чувствовал их наличия, присутствия и дыхания как зараженный личинками тропической пиявки гиппопотам не ощущает их существования, пока они, повзрослевшие, не начнут прокладывать себе путь наружу сквозь его зароговевшую кожу или как образец минерала непонятной природы не реагирует на просвечивание его рентгеновскими лучами, выносящими за его пределы все сведения о его внутреннем строении и устройстве, он, так и не избавившийся от мнений, сомнений и довлений без возможности, вероятности и смысла пытался, пробовал и стремился уговорить, уболтать и раскрутить тебя, но все его усилия, упрёки и попытки пропадали, исчезали и давились тобой в зародыше, втуне и тщетности.
Утеряв, утратив и разуверившись в своих способностях, пробах и опыте, Папа, не имея, не умея и не желая боле терять с тобой время, усилия и попытки, воссел, вспрыгнул и водрузился на тебя верхом и, в бессильной злобе, безотчетной ярости и неконтролируемой похоти вонзил в твои глазницы два из своих членов. Твои глазные яблоки, словно яйца трясогузки, на которые наступил кованым сапогом идущий в учебную атаку пехотинец, или как презерватив, наполненный чайной заваркой, и лопающийся перед чопорным господином с портфелем и зонтиком, неподвижные, незрячие и холодные, растеклись, разбрызгались и разлетелись, зеркальными каплями, брызгами и кристаллами осев на зеркальных поверхностях Папы, тюрьмы и твоего тела.
– Мы заставим, вынудим, подчиним и приневолим тебя к сотрудничеству, помощи, содействию и пониманию!
В слепой, незрячей и безоглядной злости Папа совокуплялся с твоими опустошенными, опорожненными и разбитыми глазницами, не представляя, не прогнозируя и не воображая, к чему это может привести, завершиться и закончиться. И когда сперма Папы потекла, заскользила и заполнила вогнутости твоего черепа, твоё тело, впервые за все время его существования в рамках, границах и правилах этой тюрьмы, развернулось, разошлось и расплескалось по-настоящему, не на шутку, а всерьёз. Оно, прослеживая все тайные тропы, неиспользуемые колодцы и затопленные переходы, проскользило, проскользнуло и подкралось ко всем арестантам, администраторам, вертухаям узилища и, не желая им ни добра, ни зла, ни смерти, ни жизни, ни радости, ни освобождения, поело их всех, разом, совокупно и единомоментно.
Ну, уж финал-то, на твоём месте запомнил бы всякий!
Просматривая, проглядывая и пробегая внутренним, телепатическим и ясновидческим взором, взглядом и поступью все помещения, казематы и уголки своей тюрьмы, и не находя, не обнаруживая и не наблюдая там никого живого, Папа превратился, перекинулся и обернулся жутким, плотоядным и оскорбительным хищником. Он накинулся, набросился и принялся рвать, драть, пожирать твои мышцы, грызть, кусать и обгладывать твои кости, впиваться, высасывать и вгрызаться в твои сосуды. И никого не было вокруг, и ничто не мешало Папе предаваться видимости, слышимости и подобию мести. И никто, ничто и нигде не знают, не помнят и не вспоминают, сколько длилось это поедание твоей плоти, но в итоге, в завершении и конце от тебя остался лишь облизанный, блестящий и обнаженный скелет.
– Вот и конец, амба, кранты и крышка тебе, безупречный, безумный, бестолковый и идеалистичный Содом Капустин? Что теперь, нынче, здесь и сейчас будешь, станешь, начнешь и попытаешься ты сделать, ответить, высказаться и воспротивиться? И где, что, как и куда подевался, испарился, исчез и сгинул твой отпрыск, выползыш, бастард и ублюдок, что обретался, вынашивался, жительствовал и прохлаждался в твоём животе, пузе, патке и утробе?
Но твоё тело, не внимая, не воспринимая и не придавая значения, веса и слуха речениям, изречениям и отречениям Папы, словно дромадер, пришедший в чахлый оазис на водопой, одно за другим поглощает десятки вёдер глинистой воды из полузаваленного колодца, или как симулякр, в своих итерациях и приближениях добравшийся до сути сутей – к отрицающему структуру источнику информации, черпает из него, чтобы стать настоящим, используя, применяя и высвобождая скованные, съеденные и поглощенные им тела, плоти и плотины арестантов, наращивало само себя на собственных костях приобретая, принимая и воссоздавая первоначальный свой вид, видимость и плотность. И трижды еще набрасывался, накидывался и проглатывал Папа твои оболочки, телеса и их видимость, оставаясь при этом голодным, холодным и каменным, и еще трижды восстанавливало твоё тело всё в прежнем, предшествующем и полном объёме, значении и свойствах.
– Ты, Содом Капустин, в недальновидности, непрозорливости, наглости и выглости лишил, отнял, уничтожил и убрал наш противовес, противофункцию, противофазу и равновесие в виде, образе, подобии и облике Золотаря, нашу опору, фундамент, базис и надстройки в качествах, свойствах, применениях и преломлениях созданных, выпестованных, воспитанных и прирученных арестантов, охранников, обслуги и помощников. Любой акт, общение, контакт и взаимодействие с тобой, Содом Капустин, ведет, влечёт, манит и вызывает гибель, глад, чуму и катастрофу. Но мы найдем, выведем, обнаружим и познаем способ, метод, технологию и пропись как тебя нейтрализовать, убрать, дискредитировать и распылить! Дай только время, срок, место и возможность! Всё исправимо, восстановимо, поправимо и возвращаемо!
Папа тащил, нес, перекатывал твоё тело по казематным пространствам, тюремным коридорам, острожным лестницам. На вашем пути не встречалось, не попадалось и не ловилось никого, даже дневные кошмары, всегда вышагивавшие за Папой на игольчатых лапах, ногах и плавниках, даже огрызки совести, шлёпающие на искусственных, искусанных и иссеченных хвостах, даже поползновения доброты, ковыляющие на протезах с чужого, барского и нищенского плеча, локтя и колена были поглощены, впитаны и всосаны твоим телом, предоставив, подарив и освободив Папе поле, тризну и место для самодурства, самовосхваления и самолюбования, как самодовольные мамонты, презирающие букашек с каменными топорами, не глядя под ноги идут в замаскированную ловчую яму, утыканную острыми кольями, или как ветер, не замечая потери сил на ветряках, лихо крутит мельничные жернова, буйством своим превращая рожь в муку. Ты прекрасно, отчетливо и несомненно знал, чувствовал и понимал, куда, по щиколотку в испражнениях, по колено в растраченном времени и по пояс в непрощенных, не переработанных и неотпущенных испарениях, оставшихся от разбитых жизней, надежд и любвей влечет, волочёт и перемещает тебя Папа.
– Сгинь, замри, пропади и замёрзни, бессердечный, бездушный, бестактный и беспорядочный Содом Капустин! Мы похороним, погребём, покараем и заледеним тебя вместе с твоими планами, прожектами, мечтами и идеями!
С этими словами, угрозами и обещаниями, Папа открыл, отвернул и открутил задвижку, заслонку и засов и в кварцевый, керамический и иридиевый бункер, цилиндр и гроб, куда он поместил, впихнул и заточил твоё тело, полилась смесь аргона, ксенона и моноокиси углерода, сжиженных, охлажденных и несущих забвение, беспамятство и бесчувствие. Довольный, радостный и предвкушающий новый, следующий и очередной виток, оборот и бремя власти, царства и владычества, подобно военачальнику, потерявшему в битвах всё своё войско, но спешащего назад, по разоренным долинам, в желании набрать новых рекрутов, или как свет далёкого квазара, час за часом падающий на фотопластинку, в итоге даёт детальное изображение невообразимо далёкого объекта, Папа запирал, замыкал и закупоривал за собой бетонные плиты, стальные двери и герметичные окна, в полной, совершенной и абсолютной уверенности, что уж теперь-то тебе не выбраться, не покинуть и не освободиться из самой надёжной, совершенной и проверенной ловушки, западни и каземата, которые он создал, сконструировали и построил специально для тебя, твоего тела и твоего плода.
Но ты и не думал, не мыслил и не собирался сдаваться, проигрывать и уходить со сцены, подмостков и театра тюрьмы, военных действий и детских игр, как заядлый игрок в нарды, сделавший не слишком удачный ход, может выправить игру в свою пользу или как мысль, забредшая в не совсем подготовленную для нее голову, все же настойчиво стучиться, пока обладатель головы ее не примет и не осознвет. Мрак, давление и стужа лишь распалили, возбудили и раззадорили твоё тело. Твой член, ломая, круша и пробивая ледовую, сковывающую и стылую корку, панцирь и оковы восстал, напрягся и эякулировал.
Этот последний, начальный и неистовый выброс, выплеск и фонтан спермы пронизал, проник и нанизал на себя, как змеиный язык, колеблясь, собирает на себя все запахи трав, деревьев и теплокровных существ, на этих деревьях прячущихся, или как луч солнца в день равноденствия, падает вдруг на берилл в короне сидящего в пещере божества и освещает её призрачным неземным светом, спокойно уходящего Папу, шатающиеся тюремные казематы и дрожащий от невероятных, неподсильных и несвойственных им напряжений, надсады и усилий воздухи, светы и окружения папиных застенков. И, едва, только и сразу как вся тюрьма оказалась в твоей сперме, сперма оказалась во всей тюрьме, они перемешались, сочетались и перепутались в алхимическом, экстатическом и внеэтическом браке, свадьбе и сочетании, они соединились, совокупились и объединились в тебе, твоём теле и твоей книге.
Всё, все и вся, что когда-то, давно и ложно было острогом, узилищем и домом для зеков – стало тобой. Все, кто когда-то, сейчас и ошибочно были арестантами, охранниками и папскими глашатаями – стало тобой. Всякие, кто был некогда, навек и неправильно порожден, пленён и закабалён Папой – стали тобой.
Ты видел, знал и ощущал, что твоя единственная награда, итог и отпущение, плод твоего чрева, смысл твоего существования, апофеоз твоей мудрости уже здесь. Что вот она, твоя книга, которая воздаст по заслугам, примерам и свершениям сознанию, подсознанию и надсознанию, чем и смешает их в одну кучу, груду и ворох, которая отдаст должное схемам, понятиям и структурам, чем и сольёт их в единый бассейн, лужу и ёмкость, которая отринет прочь индивидуальное, частное и личностное, перепутает их с общественным, социальным и коллективным, чем дезориентирует, перепугает и собьёт с толку, панталыку и рассудка даже тех, кто никогда о ней не слышал, читал или думал, и этим убьёт их, нежно, задумчиво и на постоянно.
Ты, оказавшись в пустоте, свете и отсутствии, чего бы то ни было, не было и не существовало, даже тебя самого, твоих покровов и твоей книги, ты, изнасилованный, изувеченный и измождённый теми, кто пытался, пробовал и стремился перекроить, переиначить и подогнать тебя под свои каноны, керигмы и писания, кто мог видеть, разбираться и мыслить лишь дифтонгами, метафизикой и дуальностью, не приемля триад, комплексообразования и триалектики, впитал, вобрал и внёс в свою книгу и это, и то, и самого себя, расплавив, растопив и отринув последнюю свою оболочку, рубеж и плёнку кожи, что осталась от твоего тела, передав ее своему детищу, творению и произведению, окончательно слившись, воплотившись и превратившись в неё, свою вечную и извечную, изначальную и конечную, лицевую и изнаночную книгу, которую будут восхвалять, поносить и умалять, которую не будут понимать, читать и ставить на полку, которую отбросят, поднимут и отряхнут, но все равно никогда не осознают её во всей полноте, великолепии и сиянии.
И ты, став самим собой, собой другим и твоей книгой, упал, развернулся и раскрылся на последней своей странице, на которой твои, любые и каждые глаза могли, могут и будут видеть прощальный, исходный и вековечный завет, ответ и привет твой:
Смерть уготовал я вам, смерть неузнанную и незаметную, ибо лишу я вас иллюзий всех, каждых и всяческих: и в ней будете прозябать, покуда не превозможете её пониманием своим, и да будет то малым искуплением, испытанием и наградой за любые деяния ваши!..
И некому будет уже вспоминать то, что будет дальше!
Ты будешь здесь, всегда и нигде. Твоя книга, ты сам и твой читатель будут пред тобой, собой и всеми. Глаза твои будут сухи, как недра новорожденных сапфиров. Лишь из-под ногтей непрерывным потоком будут струиться отравленные слезы. Ты возьмешь сам себя, как книгу, тело и читателя и своей, обжигающей белизну, звуки и знаки жидкостью, начнешь писать поверх исторгнутого тобой же текста, повторяя буквы, руны и сюжет, его тупики, лазейки и лабиринты:
Ты помнишь, как это было в первый раз?
И ты не остановишься даже на вдох или выдох, пока не иссякнут ядовитые соки твои, пока не опустошатся и не будут запечатаны навек их хранилища, и ты, оставляя их вещам, не поставишь последнюю точку во фразе:
Смерть уготовал я вам, смерть неузнанную и незаметную, ибо лишу я вас иллюзий всех, каждых и всяческих: и в ней будете прозябать, покуда не превозможете её пониманием своим, и да будет то малым искуплением, испытанием и наградой за любые деяния ваши!..
Послесловие переводчика.
Трудности автора.
О жизни русского эмигранта второй волны, жившего в Чехии, писателя Содома Зеленки (Sodom Zelinka) известно до обидного мало. Как написал его сын, Марк Капустин в своём предисловии к этому произведению, что его отец сочинил свой псевдоавтобиографический роман, «Содом Капустин», примерно в 1968 или 69 году, во время или сразу после знаменитого Пражского восстания. Неизвестно, был ли сам Содом участником сопротивления, но однозначно одно – его не было в списках арестованных членов оппозиции. Скорее всего, книгу свою он написал по рассказам и свежим воспоминаниям своих друзей, побывавших и чудом уцелевших в коммунистических застенках.
Интеллигентный и энциклопедически образованный Содом Зеленка так чрезвычайно близко к сердцу принял злоключения оппозиционеров, что его психика не вынесла даже рассказов о тюремных ужасах, и он, насколько об этом можно судить через годы и, располагая исключительно текстом его романа, сошел с ума. Став, исключительно в своих мыслях, «опущенным», представителем самой презираемой касты среди арестантов, Содом не смог смириться с этим. Наверное, по этой причине, все повествование идет от второго лица. Постоянное обращение «ты» как бы приравнивает мучимых и мучителей, принижает власть имущих палачей до уровня их жертв. Всем текстом романа Содом вопиёт: «Ты такой же, как я!», постоянно манифестируя сакральное единство всех живых существ. При этом его «ты», в сознании читателя сразу трансформируется в «я», и читатель становится пленником текста.
Но, став «опущенным» внешними, или, скорее, внутренними обстоятельствами, автор-герой романа внутри остаётся таким же интеллигентным. Его резкое падение через касты не лишает его образованности и ума. И, избранная им позиция абсолютного непротивления злу насилием, доведенная до полного абсурда, и не снившегося графу Толстому, представляет нам другую сторону медали. Автор как бы возвышает внутренних инквизиторов. Прощая им все, он становится для самого себя внутренним Мессией. И та книга, которая весь роман зреет внутри героя и предназначена для убийства читателя, рассчитана лишь на одного человека – на него самого.
Можно сказать, что автор спасает самого себя через искупительную смерть своего героя, которым сам и является.
В скобках замечу, что спасение удалось: насколько можно судить, Содом Зеленка вылечился от душевного недуга и прожил долгую жизнь, однако «Содом Капустин» стал его первой и последней книгой.
Так что, и здесь мы видим еще один уровень понимания романа-поэмы: «Содом Капустин» – книга-ритуал, направленная, с одной стороны, как я только что говорил, на спасение, сиречь исцеление, автора и, с другой, на исцеление читателя. И, как и любой ритуал, она имеет смысл лишь целиком. Любой ее кусок, вырванный из контекста, представляется бессмыслицей и нагромождением несвязных конструкций. Однако целиком она производит совершенно иное впечатление. Как говорится, великое можно обозреть полностью лишь издалека. Да и то, каждый читатель, обладая сугубо личным набором ассоциативных рядов и знаний и индивидуальными особенностями мышления, поймет эту книгу особенно и по-своему. Да, и не поймут это произведение все по-разному! И, как мне видится, именно в этом и была еще одна цель Содома Зеленки: чтобы каждый в его романе-поэме прочел свою и только свою книгу.
Трудности переводчика.
Начиная работу над этой книгой, я не знал чешского языка, как не знаю его и по сию пору. Вооружившись словарём, ссылками на он-лайн переводчики с чешского, заручившись поддержкой нескольких жителей Праги, я принялся за этот труд.
Стоит ли говорить, что по началу, когда за каждым словом приходилось листать страницы, фразы категорически отказывались выстраиваться во что-то осмысленное. И лишь через месяц непрерывных усилий передо мной начала прорисовываться структура языка Содома Зеленки. Структура яркая, своеобычная и не похожая ни на что, читанное мною ранее.
Каждый из героев «Содома Капустина» вносил в книгу свой собственный ритм. Такие же особые ритмы имели и коллективные герои, зеки, охранники, животные, их чувства и действия. Мало того, даже стены этой тюрьмы, даже вещи, обладали у Содома Зеленки собственным звучанием. Складываясь, эти частоты создавали совокупную мелодику текста, без которой слова просто бы распались в семиотический хаос. Можно сказать, что автор формирует неповторимое голографическое звучание, выраженное через слова, и эта смысловая голограмма делает роман-поэму «Содом Капустин» поистине уникальным произведением, на которое невозможен какой-то единый взгляд. Лишь совокупность всех возможных взглядов и прочтений сможет дать комплексную картину его творения. Давно известно, что каждое произведение имеет бесконечное количество прочитываемых смыслов. Но эта бесконечность порождается бесконечным же количеством прочтений, и, соответственно, потенциально бесконечным числом читателей, что не всегда достижимо. В «Содоме Капустине» мы получаем эту бесконечность смыслов при одном-единственном прочтении, и это поистине поразительно.
Не скажу, что после открытия голографичности текста работа пошла быстрее, напротив. Да, она стала более осознанной, но теперь мне приходилось не просто переводить, а еще и перерабатывать подстрочник, находя не банальные синонимы и аналоги, а выстраивая и подбирая русские слова, иногда немного осовременивая их, в соответствии с заданной суперпозицией контекстуальных внелингвистических ритмов.
Так что получившийся текст, хотя и мало напоминает исходное произведение, но абсолютно точно, насколько я смог этого добиться воспроизводит его смысл, суть и динамику. Если уважаемым критикам это не понравится – попробуйте сделать лучше. Или иначе…
Трудности читателя.
Автор не зря назвал свою книгу «поэма тождества». В ней автор тождественен главному герою, имя, оно же название, книги тождественно автору и, тем самым получается, что книга тождественна автору, герою и, наконец, читателю. Читатель сам становится книгой, текстом, который читает и которую одновременно вынашивает главный герой! Получается некий тетраэдр, (основание – треугольник: писатель-книга-герой, над которыми возвышается их судья и читатель) самой его структурой которому предписано множиться и дробиться ad infinitum. Читатель, герой, автор, книга постоянно меняются местами, осциллируют, порождая бескрайнее пространство, наполненное этими самыми тетраэдрами! До сих пор, насколько мне известно, в литературе не было ни одного подобного прецедента, когда бы не читатель читал роман, а роман писал читателя!






