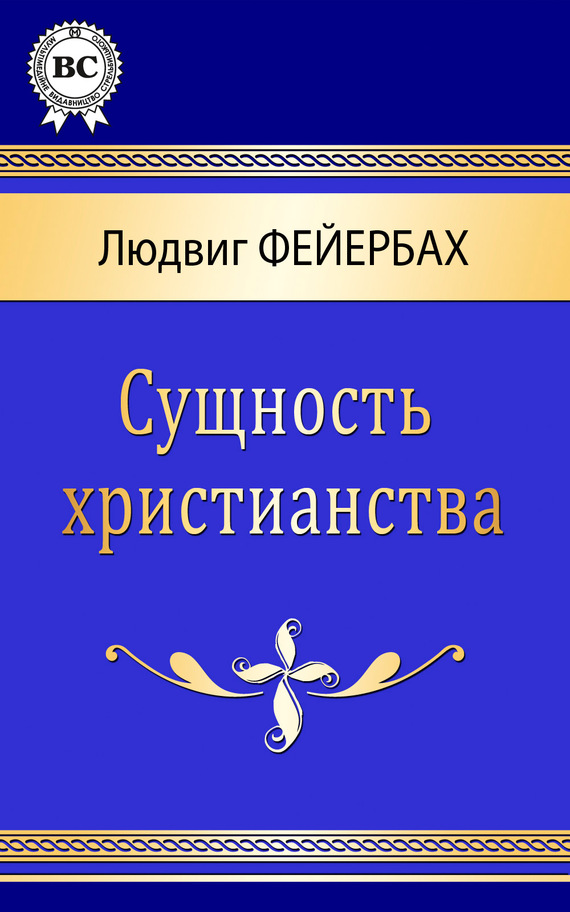Приключения Эмиля из Лённеберги Линдгрен Астрид
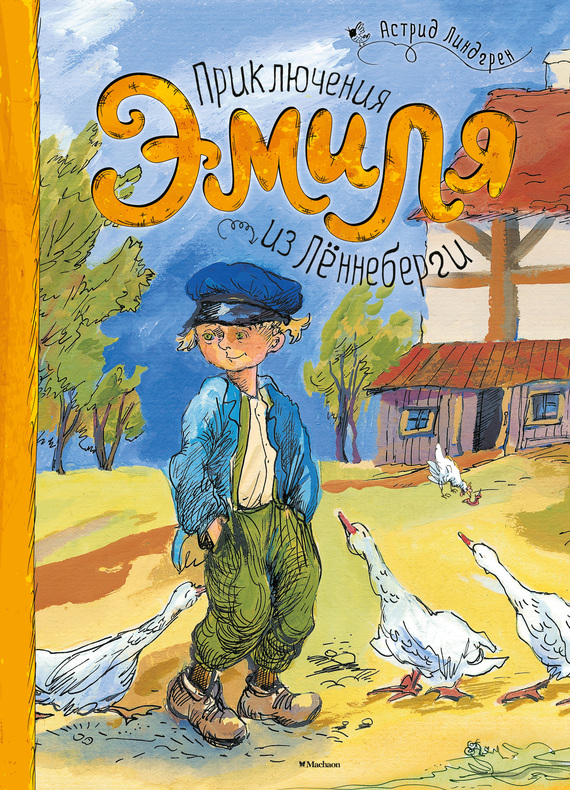
– Лина, пойди позови Эмиля, он, наверно, играет у хлева со Свинушком, – сказала мама.
Лина долго не возвращалась, а когда вернулась, то в кухню не вошла, а застыла на пороге. Она явно хотела привлечь к себе внимание.
– Что с тобой? Почему ты стоишь как вкопанная? Что-нибудь случилось? – спросила мама Эмиля.
Лина усмехнулась:
– Да уж и не знаю, что сказать… Все куры подохли! Петух пьяный. И Свинушок тоже пьяный. И Эмиль…
– Что с Эмилем? – перебила её мама.
– Эмиль… – сказала Лина и глубоко вздохнула, – Эмиль тоже пьяный.
Что это был за вечер в Катхульте! Ни в сказке сказать, ни пером описать!
Папа Эмиля ругался и кричал, мама Эмиля плакала, и сестрёнка Ида плакала, и Лина плакала; Крёсе-Майя ахала и охала, а потом вдруг так заторопилась, что отказалась даже от ужина. Ей не терпелось попасть поскорее в Лённебергу, чтобы рассказать каждому встречному-поперечному: «Ох, ох, ох! Бедные, бедные Свенсоны из Катхульта. Их сын Эмиль, негодник этакий, напился до полусмерти и зарезал всех кур! Ох, ох, ох!»
Только у Альфреда сохранилась крупица здравого смысла. Он выбежал из кухни вместе со всеми и убедился, что Эмиль и в самом деле валяется в траве рядом со Свинушком и петухом. Да, всё ясно, Лина сказала правду. Он лежал, прислонившись к Свинушку, глаза у него закатились, и было видно, что ему очень плохо. От этого зрелища мама Эмиля зарыдала пуще прежнего и хотела отнести Эмиля в комнату, но Альфред, знавший, что делать в таких случаях, остановил её:
– Его лучше оставить на свежем воздухе!
И весь вечер Альфред просидел с Эмилем на крылечке перед своей каморкой. Он поддерживал его, когда у него кружилась голова и его мутило, утешал, когда он плакал. Да, представь себе, Эмиль то и дело просыпался и плакал – так ему было худо. Он слышал, как все говорили, что он пьян. Но он не понимал, как это могло случиться. Ведь Эмиль не знал, что, когда вишни долго бродят в чане, получается вино – оно называется вишнёвка, – а сами вишни пропитываются этим вином, и от них тоже пьянеешь. Потому мама и велела закопать их на помойке.
Время шло. Солнце закатилось, наступил вечер, над Катхультом взошла луна, но Альфред всё сидел на крылечке, а Эмиль лежал, как мешок, у него на коленях.
– Ну, как ты? – спросил Альфред, когда увидел, что Эмиль чуть приоткрыл глаза.
– Пока жив, – с трудом проговорил Эмиль и, передохнув, добавил: – Если я умру, возьми себе Лукаса.
– Ты не умрёшь, – успокоил его Альфред.
И в самом деле Эмиль не умер, и Свинушок не умер, и петух не умер.
А удивительнее всего то, что и куры не умерли. В самом разгаре этих событий мама Эмиля спохватилась, что вот-вот прогорит плита, и послала сестрёнку Иду за охапкой дров. Когда Ида, глотая слёзы, вошла в сарай и увидела лежащую на чурбаке мёртвую хромую Лотту, она разревелась в голос.
– Бедная Лотта, – прошептала сестрёнка Ида. Она протянула руку и погладила Лотту.
И представь себе, Лотта ожила от этого прикосновения! Она раскрыла глаза, сердито закудахтала, взмахнула крыльями, слетела с чурбака и, хромая, скрылась за дверью. Ида застыла от изумления.
Она не знала, что и подумать: может, она волшебница, может, как в сказке, стоит ей коснуться рукой мёртвого, и он оживёт?
Все так волновались за Эмиля, что никто и не взглянул на кур, недвижимо лежавших в траве. Но Ида похлопала каждую из них рукой, и представь себе, все они, одна за другой, оживали прямо на глазах. Да-да, они задвигались, замахали крыльями, потому что вовсе не умерли, а просто потеряли сознание от страха, когда за ними погнался Свинушок, – так с курами иногда бывает. А Ида с гордым видом вбежала в кухню, где рыдала её мама.
– Мама, мама, я воскресила всех кур! – выпалила она прямо с порога.
Свинушок, петух и Эмиль были на следующее утро здоровы. Петух, правда, ещё целых три дня не мог как следует кукарекать. Он то и дело пытался крикнуть во всё горло «ку-ка-реку», но всякий раз у него вырывался такой странный звук, что он чувствовал себя очень неловко. К тому же куры глядели на него с явным неодобрением, и тогда он смущённо убегал в кусты.
А вот Свинушок не стыдился. Зато Эмиль не знал, куда деваться от стыда, а тут ещё Лина его всё время дразнила:
– Ты не только напился, как свинья, но и вместе со свиньёй. Ну и дела! У нас на хуторе двое пьяниц, ты да Свинушок. Теперь тебя все будут звать пьяницей.
– Перестань, – сказал Альфред и так строго взглянул на Лину, что она умолкла.
Но на этом история не кончилась. После обеда к воротам Катхульта подошли три мрачных господина, одетых во всё чёрное. Оказалось, они из Лённебергского общества трезвости. Но ты, наверное, даже и не знаешь, что это такое – общество трезвости. Надо тебе сказать, что в те давние времена такие общества были не только в Лённеберге, но и повсюду в Смоланде. Их задача заключалась в борьбе с пьянством, потому что пьянство – страшное зло, которое делало, да и сейчас ещё делает, несчастными многих людей.
Крёсе-Майя столько всем наплела про пьянство Эмиля, что этот слух дошёл и до общества трезвости. И вот три главных трезвенника пришли на хутор, чтобы поговорить с родителями Эмиля. Они объявили, что Эмиль должен явиться на заседание общества, там его перевоспитают на глазах у всех, и он тоже станет трезвенником. Когда мама Эмиля это услышала, она очень рассердилась и объяснила, как было дело. Но рассказ о пьяных вишнях не успокоил мрачных посетителей, они только сокрушённо качали головами, а один из них сказал:
– Вишни вишнями, а что у Эмиля на уме, всякому ясно! Хороший нагоняй ему не помешает.
Папу Эмиля это убедило. Предстоящее посещение общества трезвости его не радовало: не очень-то приятно стоять и слушать, как ругают твоего сына. Кому охота срамиться перед людьми? Но может быть, думал папа Эмиля, это пойдёт Эмилю на пользу и он навсегда станет трезвенником.
– Хорошо, я сам с ним приду, – хмуро сказал папа.
– Нет уж, с ним приду я, – решительно заявила мама. – Я, лично я поставила бродить эти злосчастные вишни, и нечего тебе, Антон, из-за этого страдать. Если уж кому-то у нас в семье надо выслушать проповедь о вреде пьянства, то разве только мне. Но раз вы считаете, что необходимо взять с собой и Эмиля, я готова это сделать.
Когда настал вечер, на Эмиля надели воскресный костюм. Он нахлобучил свою кепочку и двинулся в путь, он был не против, чтобы его обратили в трезвенника: интересно хоть часок провести среди незнакомых людей.
Так думал и Свинушок. Увидев, как Эмиль и мама зашагали по дороге, он увязался за ними. Но Эмиль крикнул ему: «Лежать!» – и Свинушок тут же лёг прямо посреди дороги и замер, хотя долго ещё глядел вслед Эмилю.
Уж поверь, в тот вечер зал общества трезвости был битком набит. Все жители Лённеберги хотели присутствовать при обращении Эмиля в трезвенника. Хор общества заблаговременно выстроился на сцене, и как только Эмиль показался в дверях, кто-то затянул, и все подхватили:
- Отрок, взявший стакан
- с ядовитою влагой…
– Никакого стакана не было, – зло сказала мама, но, кроме Эмиля, её никто не услышал.
Когда с пением было покончено, поднялся какой-то человек в чёрном и долго что-то говорил Эмилю с очень серьёзным видом, а под конец спросил, готов ли он дать обет никогда в жизни не брать в рот спиртного.
– Это я могу, – сказал Эмиль.
Но в этот момент за дверью раздался негромкий визг, и в зал вбежал Свинушок. Он, оказывается, тихонько следовал за своим хозяином, а теперь, увидев Эмиля, который стоял у рампы, очень обрадовался и вприпрыжку бросился к нему. Тут в зале поднялось невесть что. Никогда ещё общество трезвости не посещала свинья, и членам общества это почему-то пришлось не по вкусу. Они, видно, считали, что свинье здесь делать нечего. Но Эмиль сказал:
– Свинушок тоже должен дать обет не брать в рот спиртного. Ведь он съел больше пьяных вишен, чем я.
Свинушок был явно возбуждён и носился по залу как угорелый, но Эмиль приказал ему: «Свинушок, сидеть!» – и, к великому изумлению всех присутствующих, поросёнок послушно сел по-собачьи. А надо сказать, что когда он так вот сидел, то выглядел очень мило и трогательно. Эмиль вынул из кармана горсть сухих вишен и дал Свинушку. Люди в зале глазам своим не поверили, когда увидели, как поросёнок поднял вверх правое копытце и поблагодарил за гостинец.
Все так заинтересовались Свинушком, что чуть не забыли про обет, который должен был дать Эмиль.
– Ну, так как же, дать мне вам обещание не пить вина? – напомнил Эмиль собравшимся про цель своего прихода. – Я готов.
И тогда Эмиль поклялся, повторяя слово в слово за председательствующим: «Я никогда не буду брать в рот крепких напитков и приму все необходимые меры, чтобы окружающие меня люди тоже были трезвенниками». Эта клятва означала, что за всю свою жизнь Эмиль не отведает ни капли вина и обязуется следить, чтобы другие тоже вина не пили.
– И ты, Свинушок, тоже поклялся, – сказал Эмиль.
А потом все люди в Лённеберге говорили, что никогда ещё не видали да и не слыхали, чтобы кто-нибудь давал клятву вместе со свиньёй.
– Но уж этот мальчишка с хутора Катхульт всегда что-нибудь да выкинет!
Когда Эмиль вернулся домой и вместе со Свинушком, который следовал за ним по пятам, пошёл на кухню, он застал там папу. Папа сидел у стола, и в свете керосиновой лампы Эмиль увидел у него на глазах слёзы. За всю свою жизнь Эмиль ни разу не видел, чтобы папа плакал. И это ему совсем не понравилось. Но то, что папа сказал, ему очень понравилось.
– Послушай, Эмиль, – начал он и, схватив сына за руки, внимательно посмотрел ему в глаза. – Раз ты поклялся всю свою жизнь не брать в рот спиртного, я тебе подарю этого поросёночка… Да и трудно себе представить, чтобы из него получилось хорошее жаркое после всех его прыжков и этого кутежа.
Эмиль так обрадовался, что подпрыгнул чуть не до потолка. Он тут же снова поклялся всю жизнь быть трезвенником. И надо сказать, эту клятву он сдержал. Такого трезвого председателя сельской управы, как Эмиль, никогда не было прежде в Лённеберге да и во всём Смоланде. Так что, может быть, совсем и не плохо, что как-то летним днём, когда он был ещё маленьким, он до отвала наелся пьяных вишен.
На следующее утро Эмиль проснулся поздно и услышал, что Альфред и Лина уже пьют на кухне кофе и разговаривают. Он тут же вскочил с постели – ему не терпелось рассказать Альфреду, что папа подарил ему Свинушка.
– Скотовладелец Эмиль Свенсон, – сказал Альфред и засмеялся.
Лина тоже хотела посмеяться над Эмилем, но ей ничего не пришло в голову, а долго думать было некогда: ей и Альфреду уже пора было отправляться вместе с папой Эмиля и Крёсе-Майей убирать рожь.
Одна мама Эмиля осталась дома с детьми. Впрочем, она была этому только рада, потому что в тот день должна была приехать фру Петрель за вишнёвкой, а мама предпочитала, чтобы папы при этом не было.
«Хорошо, что этих бутылок больше не будет в доме», – думала мама, возясь на кухне. Фру Петрель надо было ожидать с минуты на минуту. И в самом деле мама услышала шум подъезжающей коляски. Но она тут же услышала и другой, весьма странный шум, который доносился из погреба. Словно там кто-то бил стекло.
Она кинулась в погреб и увидела Эмиля. Он сидел с кочергой в руке и методично, одну за другой, разбивал бутылки с вишнёвкой. Стекло звенело, вишнёвка текла рекой.
– Боже мой! Что ты делаешь, Эмиль? – закричала мама.
Эмиль на мгновение перестал бить бутылки, и мама расслышала, как он сказал:
– Я выполняю свою клятву – борюсь за трезвость. Решил начать с фру Петрель.
Редкие дни из жизни Эмиля,
отмеченные не только мелкими шалостями, но и добрыми делами
Печальная история с вишнёвкой – одна из тех, о которых долго не могли забыть в Лённеберге. Все, за исключением мамы Эмиля, которой хотелось забыть о ней как можно скорее. В тот злополучный день, 10 августа, она ни слова не написала в синей тетради. Всё это было слишком ужасно, и даже бумаге она не решалась довериться. Но 11 августа она всё же сделала небольшую запись, и тот, кто её прочёл бы, не зная истории с вишнёвкой, не мог бы не содрогнуться от ужаса.
«Да поможет мне Бог вырастить этого мальчика! Сегодня он был хоть трезвый». Да, так там было написано. И ни слова больше. Но что можно подумать, читая такую запись? Что Эмиль редко бывает трезвым? Скорее всего, маме Эмиля хотелось рассказать всё, как было, да, видимо, она, как я уже говорила, не решалась этого сделать.
15 августа тоже есть небольшая запись:
«Ночью Эмиль с Альфредом ходили ловить раков и принесли 60 штук. Но потом, боже мой, что было потом…»
Шестьдесят штук! Ты когда-нибудь слыхал, чтобы враз поймали столько раков? Шестьдесят штук – это огромная куча. Вот посчитай-ка до шестидесяти и сам убедишься, как это много. Эмиль был счастлив! Если тебе довелось когда-нибудь ловить раков в маленьком озере тёмной августовской ночью, то ты и сам знаешь, какое это увлекательное занятие и каким удивительным кажется всё вокруг! Лес обступает со всех сторон, а тьма такая, хоть глаз выколи, тишину нарушает лишь плеск воды, когда шлёпаешь босыми ногами вдоль берега и ты, конечно, промок до нитки. Но если у тебя есть факел, такой, как у Эмиля с Альфредом, то в его свете ты увидишь раков, больших чёрных раков, – они ползают между камнями по дну озера. И надо только протянуть руку, опустить её в воду, аккуратно схватить пальцами за спинку и одного за другим покидать в мешок.
Когда Эмиль и Альфред в предрассветных сумерках шли домой, у них было столько раков, что они с трудом тащили мешок, но Эмиль шёл бодро – то он что-то насвистывал, то напевал.
«Вот папа-то удивится!» – думал он.
Эмилю очень хотелось выглядеть в глазах папы дельным и умелым, но это ему редко удавалось. Надо, решил он, чтобы папа увидел всё это огромное скопище раков сразу же, как только проснётся. Поэтому он вывалил раков в большой медный чан, в котором Эмиль и сестрёнка Ида мылись в субботу вечером, и поставил этот чан в спальне возле папиной кровати.
«Вот радость-то будет, когда он, только открыв глаза, сразу увидит всех моих раков», – подумал Эмиль, лёг в постель в распрекрасном настроении и тут же заснул.
В комнате стояла тишина, она прерывалась только похрапыванием папы Эмиля и тихим шуршанием раков, копошившихся в баке.
Папа Эмиля всегда вставал очень рано. Так же рано встал он и в то утро. Едва лишь стенные часы пробили пять ударов, он приподнялся и спустил ноги с кровати. В этой позе он посидел с минуту, чтобы окончательно проснуться. Он потянулся, зевнул, почесал затылок и пошевелил пальцами ног. Как-то раз, как ты знаешь, он угодил большим пальцем левой ноги в мышеловку, поставленную Эмилем, и с тех пор этот палец стал у него затекать – им надо было по утрам обязательно двигать. Так вот, значит, папа сидел на кровати и мирно шевелил пальцем. И вдруг он издал такой ужасающий крик, что мама Эмиля и сестрёнка Ида мигом проснулись. Они подумали, что папу кто-то хочет зарезать, не иначе. А завопил он, оказывается, просто оттого, что рак ущипнул его за тот самый больной палец, который угодил тогда в мышеловку. Если рак хватал тебя когда-нибудь за больной палец, то ты знаешь, что это немногим лучше, чем угодить пальцем в мышеловку. Как тут не закричать благим матом! Раки – большие хитрецы, хватка у них мёртвая, и добычу они сжимают своими клещами всё сильнее и сильнее, и нечего удивляться, что папа Эмиля завопил не своим голосом, когда ему в палец вцепился рак! А мама Эмиля и сестрёнка Ида тоже завопили, потому что, открыв глаза, они увидели раков, которые ползали по полу, – целое полчище раков! Уж тут было от чего потерять голову!
– Эмиль! – неестественно громко позвал папа Эмиля, набрав полные лёгкие воздуха. Впрочем, он позвал сына не только потому, что был очень зол, – ему нужны были клещи, чтобы отодрать рака.
Но Эмиль только что заснул, и разбудить его было нелегко. Папе Эмиля пришлось самому проскакать на одной ноге к ящику с инструментами, стоящему в кухонном шкафу, и достать оттуда клещи. Когда сестрёнка Ида увидела, как её папа прыгает на одной ноге, а на пальце другой у него висит рак, она засмеялась, решив, что это новая увлекательная игра. Она даже пожалела Эмиля – спит как сурок, когда так весело!
– Проснись, Эмиль! – закричала она. – Ну, давай проснись, ты только погляди, как смешно! Ой, как смешно!
Но она тут же умолкла, потому что папа бросил на неё мрачный взгляд, и она поняла, что ему всё это вовсе не кажется таким уж смешным.
А мама Эмиля тем временем ползала по полу и ловила раков. Только через два часа ей удалось наконец всех переловить. И когда Эмиль проснулся – это было уже перед самым обедом, – до него сразу донёсся из кухни божественный запах только что сваренных раков. Исполненный гордости, он тут же вскочил с постели. И долго не мог со сна понять, почему мама его потащила в сарай.
Да, время шло, а Эмиль, казалось, не менялся. Он по-прежнему почти каждый день сидел в сарае. По-прежнему не расставался со своими любимыми вещами. Вот, например, с ружариком. Фру Петрель хотела купить у Эмиля его деревянное ружьё, чтобы подарить одному знакомому мальчику, но из этого ничего не вышло. Хотя Эмиль и считал, что уже велик играть с ружьём, продать его он не захотел. Он повесил ружьё на стене в сарае и написал на нём красным карандашом: «Память об Альфреде». Альфред рассмеялся, когда это увидел, но всё же было видно, что он растроган.
С кепариком Эмиль тоже не расставался. Без него не выходил из дому. И в тот день, когда впервые пошёл в школу, он тоже нахлобучил свою кепочку. Да, настало время Эмилю стать школьником. Все в Лённеберге с интересом ждали этого дня.
– Он всю школу перевернёт вверх ногами и подожжёт учительницу, – говорила Лина.
Но мама Эмиля всякий раз строго смотрела на неё и заявляла:
– Эмиль прекрасный мальчик. Он, правда, пытался подпалить перо на шляпе пасторши, что было, то было, я не отрицаю, но за это он уже отсидел в сарае, и нечего тебе вечно язвить по этому поводу.
Из-за жены пастора Эмиль сидел в сарае 17 августа. В тот день она приехала на хутор, чтобы взять у мамы Эмиля узор для вышивания. Мама пригласила её выпить чашечку кофе в сиреневой беседке и там показала ей обещанный узор. Жена пастора была близорука и, чтобы получше разглядеть рисунок, вынула из сумочки лупу. Эмиль никогда ещё не видел лупы, и она его очень заинтересовала.
«Возьми, дружок, лупу, можешь с ней пока поиграть», – любезно предложила ему пасторша. Она то ли не знала, то ли забыла, с кем имеет дело.
Одним словом, дать Эмилю в руки лупу было чистым безумием. Он вскоре обнаружил, что с помощью лупы, если её держать так, чтобы в неё попадало солнце, можно зажечь огонь.
Сделав это открытие, Эмиль окинул взглядом местность, чтобы найти легко воспламеняющийся предмет и подпалить его. Пасторша пила кофе и болтала без умолку с его мамой, но голова её в шляпе со страусовыми перьями была величественна и неподвижна. И тут Эмилю пришло на ум, что перья эти, судя по их виду, должны легко воспламеняться. Эмиль решил немедленно проверить это предположение. Не то чтобы он был убеждён, что его опыт удастся и шляпа загорится, нет, но считал, что попробовать никогда не мешает. А как же иначе обретаются знания на этом свете?
Результаты его любознательности нашли своё отражение в синей тетради.
«Да, верно, перья на шляпе задымились и даже обуглились, но огонь так и не вспыхнул, чего не было, того не было, зачем зря говорить. А я-то надеялась, что Эмиль станет лучше после клятвы в обществе трезвости. Но нет! Нашему трезвеннику пришлось просидеть весь остаток дня в сарае!»
25 августа Эмиль пошёл в школу. Жители Лённеберги полагали, конечно, что Эмиль там опозорится, но они попали пальцем в небо. Учительница быстро сообразила, что на скамейке у окна сидит будущий председатель сельской управы, потому что – слушай и удивляйся! – Эмиль оказался первым в классе! Читать он уже умел да и писать немножко тоже, а считать научился всех быстрее. Конечно, не обошлось и без шалостей, но учительница на него не жаловалась. Был, правда, случай, когда он вдруг поцеловал её, об этом потом много болтали в Лённеберге.
Произошло это вот как. Эмиль стоял у доски и решал очень трудный пример. Когда он с ним успешно справился, учительница сказала:
– Молодец, Эмиль, можешь сесть на своё место!
Так он и сделал, но перед этим подошёл к учительнице, сидевшей за кафедрой, и поцеловал её. С ней никогда ещё ничего подобного в классе не случалось, она залилась краской и спросила, запинаясь:
– Почему… почему ты это сделал, Эмиль?
– Из любезности, – ответил Эмиль, и это стало с тех пор как бы поговоркой в Лённеберге.
«Из любезности, как сказал мальчишка с хутора Катхульт, целуя свою учительницу» – так говорили лённебержцы, и насколько мне известно, и сейчас ещё говорят.
Впрочем, из любезности Эмиль делал и многое другое. Во время большой перемены он ходил, например, в приют для престарелых и читал там вслух «Смоландскую газету» Стулле Йоке и другим старикам. Так что не думай, пожалуйста, что Эмиль не способен на хорошие поступки!
В приюте все ждали прихода Эмиля. Для Стулле Йоке, Йохана Этаре, Калле Спадера и для всех остальных стариков, уж не помню, как их там звали, это были лучшие минуты дня. Стулле Йоке, быть может, не так уж и много понимал из того, что Эмиль читал, но, когда он слышал, например, что в ближайший понедельник в городской гостинице в Ексо будет дан большой бал, старик многозначительно потирал руки и говорил: «Да, да, да, да, так оно и будет!»
Но главным здесь было то, что Стулле Йоке и все остальные жители приюта очень любили сидеть вокруг Эмиля и слушать, как он читает им газету. Только одна старуха этого не выносила. Как только появлялся Эмиль, её словно ветром сдувало. Ты, конечно, догадался, кто это. Да, Командирша никак не могла забыть, как под Рождество она угодила в волчью яму.
Может, ты испугался, что у Эмиля-школьника уже не будет времени проказничать? Могу тебя успокоить! Дело в том, что, когда Эмиль был маленьким, в школу ходили только через день. Везло же людям, правда?
– Как ты теперь проводишь время? – спросил как-то Эмиля Стулле Йоке, когда тот пришёл к ним читать газету.
Эмиль подумал и ответил честно:
– Один день проказничаю, а другой хожу в школу.
Воскресенье, 14 ноября,
когда на хуторе Катхульт пастор читал проповедь, а Эмиль запер своего отца
Стояла осень, глубокая осень. Всё темнее и темнее становились дни на хуторе Катхульт, и во всей Лённеберге, и во всём Смоланде.
– Ой, до чего выходить неохота! – говорила всякий раз Лина, когда вставала в пять утра, чтобы доить коров, и ей надо было идти во двор в такую темень. Правда, у неё был фонарь, чтобы освещать дорогу, но он светил так слепо и скудно, что хоть плачь.
Серая, серая осень, как один долгий-долгий беспросветный день, и только какой-нибудь праздник, скажем, проповедь на дому, будто свет маяка в темноте, прерывал вдруг этот нескончаемый мрак.
О проповеди на дому ты, конечно, и слыхом не слыхал, это ясно. Так вот, в те далёкие времена все люди в Швеции должны были знать Библию, и, чтобы проверить их знания, пастор время от времени посещал каждый дом своего прихода и беседовал с его обитателями о Святом Писании. Представляешь, он опрашивал не только детей, но и взрослых, и все должны были отвечать на его вопросы. Такого рода экзамены устраивались по очереди во всех хуторах Лённеберги, и хотя сам опрос был не очень-то приятен, ему всегда сопутствовал настоящий пир. А это было уже куда приятнее. Все жители прихода приглашались на такую проповедь, и старики и старухи из приюта тоже. И все, кто были в состоянии дойти, обязательно приходили, потому что после опроса подавалось угощение и можно было всласть наговориться и вкусно поесть.
В ноябре пришла очередь хутора Катхульт устраивать проповедь на дому, и все заметно оживились в ожидании этого дня, а больше всех Лина, потому что она очень любила праздники.
– Я так рада, так рада! – говорила она. – Вот жаль только, что вопросы будут задавать. Я никогда не знаю, что отвечать.
Дело в том, что Лина была не слишком большим знатоком Библии. Пастор, человек добрый, старался задавать ей самые лёгкие вопросы. Он долго и подробно рассказывал в своей проповеди об Адаме и Еве, которые жили в райском саду и были первыми людьми на земле, и ему казалось, что все поняли его рассказ, в том числе и Лина. Была как раз её очередь отвечать, и он ласково спросил её:
– Ну, Лина, скажи нам, кто были наши прародители?
– Гор и Фрея, – ответила Лина, не задумываясь.
Мама Эмиля покраснела от стыда за глупый ответ Лины, ведь Гор и Фрея были старые боги, в которых в Смоланде верили ещё во времена язычества, больше двух тысяч лет назад, когда никто ещё ничего не слыхал про Библию.
Но пастор повёл себя очень терпимо и продолжал с Линой говорить как ни в чём не бывало.
– Понимаешь, Лина, ты тоже настоящее чудо творения, – объяснял пастор, а потом спросил Лину, осознала ли она, как это удивительно, что Бог её создал.
Сперва Лина было согласилась, а потом подумала и сказала:
– Да какое я, собственно, чудо? Во мне нет ничего чудесного. Разве что вот эти завитушки возле ушей…
Тут мама Эмиля снова залилась краской. Ей казалось, что, когда Лина говорит такие глупости, весь хутор опозорен. И она почувствовала себя ещё более несчастной, когда из угла, где сидел Эмиль, послышался звонкий смех. Разве можно смеяться во время проповеди! Бедная мама Эмиля! Она сидела, сгорая от стыда, и успокоилась лишь тогда, когда опрос наконец кончился и можно было подавать угощение.
Мама Эмиля приготовила ровно столько блюд, сколько обычно готовила, когда звала гостей, хотя папа Эмиля и пытался её остановить.
– Здесь главное – разговоры о Библии, а ты лезешь со своими мясными тефтелями и творожными пышками.
– Всему своё время, – твёрдо возразила мама Эмиля. – И разговорам о Библии, и пышкам.
И вот настало время творожных пышек. Их ели и похваливали все, кто пришёл на хутор слушать проповедь. Эмиль тоже съел целую гору пышек, макая их в варенье, а как только он с ними справился, мама его попросила:
– Эмиль, будь добр, запри кур в курятник.
Весь день куры свободно ходили по двору, но вечером их надо было запирать от лисы, которая в темноте прокрадывалась на хутор.
Сумерки уже сгустились, шёл дождь, но Эмиль подумал, что приятно глотнуть свежего воздуха после этой духоты, чада, пышек и нескончаемых разговоров. Оказалось, что почти все куры уже сидят на насесте, только хромая Лотта и ещё несколько её взбалмошных подруг бродят, несмотря на непогоду, по двору. Но Эмиль их тут же загнал в курятник и закрыл дверь на защёлку – пусть теперь приходит лиса, если ей охота. Напротив курятника был хлев, и Эмиль, раз уж он здесь оказался, заглянул на минутку к Свинушку и пообещал принести ему на ужин остатки угощения.
– У гостей глаза завидущие, и на тарелках всегда много чего остаётся, – объяснил Эмиль, и Свинушок весело захрюкал. – Попозже я к тебе ещё забегу, – сказал Эмиль и хлев тоже запер на защёлку.
За хлевом находилось «отхожее место». Так в давние времена именовали то, что теперь все зовут туалетом. Это название тебе наверняка покажется смешным, но слышал бы ты, как называл эту дощатую постройку Альфред! Впрочем, меньше всего я хочу учить тебя грубостям… К слову сказать, как раз на хуторе Катхульт это место именовалось весьма деликатно – «домик Триссе». Триссе было имя плотника, который и поставил этот маленький домик по заказу прадеда Эмиля.
Итак, Эмиль запер на защёлку дверь курятника, потом, тоже на защёлку, хлев и по рассеянности, а может быть, от избытка усердия задвинул задвижку на двери домика Триссе. Конечно, сделал он это механически, не думая, хотя вполне мог бы сообразить, что, раз задвижка на двери домика Триссе отодвинута, значит, внутри кто-то есть. Но, повторяю, тогда Эмилю это в голову не пришло, и он вприпрыжку побежал по двору, распевая во всё горло:
– Вот я запер-запер-запер всё, что только можно запереть!..
А в домике Триссе как раз в это время находился папа Эмиля. Он услышал пение сына и тут же толкнул дверь. Но дверь не отворилась. Тогда папа Эмиля очень громко крикнул:
– Эмиль!
Однако Эмиль его крика не расслышал – во-первых, он успел уже далеко ускакать, а во-вторых, сам орал во всё горло:
– Вот я запер-запер-запер всё, что только можно запереть!..
Бедный, бедный папа, он так рассвирепел, что даже в груди у него заклокотало. Из всех проделок Эмиля эта, пожалуй, была самая ужасная! Папа как бешеный забарабанил кулаками в дверь, потом с силой навалился на неё плечом, да что толку!
В отчаянии повернулся он к запертой двери спиной и стал лягать её ногами. Никакого результата, зато он сильно отбил себе пятки. Да, этот плотник, по имени Триссе, хорошо знал своё дело! Он сколотил эту дверь из гладко выструганных толстых досок и так плотно пригнал её к косяку, что, несмотря на все папины усилия, она даже не шелохнулась.
А папа Эмиля тем временем всё больше приходил в ярость. Он готов был разнести в щепы всю эту проклятую постройку! В бешенстве он принялся выворачивать карманы, надеясь найти там складной нож. Он хотел прорезать щель в двери и лезвием отодвинуть задвижку. Но тут он вспомнил, что ножик лежит в кармане его рабочих брюк, а сегодня он надел воскресные. Положение становилось безвыходным. Некоторое время папа Эмиля стоял неподвижно, тупо уставившись в дверь, и лишь шипел от злости. Нет-нет, он не ругался, он терпеть не мог разные бранные слова. Но стоял и шипел он, как змея, довольно долго и всё думал об Эмиле и об этом злосчастном плотнике Триссе, который даже не догадался в своё время прорубить в домике нормального окошка, а ограничился чем-то вроде слухового окна над дверью. Папа Эмиля сердито уставился на него – до чего же оно мало! – потом стукнул ещё несколько раз что было силы в дверь и в полном отчаянии сел. Ему ничего не оставалось, как ждать.
В домике Триссе было целых три сидячих места, и на одно из них папа Эмиля и сел. Он сидел, скрежетал зубами и в бешенстве ждал, что кто-нибудь в конце концов сюда придёт.
«Пусть это грех, но я убью первого, кто сюда явится», – думал он. Конечно, так думать было несправедливо и дурно, но, когда злишься, теряешь разум.
В домике Триссе было уже совсем темно, а папа Эмиля всё сидел и ждал. Но никто не приходил. Он слышал, как дождь стучит о крышу, и от этого звука ему стало ещё печальней.
Он распалялся всё больше и больше. И в самом деле, разве не обидно, что он сидит здесь в полной темноте и одиночестве, в то время как все остальные пируют за его счёт и веселятся в светлой комнате! Больше он ждать не намерен, он должен немедленно отсюда выбраться! Как угодно, но выбраться! Хоть через слуховое окно!
– Сейчас я лопну от злости! – сказал он вслух и вскочил на ноги.
В домике Триссе стоял ящик со старыми газетами. Он пододвинул его к двери и встал на него. К счастью, ящик оказался довольно большим, и папа Эмиля смог дотянуться до слухового окна. Он без труда выбил раму со стеклом и, высунув голову, стал звать на помощь.
Но на его крик никто не отозвался, зато дождь, который лил как из ведра, с силой забарабанил ему по затылку, ручейки воды потекли за шиворот, и это было не очень-то приятно. Но теперь уже ничто не могло его остановить, даже потоп, ему надо было немедленно отсюда выбраться.
С большим трудом просунул он в слуховое окно сперва руки, потом плечи и стал потихоньку лезть дальше, всё больше высовываясь. Но, когда он уже наполовину вылез наружу, он вдруг застрял. Застрял так, что ни туда ни сюда. Он как бешеный размахивал руками и ногами, но с места не сдвинулся ни на дюйм, а только опрокинул ящик, на котором стоял, и повис, бедняжка, в воздухе!
Как ты думаешь, что делает хозяин хутора, если он висит с непокрытой головой под проливным дождём? Он зовёт на помощь? Нет, не зовёт. Потому что знает лённебержцев. Он прекрасно понимает, что, если кто-нибудь увидит его в таком положении, он станет посмешищем для всей Лённеберги, а может, и для всего Смоланда до конца своих дней. Нет, он не будет звать на помощь!
А тем временем Эмиль, который вернулся в дом в том прекрасном настроении, которое бывает, когда ты выполнил порученную тебе работу, просто из кожи вон лез, чтобы повеселить сестрёнку Иду. Ей очень скучно так долго сидеть тихо, подумал Эмиль, а потому он повёл её в прихожую, и они развлекались здесь тем, что мерили по очереди все галоши. Галоши стояли в ряд вдоль стены, огромные и маленькие, и сестрёнка Ида визжала от восторга, когда Эмиль с важным видом расхаживал в галошах пастора и всё повторял «таким образом» и «кроме того», точь-в-точь как пастор. В конце концов галоши оказались разбросанными по всей прихожей, и Эмиль, любивший порядок, решил их сложить все вместе: посреди передней вмиг выросла огромная гора из галош.
И тут Эмиль вдруг вспомнил про Свинушка, которому обещал принести на ужин объедки с праздничного стола. Он сбегал на кухню, свалил всё, что там нашёл, в миску и с миской в одной руке и фонарём в другой выскочил во двор. Дождь по-прежнему лил как из ведра, но он смело шёл в темноте, чтобы порадовать своего поросёночка.
И вот тут-то – о, я содрогаюсь, когда об этом думаю! – тут он увидел своего отца! И отец увидел его. Ох, как это было страшно!
– Беги за Альфредом, – зашипел папа Эмиля. – И вели ему взять с собой кило динамита. Я хочу, чтобы домик Триссе сровняли с землёй!
Эмиль помчался за Альфредом, и Альфред прибежал. Не с динамитом, конечно, да и папа Эмиля сказал это только во гневе, а с пилой – папу надо было выпилить, другого способа освободить его не было.
И пока Альфред пилил, Эмиль стоял на стремянке и в отчаянии держал над своим бедным папой зонтик, чтобы его не хлестал больше дождь. Ты, конечно, понимаешь, что минуты, которые Эмиль провёл, стоя на стремянке, были не из самых приятных в его жизни, потому что папа всё время рассказывал, что он сделает с Эмилем, как только освободится. И папа даже ничуть не был благодарен Эмилю за то, что тот стоял теперь с зонтиком, прикрывая его от дождя.
Альфред пилил так усердно, что опилки летели во все стороны. А Эмиль не зевал: в то мгновение, когда Альфред допилил до конца и папа Эмиля с грохотом свалился на землю, в то самое мгновение Эмиль отбросил зонтик и со всех ног понёсся к сараю. Он влетел в него, на секунду опередив своего папу, и заперся на засов. Так что папе ничего другого не оставалось, как снова ломиться в закрытую дверь. Но долго это продолжаться не могло, потому что ему необходимо было успеть ещё показаться гостям. Изменив своим правилам, он выкрикнул несколько бранных слов и исчез. Но, прежде чем появиться на людях, ему надо было незаметно прокрасться в спальню и переодеться во всё сухое.
– Где это ты так долго пропадал? – недовольно спросила мама Эмиля своего мужа, когда он вернулся к гостям.
– Об этом мы потом поговорим, – хмуро ответил папа.
Вечер на хуторе подходил к концу. Пастор запел псалом, и все присутствующие его подхватили, каждый на свой лад.
– «Настанет день, пробьёт наш час…» – пели они. А потом пришло время расходиться по домам. Но когда гости вышли в прихожую, то первое, что они увидели, была огромная гора галош, освещённая слабым светом керосиновой лампы.
– Это работа Эмиля, сразу видно, – в один голос сказали все.
А потом каждому, в том числе и пастору с супругой, пришлось по очереди садиться на скамеечку и долго перебирать и мерить галоши. На это ушло ещё добрых два часа, а потом гости сухо поблагодарили хозяев, попрощались и исчезли в темноте и дожде.
С Эмилем они не смогли попрощаться, потому что он ведь сидел в сарае и, пыхтя, выстругивал своего сто восемьдесят четвёртого человечка.
Суббота, 18 декабря,
когда Эмиль сделал нечто такое, от чего вся Лённеберга пришла в восторг, и ему простили все его шалости, вернее, просто о них забыли
Близилось Рождество. Когда темнело, все обитатели хутора Катхульт собирались на кухне, и каждый занимался своим делом. В тот вечер мама Эмиля пряла на прялке, папа чинил башмаки, Лина чесала шерсть, Альфред и Эмиль стругали колышки для граблей, а сестрёнка Ида мешала Лине работать, пытаясь втянуть её в новую игру.
– Понимаешь, это выходит только с тем, кто боится щекотки, – объяснила Ида, а значит, ей годилась только Лина. Ида водила своим маленьким пальчиком по юбке Лины и говорила:
- Дорогие папа с мамой,
- Дайте мне муки и соли,
- Заколю я поросёнка!
- Заколю, а он как вскрикнет!
Когда Ида доходила до слова «заколю», она тыкала указательным пальцем в Лину, и Лина всякий раз, к великой радости Иды, вскрикивала и хохотала.
Видно, эта невинная детская присказка про поросёнка изменила ход мыслей папы Эмиля, потому что он сказал вдруг нечто совершенно ужасное:
– Да, Эмиль, ведь скоро Рождество, пора тебе заколоть твоего поросёночка.
У Эмиля нож выпал из рук. Он уставился на отца.
– Заколоть Свинушка? Нет, этого не будет, – твёрдо сказал он. – Это ведь мой поросёнок, ты мне его подарил, когда я дал обет быть трезвенником, разве ты забыл?
Нет, этого папа не забыл. Но он сказал, что во всём Смоланде никто ещё не слыхал про чудаков, которые выращивали поросят для забавы. Он надеется, что Эмиль уже крестьянин, а это значит, он понимает, что поросят держат для того, чтобы потом заколоть.
– Разве ты этого не знаешь? – с удивлением спросил папа Эмиля.
Нет, Эмиль это, конечно, знал и сперва даже не нашёлся что ответить, но потом всё же сообразил:
– Я уже крестьянин, это верно, и потому знаю, что некоторых поросят растят на племя. Вот, папа, чего ради я вожусь со Свинушком.
Ты, наверное, не знаешь, что значит «растить на племя». А вот Эмиль знал: это значит растить поросёнка, чтобы он потом стал папой многих крошечных поросят. Эмиль понимал, что только это может спасти Свинушка.
– Нам надо только завести маленькую свинку, – объяснил он свой план отцу, – а когда мы их вырастим, у них будут поросята! Много прекрасных поросят, – уверял Эмиль папу.
– Что же, это неплохо, – согласился папа Эмиля. – Но тогда у нас на уторе Рождество будет постное. Без ветчины, без колбасы, вообще без всякого мяса.
- …Дайте мне муки и соли,
- Заколю я поросёнка!.. —
твердила сестрёнка Ида, но Эмиль на неё цыкнул:
– Да замолчи ты со своими глупыми стишками!
Нет, кровь Свинушка не прольётся, это уж точно! Пока Эмиль жив, он этого не допустит.
На кухне долго царило молчание, мрачное молчание. Но вдруг Альфред выругался. Стругая, он поранил себе палец, и у него потекла кровь.
– Тебе легче не стало оттого, что ты выругался, – строго сказал папа Эмиля. – А я не желаю слышать такие слова у себя в доме.
Мама Эмиля достала из ящика чистый льняной лоскуток, перевязала Альфреду руку, и он снова стал стругать колышки для грабель. Это было зимнее занятие – за долгие вечера всегда перебирали все грабли и заменяли сломанные зубья новыми, загодя готовясь к весне.
– Значит, решено… У нас на хуторе будет постное Рождество, – сказал папа Эмиля и мрачно уставился в одну точку.
В тот вечер Эмиль долго не мог заснуть, а наутро он разбил свою свинью-копилку, отсчитал тридцать пять крон, запряг Лукаса в старую телегу и поехал в Бастефаль, где все занимались свиноводством. Домой он вернулся с великолепным поросёнком, которого он тут же оттащил в свинарник к Свинушку. А потом Эмиль пошёл к отцу.
– Теперь в свинарнике два поросёнка, – сказал он. – Можешь заколоть одного к Рождеству, но только, советую тебе, не ошибись, когда будешь выбирать.
Эмиль был в бешенстве, с ним такого никогда ещё не случалось. Он выпалил всё это, словно забыв, что говорит с отцом. Он ведь понимал, что, спасая жизнь Свинушку, обрекает на смерть другого бедного поросёнка, и это казалось ему ужасным, но выхода не было; он знал, что иначе отец не оставит его в покое.
Два дня Эмиль не ходил в хлев, он попросил Лину кормить обоих поросят. А на третий день он проснулся, когда было ещё совсем темно, оттого, что визжал поросёнок. А потом этот пронзительный визг вдруг смолк.
Эмиль дышал на замёрзшее стекло, пока не оттаял кружочек, и поглядел во двор. У входа в хлев висел фонарь, и в его свете он увидел двигающиеся тени людей. Поросёнка закололи, это он знал. Отец и Альфред ошпарят его кипятком, соскребут щетину, а потом придёт Крёсе-Майя, и они вместе с Линой пойдут в прачечную промывать кишки, чтобы делать колбасу. Так закончил свои дни поросёнок из Бастефаля, которого купил Эмиль.
– «Заколю, а он как вскрикнет…» – пробормотал Эмиль, а потом снова забрался в кровать и долго плакал.
Но человек так устроен, что умеет забывать о своих печалях, и Эмиль не был исключением. После обеда он заглянул в хлев, почесал Свинушка и задумчиво сказал:
– Ты жив, Свинушок! У каждого своя судьба. Ты остался жив!
Но Эмилю хотелось поскорее забыть поросёнка из Бастефаля. И когда на следующий день Крёсе-Майя и Лина сидели на кухне и быстро-быстро резали кубиками мясо, а мама Эмиля перемешивала фарш для колбасы и обрезала окорок, чтобы положить его в рассол, и Лина запела «С моря дуют студёные ветры», а Крёсе-Майя стала рассказывать про привидение без головы, которое живёт на чердаке в доме пастора, Эмиль рассмеялся. Он уже думал не о поросёнке из Бастефаля, а только о том, что скоро Рождество, и радовался, что пошёл наконец снег.
– Снег засыпал белый свет, – распевала на все лады сестрёнка Ида. Так говорят в Смоланде, когда выпадает много снега.
И снег в самом деле всё засыпал. К концу дня снег повалил пуще прежнего, началась настоящая метель – из дома теперь нельзя было разглядеть скотный двор.
– Валом валит, всё заметёт, – сказала Крёсе-Майя. – Как я до дома доберусь?
– Оставайся ночевать! – предложила мама Эмиля. – Ляжешь на диванчике вместе с Линой.
– Да, только, будь добра, лежи не шевелясь, я ведь так боюсь щекотки, – сказала Лина.
После ужина Альфред пожаловался, что у него болит палец, всё дёргает и дёргает, сил нет, и тогда мама Эмиля развязала повязку, чтобы поглядеть, что там.
Ничего хорошего она не увидела: палец опух, воспалился и краснота поползла вверх по руке.