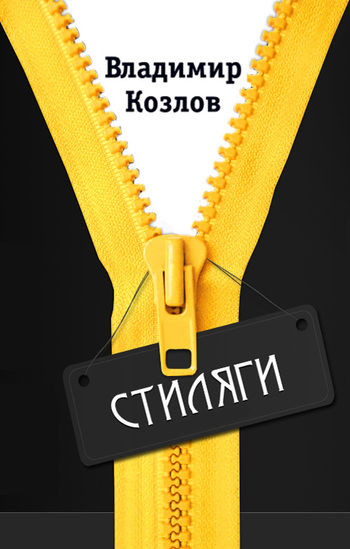Обрезание пасынков Кенжеев Бахыт

Нет, не хочется – да и не можется – поэту менять свою свободу, свою беззаветную любовь к самому себе на ремесло, требующее куда большей отстраненности. Мой выбор – в известном роде исключение.
Впрочем, автор «Бледного огня», поэт не из самых выдающихся, так никогда и не бросил сочинять в рифму. Обвиняющие его в холодности, видимо, никогда не вчитывались в эту поэзию. Беззащитное тепло, переполнявшее оскорбленную душу, он если и допускает в романы, то – отмеренными дозами, тщательно маскируя. Лишь в стихах, забыв о гордости, он раскрывает свое сердце нараспашку – и Боже, какое это уязвимое и неуверенное в себе сердце!
22
Дядя Юра, работавший инженером на заводе под странным названием «Почтовый ящик», пришел на день рождения мальчика загодя, когда гости (Лена Филиппова, сестры Ионовы, Серега Афонин и Юра Богатырев) еще не собрались, и выложил из принесенного под мышкой серо-коричневого свертка на пустой обеденный стол, пока не накрытый клеенкой, длинные металлические трубки, куски пластика и толстые алюминиевые провода неясного назначения. Затем, таинственно усмехаясь, вытащил из глубин осанистого портфеля отвертку, плоскогубцы и горсть оцинкованных шурупов. «Догадался, что за подарок?» Мальчик покачал головой. «А ты, Леночка?» Он прижал палец к губам, и мама тоже ничего не сказала. «Вот так, – приговаривал дядя Юра, – именно так!» Его худые волосатые пальцы двигались с завидной точностью; на обеих трубках обнаружилась нарезка, позволившая неуловимым жестом соединить их в одну. Затем дядя Юра протянул внутрь трубки серый обрезиненный провод, потом начал возиться с мягкими проволочками, собирая их в пустотелый, но уверенный объем, охваченный затем заранее вырезанным куском пластика. Торшер оказался не хуже, а может быть, и лучше покупного. Слазив в портфель еще раз, дядя Юра торжествующе вкрутил в патрон ослепительно засиявшую матовую лампочку. Мальчик захлопал в ладоши. «Сто свечей, – сообщил дядя Юра, – я знаю, ты любишь яркий свет». Комната преобразилась: в одном из дальних углов под потолком обнаружилась пыльная паутина, за спиной у охотника на гэдээровском гобелене вдруг обозначилась условная тушка дикого гуся; от кусочка граненого стекла, который папа давным-давно подвесил под абажуром, скользнула на стену небольшая яркая радуга, а за окном внезапно потемнело. «Я с самого начала сказал Левке: за что только деньги берут! – добродушно возмущался дядя Юра. – Мы что, вчера родились? Или руки у нас не оттуда растут? Покупаешь полтора метра алюминиевой трубки, круглый кусок плексигласа на основание, ну, проводки там, патрон, выключатель. Копейки!» – «Это еще сообразить надо», – уважительно сказала мама, щурясь на непривычный свет и наливая дяде Юре из длинногорлой бутылки.
В собранном осветительном приборе, как бы сошедшем с картинок из журнала «Юность», уже не узнавались неряшливые промышленные отходы, продававшиеся на первом этаже «Детского мира» рядом с филателистическим отделом. Мальчик объяснял внимательно слушавшим сестрам Ионовым, зачем он в декабре месяце испросил там (и, не опоздав к крайнему сроку, легко получил) бесплатный годовой абонемент: все выпускавшиеся советские марки раз в месяц отпускались его владельцам по номиналу. О да, обычные знаки почтовой оплаты продавались на Центральном телеграфе (образцы выставлялись во вращающейся шестиугольной витрине), но иной блок – то есть четыре или шесть марок, печатавшихся на отдельном листочке, в окружении художественной рамки, – так на витрине и не появлялся, как, впрочем, и беззубцовки, выпускавшиеся исключительно для коллекционеров. На витрине филателистического отдела красовались марки дружественных стран народной демократии: Болгарии, Венгрии, Польши, иногда – далеких африканских стран, сбросивших с себя иго колониализма (самые крупные и цветастые).
Почему в мире не меньше филателистов, чем поэтов? Ответ несложен: почтовая марка есть не кусочек бумаги с нехитрым изображением, но знак далеких странствий, общедоступный привет издалека, напоминающий о существовании таинственного и неведомого. («Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран – и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман…» – эти стихи тоже были в бабушкиной библиотеке, и мальчик помнил их наизусть.) Впрочем, украшением коллекции были вовсе не марки, приобретенные по абонементу, но спецгашения, в том числе главная ценность – конверт с портретом Гагарина в космическом шлеме, маркой с портретом Гагарина в космическом шлеме и штемпелем «Первый человек в космосе», плод радостного ожидания в очереди перед окошком на Главпочтамте. Имелся кляссер, полученный от родителей на день рождения уютный альбомчик: на каждой странице было вставлено пять-шесть длинных целлофановых кармашков, где маркам жилось легко, просторно и удобно.
А на первом этаже «Детского мира» ежедневно сталкивались, проходя друг сквозь друга, две разные вселенные. Слева – поклонники озубцованных самоклеящихся картинок на прямоугольных кусочках бумаги: не только мальчик и его сверстники, но и немногословные пожилые собиратели в толстых очках, в ходе охоты за пополнением коллекций посещавшие не один магазин и филателистический отдел. Никто не трогал и не ощупывал продаваемого, довольствуясь видом на витрине. «А если?» – говорили они продавщице. «Надо подумать, поработать», – веско отвечала она, поправляя синюю форменную косынку. У прилавков справа теснилась куда более внушительная толпа, где почти не было детей и пожилых. Домашние мастера в ратиновых и коверкотовых пальто ревниво перебирали деревянные рейки разномастной длины и сечения, алюминиевые уголки, стальные трубки, обрезки пластика, бамбуковые палочки и куски фанеры, надеясь либо подобрать необходимое для поделочных нужд, либо, напротив, подогнать свою тоску по осмысленному ремеслу под имевшийся выбор.
Впрочем, мальчик был равнодушен к их волнениям и радостям.
23
«Теургия – искусство, творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту как сущее. Теургия преодолевает трагедию творчества, направляет творческую энергию на жизнь новую... Теургия есть действие человека, совместное с Богом, – богодейство, богочеловеческое творчество».
Так вещал в 1914 году Бердяев, радуясь удавшимся кухарке свиным отбивным, в книге «Смысл творчества». «Красота, – отмечал он, – не только цель искусства, но и цель жизни… Символизм и эстетизм с небывалой остротой поставили задачу претворения жизни в красоту. И если иллюзорна цель превращения жизни в искусство, то цель претворения жизни этого мира в бытийственную красоту, в красоту сущего, космоса – мистически реальна».
Зря я злословлю. Бердяев вегетарианец был, цветную капусту кушал. Но не в этом дело.
Поставить-то они поставили, и даже с небывалой остротой, должно быть, за чайком с птифурами на «башне» у Вячеслава Иванова. И тени несозданных созданий колыхались на лазоревой стене, и Дева Радужных Ворот смущенно пудрилась в туалете, недоумевая, отчего молодежь и взрослые дядьки, сочиняющие малопонятные стихи, устроили вокруг нее такой сыр-бор. Посвятив ей три книги стихотворений, один из них сделал ей предложение. Увы, наблюдать по утрам, как почти что святая София вынимает из волос папильотки, оказалось юному символисту не по зубам. Семейная жизнь не заладилась, дочь великого химика повела жизнь актрисы средней удачливости, а в душе поэта стал понемногу развеиваться идиотический туман, напущенный откормленными усатыми мэтрами.
Под насыпью, во рву некошеном, Лежит и смотрит, как живая, В цветном платке, на косы брошенном, Красивая и молодая…
Какое уж там мистически реальное претворение жизни мира в бытийственную красоту! Успокойтесь, дорогой мэтр. Единственным, кому вроде бы удалось выполнить эту задачу, оказался презираемый символистами Игорь Северянин, да и красота вышла, по совести говоря, двусмысленной.
Сколько же было этих течений, с манифестами, с выступлениями, с журналами на веленевой или оберточной бумаге! От каждого осталось в лучшем случае по одному-два мастера, к принципам школы, в общем, имеющих разве что самое отдаленное отношение. Поэзия, подобно любви, бескорыстна и неожиданна, ласкова и ревнива, покорна и капризна; стихи, старательно написанные во имя осуществления некоего умственного плана, едва ли не всегда, увы, оказываются мертворожденными.
24
Субботними вечерами ходили к бабушке купаться. Отец нес брезентовую сумку, туго набитую полотенцами и чистым бельем, и почему-то всегда значительно обгонял мальчика и маму. Выходили из переулка на Кропоткинскую, миновали Академию художеств, где два раза в год вывешивали красивые полотна про счастливую и нарядную жизнь, а также про происки империалистов, проходили мимо углового магазина, иногда покупая там для бабушки вафельный торт «Сюрприз» или двести граммов «Мишек на Севере», вступали на Садовое кольцо, куда из-за реки ветерком доносило сладкий запах солода с пивоваренного завода. По пустым улицам изредка проплывал подслеповатый желто-синий троллейбус со стеклами, покрытыми мохнатым слоем инея, или проносилась случайная «Победа», оставляя хвост густых, заставляющих кашлять выхлопных газов; немногочисленные прохожие, как и сам мальчик, шли с поднятыми меховыми воротниками, с завязанными под подбородком клапанами кроличьих ушанок. На углу Левшинского переулка тускло светился пивной ларек, и белокурая продавщица ласково осведомлялась у каждого покупателя, предпочитает он холодное пиво или теплое, во втором случае подливая в кружку горячего пива из чайника, стоявшего на электроплитке. Важные, загадочные люди – дворники – кололи ледяную корку на тротуарах заступами, тяжелыми даже на вид, а выпавший свежий снег сметали на обочины проезжей части в большие кучи, которые мальчик называл сугробами. Снег этот был загрязнен песком и солью, и родители ругали детей, лепивших из него снежки. Рано или поздно на улицу приезжала особая машина, снабженная спереди лотком и двумя клешнями, загребавшими сугробы и отправлявшими снег по движущейся ленте в дожидавшийся сзади темно-зеленый самосвал, который увозил его к Москве-реке. Видеть этот окончательный праздник на набережной, слышать грохот смерзшегося снега, победительное уханье грузовиков, опорожняющих свои самодвижущиеся кузова, мальчику довелось всего два или три раза, но машины с клешнями в зимние месяцы навещали переулок едва ли не ежедневно, и он, бывало, долго следовал за какой-нибудь из них, пока не замерзал. Было что-то завораживающее в движении железных лопастей, насаженных на вращающиеся диски, что-то, заставлявшее думать про жизнь на Проксиме Центавра.
Бабушка жила не в подвале, а на четвертом этаже с дядей Левой, дядей Юрой, тетей Викой, тетей Лорой, двоюродными братьями мальчика Вадиком и Сашей и двоюродной сестрой со смешным именем Клавдия. Играть с этими малолетними родственниками было неинтересно. Зато у бабушки была библиотека, целых пять или шесть книжных полок, и мальчик у нее в гостях не скучал, сосредоточенно листая свои любимые книги: Есенина, Надсона, Северянина. К его приходу бабушка сушила в духовке черные сухарики с солью. В квартире было три комнаты, коридор, кухня, где на стене висели гирлянды чеснока, лука и горького красного перца, а также ванная с газовой колонкой. Еще там обитала серая кошка. Ее туалет – картонная коробка, в которую насыпались клочки газетной бумаги – располагался в коридоре, у самой двери в квартиру, наполняя все жилье резким запахом нашатырного спирта.
Колонка – мощная газовая горелка в эмалированном белом кожухе, сквозь который протекала, соприкасаясь с пламенем, холодная вода, – вспыхивала с приятным хлопком и начинала уверенно гудеть. Вытекавшая вода всегда была горячей, потому что газовое пламя само собой усиливалось при отворачивании крана. Пока отец сидел за столом с дядей Юрой и дядей Левой вокруг прозрачной бутылки и трех стопок, закусывая селедкой с луком, вареной картошкой, солеными огурцами (они покупались бабушкой в магазине, а затем переделывались – заливались новым рассолом с укропом, перцем и чесноком), иногда – склизкими маринованными маслятами или разлапистыми солеными груздями, мама поливала мальчика водой из душа, мылила ему голову, просила крепче закрывать глаза, чтобы в них не попала едкая пена. После мытья головы она проводила по волосам мальчика мокрым пальцем: волосы, издававшие попискивающий звук, справедливо считались чистыми. Вытирали ребенка вафельным полотенцем, вынимали из ванны и ставили, чтобы не простудиться, на старую майку и трусики, небрежно брошенные на изразцовый пол. «С легким паром!» – говорили насупившемуся мальчику взрослые. «С легким паром!» – говорили они через некоторое время сначала матери, потом – отцу. Мальчик, грызущий в углу свои черные сухарики (распадавшиеся под зубами с оглушительным треском), поднимал взгляд от книги и замечал, что оба родителя после купания значительно молодели.
25
Так почему же поэты рано умирают?
Почти всякого смертного в положенное время одолевает кризис среднего возраста. Годам к сорока человек начинает метаться, утрачивая чувство цели и содержания жизни. Романтическая юность и честолюбивая молодость остаются позади. Прежние идеалы представляются лишенными смысла. Впереди – старость, а за ней то, чем она, как правило, завершается. Накопленные знания еще не столь велики, но уже чреваты великой печалью.
Что уж говорить о поэте, который, отличаясь чувствительностью к несовершенству мира, с младых ногтей ставит на карту всю свою жизнь, надеясь достичь пресловутой гармонии!
Поначалу она кажется не столь уж неуловимой: мир, преображенный по правилам поэтической речи, представляется, быть может, и не самым благополучным, но уж во всяком случае осмысленным и прекрасным. Если в повседневности злой хорек Передонов развлекается, заплевывая стены съемной квартиры, то в стихах звезда Маир отражается в водах реки Лигой, и голоса прекрасных жен сливаются в одно дыханье, славя эту воображаемую, но благословенную землю. Водосточные трубы превращаются во флейты. Дыхание и тепло поэта ложится на стекла вечности.
Простодушный юный виршеплет (а на всякого мудреца, как известно, довольно простоты) еще не подозревает, что бесплатный сыр предлагается только в мышеловке.
По прошествии времени, однако, он со страхом начинает осознавать, что его обманули.
Старая гармония утрачивает привлекательность, а восхождение на новый уровень требует возрастающих усилий. Одни друзья юности спиваются, другие берутся за ум. Если быт поэта устроен, он начинает казнить себя за упущенные возможности. (Как с восхитительной откровенностью поет под рокочущую шестиструнную гитару Александр Городницкий: «Не женитесь, не женитесь, не женитесь, не женитесь, поэты!») Если же поэт остается в рядах вольных художников, то начинает бунтовать его человеческое начало, ибо прелести независимого существования сильно преувеличены, да к тому же и приедаются. (Я даже не начинаю говорить о возможных претензиях наших властей к такому образу жизни: сравнительно недавний пример Бродского достаточно убедителен.) Похмелье становится все тяжелее, денег, в общем, нет и не предвидится, а покладистые поклонницы, также подверженные власти Хроноса, рано или поздно проявляют свою женскую сущность и дарят беззаботному питомцу небес наследников и наследниц. («Я бедствовал. У нас родился сын. Ребячества пришлось на время бросить…») Все чаще и чаще создаваемая гармония не способна уравновесить хаос окружающего мира, вторгающегося в искусственную вселенную.
Да-да, именно искусственную – регулярные люди, слава богу, живут иными ценностями, и кто их за это осудит? Утраченные забавы юности восполняются для них накопленным добром – семейной жизнью, удобным бытом, радостью от подрастающих детишек, общественным положением, наконец; что же до неприкаянности или подавленности, то они успешно излечиваются спортом, путешествиями, религией, а в особо тяжелых случаях – психотропными препаратами. Господь позаботился о том, чтобы большинство смертных не сводило счеты с жизнью без его санкции. Но эти ценности, которые вполне милы поэту как частному лицу, никак не помогают решению тех главных вопросов, на которые он кладет свою незадачливую жизнь.
Эти вопросы множатся с каждым годом, иллюзии утрачиваются одна за другой.
Обессилевший замолкает. Сначала лет в двадцать пять – двадцать семь, потом – в тридцать пять – сорок. Пьет спиртные напитки, тщится сочинять прозу или критические статьи, занимается переводами с уже созданного. При большом везении выходит из этого испытания преображенным и, как я уже упоминал, возвращается к сочинительству; этого заряда иным хватает надолго, особенно при наличии нового источника волнений и страстей. Если же ему все-таки не выпадает шанса, если кажется, что все труды его молодости напрасны и что сил на преображение мира больше взять неоткуда, – он начинает, зачастую бессознательно, искать выхода из земной юдоли.
- Зима идет, и тощая земля
- В широких лысинах бессилья,
- И радостно блиставшие поля
- Златыми класами обилья
- Со смертью жизнь, богатство с нищетой —
- Все образы годины бывшей
- Сравняются под снежной пеленой,
- Однообразно их покрывшей:
- Перед тобой таков отныне свет,
- Но в нем тебе грядущей жатвы нет!
Итак, прежняя гармония, пригодная для определенного возраста и запаса сил, устарела, энергия на создание новой кончилась, а существование без сочинительства, этого самого могучего из наркотиков, лишается смысла. Необходимость оставаться в мире, таким образом, отпадает. Иным для ухода из жизни даже не нужно внешних причин: умирает на неапольском рейде Баратынский, угасает без видимых причин Блок (со словами «Музыка умерла»), как-то сам собой в расцвете лет уходит (после десятилетнего молчания) Ходасевич. Другие выбирают более драматичный путь, но перечислять имен я не стану. Отмечу только, что ранняя смерть поэта (и не только поэта, впрочем) нередко представляет собой скрытое самоубийство.
26
Деньги на фотоаппарат родителям копить до конца не пришлось, потому что его приобрели в рассрочку, то есть выплачивая посильные суммы в течение двенадцати месяцев. Необходимую справку с работы оказалось истребовать несложно. Фотоаппарат в коробке из толстого картона отдали отцу не через год, как опасался мальчик, а сразу же. Назывался он «ФЭД-2» в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского, известного друга детей, сурового человека в долгополой шинели, который сиротливо высится на круглом чугунном постаменте в центре одноименной площади напротив «Детского мира». Объектив на передней панели приятно увесистой металлической коробочки с отделкой из черной искусственной кожи походит на глаз страуса, незадолго до того поразивший мальчика в зоологическом саду.
Аппарат потребовал обширного хозяйства, которое покупалось постепенно. Прежде всего, не бывает фотографии без пленки, то есть длинной целлулоидной ленты с прямоугольными дырочками по бокам (они назывались перфорацией), за которые хватает особая шестерня внутри фотоаппарата, после каждого снимка продвигающая пленку на кадр вперед. Пленка бывает разной чувствительности, предпочтительнее – сто единиц. Пленка продается просто так, то есть завернутая для предохранения от света в фольгу, бывает уже намотанная на пластиковую катушку, а бывает и упакованная в светонепроницаемую кассету, то есть катушку в черном кожухе, которой можно заряжать фотоаппарат на свету. Вторая дороже первой на пять копеек, а третья – на двадцать. Дядя Юра объясняет, что экономия тут, в сущности, ложная. Дело не только в том, что заряжать аппарат самой дешевой пленкой («в рулоне») хлопотно и требует полного отсутствия света. Дополнительное обстоятельство: при заряжании, а еще вероятнее – при обратной перемотке возникает риск засветить пленку. И тут вся возможная экономия превращается в сплошное разорение. Правда, выбирать не приходилось. В магазине, как правило, непредсказуемо предлагался всего один вид пленки – либо в рулоне, либо на катушке, либо в кассете. Соответственно, был приобретен рукав, муфта из плотной черной байки, в которой и надлежало перезаряжать фотоаппарат; умение это далось отцу не сразу, и многие из его тогдашних снимков оказались испорчены облаками черного тумана, набегающего откуда-то из-за границ фотокарточки.
Первые пленки отдавались в мастерскую у Никитских ворот, в том же бело-зеленом здании, что и Кинотеатр повторного фильма, откуда возвращались проявленными в виде рулончиков, уже не боявшихся дневного света. Почему-то на проявленных пленках были перепутаны цвета – черный становился белым и наоборот. Это называлось «негатив». В мастерской стояло устройство с матовым экранчиком для просмотра пленок. Если негатив приходился по душе, надо было прилагавшимися маникюрными ножничками, привязанными к устройству стальной цепочкой, вырезать крошечный кусочек в перфорации соответствующего кадра. Помеченная таким образом пленка возвращалась в мастерскую, и через три дня отпечатки уже вклеивались в альбом или посылались по почте в Саратов родственникам мамы (у отца родных не было). Приемщик осведомлялся, в каком формате печатать фотографии, должны ли они быть матовыми или глянцевыми и не желает ли клиент заплатить за срочность. Но торопиться не стоило, потому что жизнь в те годы была, в общем, бесконечной.
И все же – щелкать аппаратом и отдавать пленки в мастерскую было недостойно настоящего любителя. В доме стали появляться любопытные вещи. Прежде всего – увеличитель, затем – бачок для проявления, потом – кюветы, потом – красный фонарь, а также пинцеты и глянцеватель, приобретенный, впрочем, в самую последнюю очередь. Все это хранилось в общей кладовке, пустующей двухкомнатной дворницкой в том же полуподвале (с отдельным входом и висячим замком), отведенной для хранения бесполезных, однако дорогих сердцу вещей, принадлежавших всем обитателям квартиры номер один. Спросив позволения у Анастасии Михайловны, отец расчистил место на ее старом столе, где и размещал фотографические принадлежности.
В таинственном темно-алом (ни в коем случае не багровом) свете с легким щелчком открывалась крышка фотоаппарата и уязвимая, страшащаяся света пленка наматывалась на ось бачка для проявления, снабженную особой пластмассовой спиралью. Важно было не поцарапать пленку (что удавалось не всегда), а главное – намотать ее, тщательно укладывая в витки спирали, чтобы химический раствор, необходимый для проявления, омывал ее равномерно. Отец занимался намоткой пленки торжественно и осторожно, а мальчик, заглядевшись, молчал. В кладовку приносились растворы в стеклянных консервных банках, загодя приготовленные на кухне:
проявитель и закрепитель. Десять минут в первом, десять минут промывать водой (вращая спираль за торчавшую из бачка ручку), пять во втором, затем опять промыть, затем – поднять крышку бачка, размотать пленку, повесить ее сушиться (на это уходило часа три). Заняться в тот же день печатанием фотографий, разумеется, не удавалось, и мальчик переживал смутное разочарование. Зато через день-другой красный фонарь зажигался снова, и из коробки извлекался упомянутый выше увеличитель. Свет мощной лампы, бивший сквозь пленку через систему линз, действительно увеличивал негатив до размера будущей фотографии; с помощью массивного винта лампа могла подниматься и опускаться на своем стояке, соответственно меняя размеры проекции. Отец поворачивал темно-красное круглое стеклышко, отчего бело-черная картинка на подножии агрегата становилась едва различимой, и подкладывал лист фотобумаги, загодя помещенный в особый планшет. Затем стеклышко вновь поворачивалось, открывая дорогу свету. «Раз, два, три, четыре, пять», – говорил отец (длина счета зависела от яркости негатива) и выключал увеличитель. Бумага после этого уже таила в себе будущее изображение, но вызвать его к жизни требовало дополнительных трудов.
Фотографии сохранились: мальчик с букетом гладиолусов (первое сентября какого-то непредставимого года); отец в новой, радостно поблескивающей нейлоновой рубашке с короткими рукавами, щурящийся на солнце, и улыбающаяся мать в бусах чешского стекла (в жизни отсвечивавших всеми цветами радуги) – на фоне колеса обозрения в Парке культуры и отдыха; бабушка, раскатывающая тесто для торта «Наполеон»; все принарядившееся население коммунальной квартиры на кухне с бутылкой «Советского шампанского сладкого»; весенний двор с неведомо чьей таксой, которая кажется особенно черной на фоне подтаявших сугробов.
Что до рулончиков пленки, то целлулоид оказался отличным материалом для изготовления – на выбор – либо ракет, либо дымовых шашек. Завернутый в фольгу и подожженный, рулончик мог довольно далеко улететь, а если сразу же наступить на него – испускал изрядное количество зловонного дыма. Забава эта (открытая мальчиком лет в двенадцать) продолжалась, пока не кончились все запасы пленки, хранившиеся отцом в жестяной коробочке из-под грузинского чая.
27
Мать моего старого товарища, ныне доктора естественных наук и во всех отношениях человека выдающегося, однажды упрекнула меня, начинающего поэта, который на каждом углу со слезами на глазах стремился поведать миру о своих страданиях. Изнемогал я, как и полагается юному лирику, по целому ряду разнообразных поводов, прежде всего сердечных.
«Вы похожи на моего сына, – сказала она добродушно. – Он тоже стремится жить на пределе, попадать в невозможные положения, рисковать, пить жизнь – простите за безвкусный образ, – как некое вино. Да! Я, будучи женщиной немолодой, знаю, что за это надо платить. Иной раз несоразмерно – сломанной жизнью, даже гибелью. Но убедить его в этом я никогда не могла. Вряд ли смогу убедить и вас».
Я растаял.
Ее сына (назовем его Эвклид), старше меня лет на десять, я почти боготворил. Мало мне доводилось встречать людей, которые любили бы жизнь так истово и самоотверженно. Энциклопедист, полиглот, незаурядный ученый, Эвклид неизменно пребывал в состоянии влюбленности, испытал множество житейских и авантюрных приключений и умел существовать как бы совершенно независимо от вездесущей, безвкусной и назойливой власти.
«Между вами, однако, есть существенная разница, – продолжила моя седеющая знакомая, затягиваясь болгарской сигаретой “Стюардеса” (именно так, через одно “с”). – Вы пишете стихи, а Эвклид чужд искусства».
Мне послышался сдержанный вздох. Какое самопожертвование, восхищенно подумал я – и даже несколько застеснялся собственного превосходства, очевидного и для родной матери моего друга и наставника. (Добавлю, что Эвклид виртуозно играл на фортепьяно, равнодушно блиставшем своей черной лаковой крышкой во время нашего разговора, и писал этюды маслом; я не раз слышал, что при наличии усидчивости из него вышел бы недюжинный пианист или художник.) «Сын мой, однако, живет во имя жизни, – вкрадчиво продолжила пожилая женщина, – его страдания и радости бескорыстны. Так дикарь воет от боли или пляшет у костра от восторга перед бытием. Что до вас, простите уж меня, то вы за чувствами – охотитесь, чтобы впоследствии использовать их для творчества. Вы молоды; стихи ваши несовершенны. Лично я верю, что вы станете прекрасным поэтом. Дай вам Бог! И в то же время корысть, о которой я говорю, в старости отравит все ваши воспоминания. Вы никогда не поймете, что в вашем опыте было искренним, а что совершалось только ради получения питательного материала для сочинительства. Как говорил кто-то из декадентов, быть может, вся жизнь только средство – уж не помню для чего, золотых снов, ярко-певучих миров или подобной чуши. Поэтому радость ваша – наигранна, страдания – полупритворны. Я думаю, что Богу – каков бы он ни был – угоднее живая жизнь, чем зарифмовывание своих страстей, ибо сообщать миру об испытанной гармонии – нецеломудренно».
Я почувствовал себя лопнувшим воздушным шариком и на несколько мгновений вполне возненавидел и своего наставника, и его многомудрую мать – которая сама, кстати, прожила сравнительно бурную жизнь московской художницы со склонностью к формализму, хотя под старость и стала ограничиваться акварельками в духе Добужинского и Бакста либо орнаментами, любовно составлявшимися из собственноручно собранной коктебельской гальки.
Теперь мне кажется, что вряд ли стоит поэту испытывать вину за корыстное использование собственной (и чужой) жизни. Вряд ли. Господь – как говорится, в неизреченной благости своей – соткал наше бытие из таких непримиримых противоречий, по сравнению с которым парадокс упрекнувшей меня талантливой женщины кажется детским лепетом. И тем не менее… Что нравственнее – переживать сущее во всей его неприкрытой и страшной полноте или заниматься сладким обманом?
Одно утешает: ответить на этот вопрос – каждый для самого себя – должен и поэт, и живописец, и оперный певец, и цирковой клоун, и цветочница, и отец семейства, гуляющий с детьми по Диснейленду, и гордый жених перед аналоем, и стыдливая невеста, и молодая мать, и альпинист, и археолог – словом, едва ли не любой двуногий без перьев.
Может быть, коктебельским камушкам тоже было бы уютнее остаться на крымском берегу, чем становиться частью орнамента, украшающего чью-то гостиную (работы моей знакомой всегда пользовались завидным спросом.) Но возразить покойной художнице я смогу только в будущем; надеюсь, что достаточно отдаленном.
28
Смена времен года обозначалась не только солнцем или снегом, но также появлением и исчезновением плодов и овощей. Когда-то отец с матерью хлопотали о садовом участке в шесть соток и вполголоса, чтобы не сглазить, вели вечерние разговоры в которых звучали слова «кустов десять малины, кабачки, клубника», а также «разрешается даже печку поставить, а колодец недалеко». Но учреждению, где отец работал, так и не выделили земли под садовое товарищество. Иногда всей семьей ездили на электричке за грибами, проходили через случайную подмосковную деревню, и вид яблока, свисающего с ветки за чьим-нибудь забором, или ветка черной смородины с последними сохранившимися ягодами вызывали у городского мальчика радостное волнение. Впрочем, лет с девяти он стал ездить на лето в пионерские лагеря, и картина полезных растений, насаждаемых в сельской местности, вскоре стала привычной.
Первые яблоки – белый налив – возникали уже в конце июня. Продавались непосредственно на улицах; на зеленом колхозном грузовике с потрепанными деревянными бортами и колесами, обильно испачканными деревенской глиной, доставлялся торговый стол, весы (реже – старые, с набором железных, тронутых ржавчиной гирь, чаще – современные, с единственной чашкой и белым циферблатом, по которому ходила внушительная черная стрелка, указывающая вес) и некоторое количество ящиков, где хранился переложенный соломой товар. Иногда в белой мякоти обнаруживались ходы, проложенные нежелательным тунеядцем (последнее слово часто встречалось в тогдашних газетах), а где-то в области серединки, она же – будущий огрызок, обнаруживался и сам извивающийся, насмерть перепуганный желто-коричневый червячок с ребристой мягкой кожицей. Мальчик бережно брал его за спинку, стараясь не раздавить, и бросал в траву, а бывало – сажал на лист одной из дворовых лип. Отдельные яблоки сгнивали, не выдержав трудностей долгого пути, и продавщица бросала их в загодя припасенное оцинкованное ведро. Некоторые только начинали портиться (это называлось «с бочком»). Кое-кто из хозяек, стоявших в очереди, требовал, чтобы они тоже отправлялись в ведро, а продавщица вертела обвиняемым яблоком перед носом покупательницы, доказывая съедобность плода.
Первые яблоки – мелкие, мягкие, нежно-зеленые – ничуть не стеснялись покрывавших их черных точек и шрамиков.
К концу лета по всему городу оборудовали торговые точки для арбузов и дынь, снабженные железными решетчатыми ларями, на ночь запиравшимися на замок. В сезон арбузы продавались по десять копеек за килограмм, а для тех, кто был готов платить в полтора раза больше, продавец мог вырезать из арбуза треугольный кусок на пробу. Впрочем, покупателям, готовым идти на риск (или уверенным в своей способности оценить спелость арбуза по глухому звуку, раздававшемуся при похлопывании плода по крепкому боку), он сообщал, что «завоз удачный» и арбузы все как на подбор «сахарные». Отец резал арбуз сначала напополам, обеспокоенно прислушиваясь: здоровый громкий хруст корки при движении ножа означал спелость, вялое попискивание – немощную водянистость. Затем каждая половинка разрезалась на лунообразные алые ломти, истекающие неожиданно бледным розоватым соком, пестревшие черными и ни на что не пригодными косточками. В гостях у бабушки арбузом занимался дядя Лева – за десять минут уединения на кухне он превращал его в полосатую зеленую корзину с ручкой из той же корки, наполненную небольшими очищенными кусками. Было красиво, но не очень удобно – лишенный корки арбуз закапывал соком одежду, к тому же потом приходилось мыть руки. Однажды дядя Лева сообщил мальчику, что с точки зрения науки арбуз – как и дыня, и помидор – это ягода, пускай и очень большая, а клубника – нет. Дыни бывали двух сортов – огромные продолговатые из Средней Азии и небольшие круглые, именовавшиеся «колхозницами». Первые источали аромат на весь полуподвал и таяли во рту, а вторые, сладковато-крахмальные на вкус, не слишком нравились мальчику.
Вселенная городских плодов и овощей в отличие от большой вселенной, вполне бесконечной, ограничивалась магазинами и уличными торговыми точками; в загадочное место «рынок», откуда мать изредка приносила стакан малины, кулек клубники или двести граммов творога, когда сын болел, его не брали – должно быть, из воспитательных соображений. На рынке, по словам мамы, «есть все», но «ужасно дорого, просто невозможно». Что ж, философствовал мальчик, в мире имеется немало недоступных вещей, и огорчаться по этому поводу не стоит.
В сентябре появлялся виноград белый, виноград черный (на самом деле темно-фиолетовый), синяя как бы покрытая изморозью венгерка и барственный желто-розовый ренклод, похожий на уральский облицовочный камень. Появлялись антоновка (ломтики клались в сладкий чай при отсутствии лимона), пепин шафранный (яркий румянец на глянцевой желто-оранжевой коже) и штрифель, как бы раскрашенный от руки тонкими красными полосками. Нашинкованная капуста нового урожая выстаивалась в удаленных подвалах, а затем до отказа набитые пузатые бочки обнаруживались в углу овощного магазина в виде капусты квашеной обыкновенной (слишком кислой, даже если посыпать ее сахаром-песком и полить подсолнечным маслом, как делала бабушка) и восхитительной капусты «Провансаль», в которой попадались помимо той же морковки клюква и маринованный виноград, а иногда – четвертушка хрустящего яблока. Слух о грушах или персиках, которые продавали за углом, тут же распространялся по полуподвальной квартире, и мальчика посылали занимать очередь; так же бывало и под Новый год, когда из Абхазии привозили прохладные на ощупь мандарины, отпускавшиеся не более чем по два килограмма в одни руки. Когда очередь подходила, к мальчику присоединялись родители с запасными авоськами: грех было не купить мандаринов на долю бабушки и прочей родни, обитавшей у нее в квартире: сезон был короткий, а изредка появлявшиеся зимой и весной апельсины были совсем не такими вкусными, и толстая шкурка с них снималась с трудом.
29
«Наши отроки (то есть всё зреющее поколение) при плохом воспитании, которое не дает им никакой подпоры для жизни, познакомились с твоими буйными, одетыми прелестию поэзии мыслями; ты уже многим нанес вред неисцелимый. Это должно заставить тебя трепетать. Талант ничто. Главное – величие нравственное».
Так писал сердитый Жуковский своему опальному любимому ученику в 1826 году, быть может, слегка кривя душой в расчете на прочтение своего послания в высших инстанциях. Так и не вступив с ним в открытый спор, несколько лет спустя Пушкин оставил на полях книги стихов князя Вяземского свою знаменитую и загадочную максиму:
«Поэзия выше нравственности или, по крайней мере, совсем иное дело».
При всей внешней простоте этого заявления смысл его остается темным. Если поэзия выше нравственности, то подобным же статусом должен обладать и ее творец. Значит ли это, что поэт имеет святое право не платить по счетам портному, пропивать имение жены, брюхатить дворовых девушек или похищать у товарища из бумажника сторублевые ассигнации? Появляется соблазн утверждать, что гений и злодейство не только совместимы, но и не могут обходиться друг без друга: для постижения многократно упоминавшейся выше гармонии поэт обязан на собственном опыте познать все светлые и темные стороны жизни, а затем, если уж он и впрямь гениален сделать сознательный выбор в пользу добра (или даже зла – ведь поэзия выше нравственности!).
- Грехи большие – за стихи большие.
- Хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья,
- И Господа и Дьявола хочу прославить я.
Будучи добросовестной посредственностью, Брюсов выразил этот соблазн с завидным простодушием. Дьявол, купивший душу у куда более даровитого Багрицкого, обретает вполне осязаемые черты:
Их нежные кости сосала грязь. Над ними захлопывались рвы. И подпись на приговоре вилась Струей из простреленной головы…
Далее последовало несколько поколений рядовых советских стихотворцев, которые вполне «разучились нищим подавать» и не краснея писали про Пушкина: «Мы царю России возвратили пулю, что послал в тебя Дантес!» Сегодня, однако, эта струя в поэзии представляет собой только исторический интерес, да и то весьма небольшой (за исключением Багрицкого – но о нем разговор особый).
Умолчим о счетах за новый фрак: среди дворянской молодежи пушкинских времен, как известно считалось невыносимым бесчестьем не уплатить карточного долга, а с портными поступали куда менее гуманно. Оставим в покое и напряженные, почти враждебные взаимоотношения между поэзией и церковью, двумя сущностями, которые, откровенно говоря, не испытывают друг в друге особой нужды («Гавриилиада» или «Сказка о попе и работнике его Балде»). Не секрет, однако, что, не призывая к прямой уголовщине, Александр Сергеевич (и не он один) не без воодушевления отражал в своем творчестве всевозможные разновидности антиобщественного поведения. Чего стоит его ода никчемному тунеядцу, за один ужин у Talon спускающему годовой оброк нескольких крепостных семейств!
- Пред ним roast-beef окровавленный,
- И трюфли, роскошь юных лет…
- И Страсбурга пирог нетленный
- Меж сыром лимбургским живым
- И ананасом золотым.
А воспевание бродяг цыганского племени, живущих конокрадством и бренчанием на гитаре? А бесконечные любовные стишки чужим женам? А презрение к «толпе»? «Подите прочь – какое дело поэту мирному до вас!» А «Египетские ночи»? Мыслимо ли, чтобы светский щеголь, юный поэт и заслуженный полководец отдавали свои бесценные жизни за ночь любви с венценосной шлюхой?
Предполагаю, что слово «выше» наш поэт все-таки употребил в полемическом задоре и не случайно сразу же оговорился. На сочинителей, несомненно, распространяются те же требования к чести и порядочности, что и на вакуумных сварщиков или летчиков-испытателей. Не зря же совершённый смертный грех явно убивает пушкинского Сальери и как человека, и как композитора.
В то же время художник неспроста отличается повышенным любопытством. Он – авантюрист, он склонен испытывать свою земную участь на изгиб, при этом неизбежно совершая ошибки и поддаваясь соблазнам – как и любой его ровесник, только, может быть, чаще. На ошибках не только учатся: без них невозможно увидеть гармонию, штуку далеко не столь однозначную, как нам бы хотелось. (Помните несчастного самоубийцу инженера Кириллова, который уверял, что «всё» в мире хорошо?) Однако для человека, наделенного любовью к миру и целомудрием, грех – источник страдания, которое, к великому прискорбию нашему, тоже входит в гармонию в качестве неотъемлемой части. За преступлением следует наказание, за хмелем – похмелье.
«Ну а действительно-то гениальные, – нахмурясь, спросил Разумихин, – вот те-то, которым резать-то право дано, те так уж и должны не страдать совсем, даже за кровь пролитую?» – «Зачем тут слово: должны? Тут нет ни позволения, ни запрещения. Пусть страдает, если жаль жертву… Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть», – прибавил он вдруг задумчиво, даже не в тон разговора».
А что же сама поэзия? Может ли стихотворец, ежедневно ходя на службу, скажем, в банк, призывать своего читателя к нарушению правил морали и кодекса административных правонарушений?
Кто его знает! Но ни одного человеконенавистника среди великих поэтов, во всяком случае, не числится.
Я думаю, поэзия – как и другие виды искусства – и впрямь может быть выше сиюминутных нравственных установлений общества или, по крайней мере, быть совершенно иным делом. Не надо расстреливать несчастных по темницам, не надо просить милостыни у тени. Но выше любви поэзия быть не может.
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я – ничто».
Спорить трудно. Возвыситься до этого – еще труднее.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ:
ОБРЕЗАНИЕ ПАСЫНКОВ
1
ПЕРЕДЕЛКИНО
КОНЕЦ АВГУСТА 1937 ГОДА
В пруду купаться строго не разрешалось. Впрочем, и не очень хотелось; к вечеру туда, медленно переставляя жилистые ноги, забредали огромные и неряшливые коровы из колхозного стада, возвращавшиеся с пастбища за березовой рощей: хлебали нечистую воду, высовывая пупырчатые дурно-розовые языки, пялились непросвещенными зрачками из-под спутанных толстых ресниц, походивших бы на человеческие, если б не мелкие мушки, копошащиеся в коросте по границам век. Помахивали неожиданно гибкими хвостами, отгоняя слепней, однако те приземлялись для получения питания ближе к голове, хранительнице неразвитого млекопитающего мозга, куда даже и самый длинномерный хвост никак не достигал.
Тропинка, по которой ступал в воду крупный рогатый скот, давно преобразилась в чавкающее месиво. Оскверненный пруд, однако, оставался живым: по поверхности воды скользили тонконогие водомерки, оставляя за собой недолговечные вмятины, иногда высовывала рот шальная непромысловая рыба (и тут же, переполошившись от близости губительного надводного пространства, уходила в глубину), а в дальнем углу водоема, на некотором расстоянии от заросшего камышом берега, желтело полдюжины кувшинок. На пруду часто обнаруживаются рыболовы из писательского поселка с бамбуковыми удочками, с помощью которых, удовлетворенно улыбаясь, они извлекают из воды плоских карасей и полупрозрачных уклеек. Рыболовы, расположившись друг от друга на порядочном расстоянии, ревниво косятся на мальчика, который предположительно может распугать водную дичь. Добычу, как положено, они насаживают на кукан, то есть подручную веточку, проталкиваемую через жабры и рот пойманного создания, которое почти сразу после этого умирает, выпучивая несознательные глаза.
На рыболовах синие или бежевые костюмы из толстого материала с неровной поверхностью, называющегося китайским словом чесуча, иногда – соломенные шляпы со смешными ленточками, концы которых трепещут на ветру. За те полдня, которые они проводят на берегу перед тем, как разойтись по домам («Ну что, Павел Дормидонтович, пора и за работу?» – «Пора, мой друг Юрий Михайлович, пора!»), на крючок попадается пять-шесть склизких чешуйчатых телец: царский ужин для крупной кошки, ничтожный улов для человеческих нужд.
Луг считается как бы ничейным, во всяком случае, коров на нем не пасут, картофеля и турнепса не выращивают, густую траву не выкашивают. Мать разъясняла, что земля принадлежит церковникам, то есть относится к загородной резиденции митрополита, располагавшейся за почти крепостной стеной, которая ограждала луг с одной стороны, однако за почти полным отсутствием монахов заниматься хозяйством некому.
«Что такое ризиденция митрополита?» – спрашивал мальчик, полагая, что это слово происходит от слова «риза». «Место жительства важного человека», – послушно отвечала мать. «А кто такие монахи?» – «Мужчины, которые добровольно живут в тюрьме, носят черное платье, похожее на женское, и молятся Богу». (Мальчик уже знал, что Бог – это печальное суеверие угнетенного народа.) «Почему монахов почти нет?» – «Осознали свою глупость, устыдились и разъехались вести нормальную человеческую жизнь по колхозам и фабрикам».
В солнечную погоду за стеной посверкивали граненые медные купола выбеленной церквушки, украшенной где синим, где красным, где зеленым кирпичным узором, а также серела шиферная крыша усадьбы, где, судя по всему, обитал важный человек – митрополит.
«Должно быть, – размышлял мальчик, – он не хотел отпускать своих монахов работать в колхозах и на фабриках, должно быть, пытался уговорить их остаться». Несчастный, одинокий важный человек! Как грустно ему, вероятно, глядеть с третьего этажа своей ризиденции на неухоженный луг, на растущий с каждым днем поселок! И церквушка, должно быть, пуста, не собирается угнетенный народ молиться печальному суеверию; недаром у дубовых ворот в ризиденцию дежурит неприветливый страж в белой гимнастерке, с огнестрельным оружием в кобуре, не допускающий праздношатающихся. Впрочем, пять-шесть отсталых представительниц обветшавшего населения часто дожидаются у ворот, сжимая пивные бутылки с затычками из мятой газеты, наполненные водой из недальнего родника. Если важный человек, митрополит, выезжает из ворот на своем лаковом «форде» цвета беззвездной ночи, чтобы отправиться в Москву, то ветхие и отсталые женщины, покрытые морщинами от безысходности дореволюционной жизни, повизгивая, протягивают к автомобилю свои жалкие сосуды, а седобородый важный человек (в расшитых золотой нитью мешкообразных белых одеждах, называемых ризами, а также в цилиндрическом белом колпаке) сквозь открытое окно машины протягивает к ним полную отечную руку, складывает пальцы в щепоть, подносит их ко лбу, к животу, к правому, а затем и левому плечу, скрывается вместе с автомобилем, попрыгивающим на ухабах, в дорожной пыли, а утешенные представительницы покидают место происшествия, утирая необъяснимые слезы ссохшимися ладошками.
Странно, удивлялся мальчик. Он в первый же день в поселке пил из этого источника, прильнув губами к вставленной в глинистую землю железной трубе (чуть шире обычной водопроводной): ничего особенного, кроме природной подземной свежести.
Той же свежестью отдавало белье писцов, которое мать полоскала в речке, там, где в нее впадал ручеек, бегущий от родника.
К полудню, когда солнце становилось особенно жарким, некошеная луговая трава начинала исходить различными сельскохозяйственными запахами. За несколько лет заброшенный пятачок земли отвык от человека и скота, развился, воспрял духом, если, конечно, когда-то обладал им. Прежде всего, трава отличалась незаурядной густотой, почти полностью скрывая верхний слой почвы. Она была разнообразна, как в заповедном уголке Альп на раскрашенной картинке из старого учебника ботаники (прикрытой целомудренным листочком кальки). Так, по окраинам луга розовели заросли высоченного иван-чая (отношения к обычному чаю не имевшего), среди стебельков безымянных топорщились узкие листочки радостно съедобного щавеля. Зеленая саржа листьев земляники: исполненное надежды волнение, затем – разочарование (вспомнил о календаре!), затем – счастье, потому что после удушливого лета земляника дала второй, пускай и не столь обильный, урожай, и среди зелени неожиданно багровеют мелкие пахучие ягоды в белых крапинках – быть может, четверть стакана со всего луга, если бы хватило терпения их собрать. Питательный корм для животноводства – клевер: значительно уменьшенные меховые казачьи шапки, выкрашенные всеми оттенками сиреневого и прогибающиеся под тяжестью механизированных шмелей. Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые, а в жизни – лиловые, покачивающиеся вниз головой на тонких стебельках. И таинственный львиный зев, цветы которого раскрываются подобно пасти царя зверей, когда на их нижнюю часть садится достаточно упитанная пчела.
Когда подступало время обеда, мальчик собирал из луговых цветов небольшой букет и относил его матери, а та, похвалив сына, ставила цветы в темно-зеленую вазу, украшавшую комод в гостиной, либо в пустую двухлитровую банку на тумбочке в своей спальне.
Правда, изъятые с луга цветы быстро переставали пахнуть и увядали уже через неполные сутки.
2
КАК ПРИВЕЗЛИ КИНО
В СПЕЦФИЛИАЛ ДОМА ТВОРЧЕСТВА
Такая же черная эмка, что приезжала по утрам, только с другим номером, затормозила у калитки, и комендант Дементий Порфирьевич впустил на участок молодого человека в штатском с объемистым фанерным чемоданом, оклеенным коричневым коленкором. Следовавший за ним шофер, также в гражданском обмундировании, уверенно держал на вытянутых руках цирковую пирамиду из круглых алюминиевых коробок.
Невидимый дятел на одной из сосен, на несколько мгновений замолчав, возобновил свою работу, и тут мальчику удалось его заметить: метрах в двадцати наверху, с красными перышками на крыльях и белым хохолком. Всякому «тук!» соответствовало резкое движение крошечной головки и, должно быть, удовлетворенный взгляд, неразличимый на таком расстоянии.
«Беда червякам, роющим ходы под древесной корой, – подумал мальчик, – им не уберечься от дятла, лесного доктора!»
Молодой человек, насвистывая, доставал из чемодана нелегкий аппарат, пыхтя, ставил его в центр обеденного стола и прилаживал к нему две бобины: одну, пустую, – на нижнюю ось, другую, с туго накрученной пленкой, – на верхнюю. Под мышкой у него оказался также рулон плотного, тщательно выбеленного и проклеенного холста. Молодой человек пошарил взглядом по стенам, на мгновение задержался на поясном портрете фараона со священным свитком в руке, затем ушел дальше, к картине «Утро в сосновом бору». Ее-то он и снял со стены, бережно поставил в угол, а освободившийся гвоздик использовал для холста, в верхней части снабженного рейкой и веревочкой. В чемодане обнаружился еще ящичек размером с коробку для взрослых ботинок, который молодой человек присоединил особыми шнурами к аппарату и установил на полу, по центру экрана. Гость поглядел на окна. «Пожалуй, шторы можно и не задергивать, – пробормотал он, – через полтора часа уже стемнеет. Ты во сколько спать ложишься, шкет?» – «Поздно! – вскричал мальчик в страхе, что ему не позволят смотреть. – Иногда и в одиннадцать. У меня же каникулы!»
Лестница скрипела по-разному, когда по ней спускались коротышка Аркадий Львович, длинноногий и тощий Андрей Петрович либо одутловатый, грузный очкарик Рувим Израилевич. Впрочем, Андрей Петрович однажды на глазах у мальчика, словно школьник, преловким образом съехал вниз по лакированным березовым перилам. А Рувим Израилевич, писатель далеко не старый, спускался – и уж тем более поднимался – одышливо, с перерывами едва ли не на каждом шагу: должно быть, его мучили раны, полученные в Гражданскую. Он и спал, впрочем, прескверно, ворочался и стонал, гремел графином с водой и стаканом, загодя поставленными на прикроватную тумбочку. Звуки эти прорывались в открытое окно его спальни, выходившее на флигель, и достигали ушей мальчика, который, по правде говоря, тоже спал неважно, хотя и по другим причинам.
По нынешнему скрипу ступеней он угадал рассудительного Аркадия Львовича. Видимо, тот слышал последние слова мальчика, потому что потрепал его по волосам и, уяснив происходящее, заверил молодого человека в штатском, что «пацан свой, юный пионер, скромный, не проказник» и «беспокоиться не стоит».
– Пионер пионером, – сказал молодой человек, – а допуск на него оформлен?
– Ну какой тут может быть допуск! – Поэт Аркадий Львович улыбнулся тонкими губами. – Ребенок! Что он понимает?
– Я все понимаю! – насупился уязвленный мальчик.
– Слышите? – сказал поэт Аркадий Львович. – Ну скажи, пионер, чем мы тут заняты с Андреем Петровичем и Рувимом Израилевичем?
– Вы – славные мужи, неутомимые и бдительные в работе весь день, выполняющие задание свое с силой и ловкостью! – с гордостью забарабанил мальчик. – Изобильное питание перед вами… Фараон – ваш верный поставщик, и припасы, выданные вам, весят более, чем работа ваша в желании его накормить вас! Знает он усилия ваши, рвение и старание. Он наполнил амбары для вас хлебом, мясом, вином, дабы поддержать вас… Приказал он рыбакам снабжать вас щуками и угрями, другим из садов – доставлять репу и земляные яблоки, охотникам – привозить диких гусей и перепелок, гончарам – изготовить глиняные сосуды, дабы охлаждалась вода для вас в летнюю жару!
– Смотри, запомнил! А на самом деле?
– Вы писцы, – продолжал мальчик, – находящиеся в творческой комнатировке в спецфилиале Дома творчества по поручению Народного комиссариата внутренних дел, чтобы внести посильный вклад в борьбу всего народа с затаившимся, но ныне разоблаченным врагом!
– Только не комнатировка, а командировка. И все-таки не писцы, а писатели, не увлекайся египетской историей. В общем, ничего страшного, товарищ младший лейтенант. Сами видите.
– На вашу ответственность, товарищ писатель, – отвечал киномеханик скучным служебным голосом. – Часа через три подъедет товарищ старший майор, примет соответствующее решение. Впрочем, что я говорю! «Цырк!» пускай смотрит, а там ему уже будет пора и на боковую. Кстати, мое полное звание – младший лейтенант госбезопасности. Прошу не путать.
Заходящее солнце уже как бы покоится на верхушках сосен дальнего бора. Разрозненные перьевые облака, едва заметные днем, на закате рассиялись канареечным и пунцовым. Трудно поверить, что на самом деле крутится не Солнце, а Земля, поворачиваясь к светилу то одним, то другим боком, но это факт, известный уже Копернику. Более того, Земля вращается вокруг Солнца по протяженной орбите, при этом поворачиваясь вокруг своей оси. И вся Солнечная система совершает многочисленные иные перемещения и внутри нашей Галактики, и вместе с ней. Следовательно, вдруг сообразил мальчик, никакой неподвижности в мире нет. Даже недвижно сидя на крылечке, пахнущем свежей сосной сквозь слой масляной краски, человек несется одновременно во множестве направлений, летит, поднимается, опускается. Голова не кружится только потому, что мы давно привыкли к этому вечному движению. А толстогрудый И-5, пролетающий из Внукова в Тушино и посверкивающий на закатном солнце праздничным легким металлом сдвоенных крыльев? Как же он?
На этой мысли мальчик утомился и вышел на двор: все равно кино не начнется без Андрея Петровича и Рувима Израилевича и в любом случае уже почти кончится к неурочному приезду товарища старшего майора, невысокого военного человека с двумя ромбиками в красных петлицах серовато-зеленой гимнастерки с отличительным знаком на рукаве[1], в нарядной синей фуражке с красным фетровым околышем, в тугой портупее из толстой кожи, которая, как было известно мальчику, называется яловой. Темно-синие бриджи товарища старшего майора заправлены в сапоги, сияющие подобно куполам кремлевских соборов[2]. Обычно он прибывал на своем тяжелом ЗИС-101 с выступами на капоте, похожими на торпеды, рано утром, часам к девяти, и, судя по мешкам под ярко-зелеными глазами, тоже страдал бессонницей.
3
ЧТО ПЕРЕПИСЫВАЛ МАЛЬЧИК
ИЗ ВЗРОСЛОЙ КНИГИ В ОБЩУЮ ТЕТРАДКУ,
ИНОГДА ДОБАВЛЯЯ РАССКАЗЫ ОТ СЕБЯ
За границей очень часто люди «случайно» попадают под поезд, под трамвай, выкидываются из окна, отравляются газом. Погибают люди, которые неудобны для той или другой разведки. Убийства, отравления – это излюбленный метод иностранных разведок, которым в наше время они широко пользуются. Наши хозяйственники увлекались одной иностранной фирмой, которая изготовляла пишущие машины. Эта фирма хотя и находится в Америке, но целиком связана с немецкими разведывательными органами. Если наши хозяйственники консультировались у этой фирмы, то они консультировались у разведчиков гестапо. Поэтому с пишущими машинами у наших хозяйственников получался большой конфуз, и только потому, что они не додумались, что эта фирма немецкая, что это отделение гестапо, а это все объясняет. К этим фирмам нужно относиться с большими предосторожностями.
Или такой пример: группа польских перебежчиков пробирается в Советский Союз в 1924 году. Среди этой группы несколько шпионов с определенными заданиями, в том числе Ходыко. Он очень хитро маскировался, признавал и славил Советский Союз, ругал Польшу и т. д. Затем Ходыко получает директиву от разведки, чтобы связаться с неким Ходыкевичем. Ходыкевич дал ему задание вести разведку в гарнизоне. Ходыко задание выполнил. В 1928 году Ходыкевич был арестован как шпион и удавлен. Не зная, выдал или не выдал его Ходыкевич, Ходыко прекращает всякую работу и два года абсолютно ничего не делает по разведке. В 1930 году его вызывают в некое консульство и дают определенное задание – устроиться официантом в каком-нибудь ресторанчике в пригороде Ленинграда. Он добивается этого. В ресторане бывают командиры одной из авиационных частей. Разведка ему дает задание работать и держаться так до начала войны. А во время войны «мы тебе пришлем порошок, и весь командный состав этим порошком отравишь». В 1936 году Ходыко был разоблачен НКВД и удавлен.
Однажды одна маленькая девочка увидела в магазине красивую стеклянную куклу. Она привела в магазин своих родителей и попросила купить ей эту куклу. Девочка весь день играла с куклой, а вечером положила ее на стол и легла спать. Утром, когда она проснулась, ей сказали, что умерла ее мать. Девочка долго плакала, а на следующее утро умер ее отец, а еще через день – бабушка.
Она осталась одна с маленьким братом. Вечером, когда они ложились спать, девочка испугалась темноты и включила свет во всех комнатах. Маленьким детям было страшно. Они вдруг увидели, что из ящика с игрушками вылезла стеклянная кукла. Ноги ее вытянулись, и она шагнула к детям. Ее большие руки с длинными пальцами доставали до пола. Она подошла к кровати брата и схватила его за шею руками. Из пальцев вылезли иголки, и она вонзила их ему в горло. Испугавшись, девочка выбежала из квартиры и позвонила соседям. Соседи вызвали милицию. Когда приехала милиция, брат был уже мертв, а кукла, маленькая стеклянная игрушка, лежала в ящике.
На следующую ночь милиционеры сами видели, как кукла вставала из ящика и ходила по комнате, но никого не нашла. Тогда они взяли стеклянную куклу, заперли в железный ящик и поехали на завод, где этих кукол делают.
На заводе все было нормально. Никто не знал о таких страшных куклах, но один милиционер вдруг нечаянно наступил на плиту в полу, и пол поехал в сторону, а там, внизу, другой завод; и делают этих кукол старухи из дома престарелых. Тут их всех и директора завода арестовали и увезли в тюрьму.
Чаще всего техника опечаток такова: заменяются одна-две буквы в одном слове или выбрасывается одна буква, и фраза в целом приобретает контрреволюционный смысл. Скажем, вместо слова «вскрыть» набирается «скрыть»; вместо «грозное предупреждение» – «грязное предупреждение»; вместо «брестский мир» – «братский мир» и т. д.
Природа всех этих, с позволения сказать, «опечаток» совершенно ясна и в комментариях не нуждается. Нередко враг широко использует притупление или отсутствие бдительности редакционных работников и руководства типографии в другой области – верстке и клише. Нам известны факты, когда ныне разоблаченные и удавленные диверсанты ловко и тонко врисовывали в обыкновенный снимок портреты врагов народа, которые становятся отчетливо видными, если газету и снимок рассматривать со всех сторон.
В 1922 году некий Б., проживая в Ленинграде, принял иностранное подданство. После этого он отправил свою семью за границу, а сам остался жить в Ленинграде. Через несколько лет он решил также уехать за границу. Но вместо выдачи визы Б. в консульстве стали его подкупать и разрешили пользоваться продуктами из консульского склада. В знак благодарности Б. настраивал рояли консульства. Впоследствии представитель этого консульства дал Б. несколько заданий по сбору сведений шпионского характера. А когда Б. это выполнил, он предложил ему принять советское гражданство. После принятия советского гражданства Б. получил задание от консула – проникнуть в качестве настройщика роялей в воинские части и собирать необходимые сведения о вооружениях и личном составе. Как настройщик роялей, Б. имел все возможности к тому, чтобы проникнуть на интересующие консула объекты. Поэтому вскоре Б. удалось пристроиться настройщиком роялей на кораблях и в фортах Балтфлота, где он сумел завербовать несколько лиц. Через них и путем личных наблюдений Б., ныне разоблаченный НКВД и удавленный, проводил шпионскую работу в Балтфлоте.
Одна девочка стала убираться в доме. Радио говорит:
– Девочка, девочка, гроб на колесиках ищет твой город.
Девочка не прячется. Радио опять:
– Девочка, девочка, гроб на колесиках ищет твой дом.
Девочка не прячется. Радио:
– Девочка, девочка, гроб на колесиках ищет твою квартиру.
Девочка не прячется. Радио снова:
– Девочка, девочка, гроб на колесиках уже у тебя за спиной.
Девочка не спряталась, и гроб ее прибил, подвесил к потолку и поставил под нее таз, чтобы кровь стекала.
При Осоавиахиме в Ленинграде существует секция кровавого собаководства. Казалось бы, что общего между работой фашистского разведчика и секцией кровавого собаководства Осоавиахима? В этой секции ныне разоблаченная и удавленная С. периодически приобретала породистых собак, сделалась завсегдатаем собачьих выставок, через газеты делала объявления о продаже того или иного чистокровного пса и таким образом приобретала необходимые знакомства. Предпочитая продажу собак военным, продавала себе в убыток. Под видом любви к собакам посещала потом покупателей, справляясь о здоровье собачки. Вот один из методов использования фашистской разведкой для своих целей, казалось бы, самого безобидного занятия.
На одной из текстильных фабрик Москвы работала жена пожарника Третьяковской галереи Б. На эту фабрику приехал работать немецкий инженер-специалист. Инженер, присмотревшись к окружающим, знакомится с женой пожарника Б. и начинает за ней ухаживать. Он делает ей подарки: чулки, пудру и т. д. – и оказывает ей очень много внимания. Она его полюбила, он тоже клянется ей в своих чувствах и сообщает, что, ко всему прочему, он разведчик одного иностранного государства. В доказательство любви к нему инженер просит ее выкрасть некоторые документы у мужа-пожарника. А преступный муж-пожарник, грубо нарушая порядок, носит секретные документы домой и не замечает пропажи некоторых из них. Через некоторое время жена знакомит мужа со своим любовником-разведчиком. Разведчик ставит вопрос ребром: «Что нам особо знакомиться, мы давно знакомы, так как через вашу жену я получал кое-какие секретные материалы. Давайте говорить открыто: или будем друзьями и вы мне поможете поджечь Третьяковскую галерею, или вам плохо будет». Пожарник Б., боясь наказания за свое преступное ротозейство, принимает предложение иностранного агента. Сейчас все трое разоблачены и удавлены.
Одна женщина очень любила тюльпаны. Она их каждый день покупала на базаре. Один раз посылает сына, говорит ему:
– Купи тюльпанов, только черные не покупай. Сын идет на базар, а там только черные. Купил черных. Приходит домой. Мать говорит:
– Зачем купил?
А он:
– Ну ладно, тоже красивые.
Ночью из черных тюльпанов начали протягиваться какие-то руки, они раз – и задушили мать. На следующий день эти руки тоже начали протягиваться. Отца задушили. А на следующую ночь сын вместо себя куклу положил. Руки начали протягиваться к кукле, куклу задушили. А мальчишка этот метал нож хорошо. Он метнул и одну руку ранил.
На следующий день вызвал милицию. Руки начали протягиваться – милиционер прострелил три пальца. Они пошли на базар, а у того продавца, который эти тюльпаны продавал, на руке трех пальцев нет и рука прострелена.
4
РАЗГОВОР ТРЕХ ПИСЦОВ О ФИЛОСОФИИ,
ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВЕ И ВОСПИТАНИИ
НОВОГО ГОМУНКУЛА
В сыром и темнеющем воздухе у виноградных кустов вдруг промелькнула искра несуществующего зеленоватого оттенка. Должно быть, соседи жгут костер из зеленых веток, подумал мальчик. Он ошибся: чуть выше тут же возникла искра вторая, однако не летящая ввысь, как положено, чтобы умереть в назначенный краткий миг, но как бы обладающая жизнью и свободой. Вначале она парила в воздухе, противодействуя ветру, затем приподнялась, затем погасла, чтобы почти сразу вспыхнуть снова. К ней присоединилась еще одна, вторая, третья, и вскоре ложные искры выстроились в некий хоровод, независимый от ветра и схожий со звездным небом, безучастно горбившимся над вздыхающей от усталости дачей в этот совершенно ясный поздний вечер. Правда, рассеявшиеся перистые облака вполне могли возникнуть снова за счет обильного дыма, клубившегося над домом: суровый Дементий решил затопить печь, а доставленные утром на грузовике осиновые дрова – старые запасы отменных березовых он старался тратить экономно – оказались довольно сырыми. (Образование облаков из дыма мальчик считал научным фактом.)
Раньше он только слышал о светлячках. Представлялось необходимым изловить хотя бы одного, чтобы выяснить секрет загадочного свечения или, по крайней мере, понаблюдать за ним более пристально. Однако за краткое мгновение зеленоватой вспышки как поймать насекомое, так и предвидеть его дальнейшее местонахождение, в общем, находилось за пределами способностей человека. Может быть, дождаться утра? Нет, в светлое время суток таинственный жук, вероятно, никак не отличался от своих несветящихся собратьев (августовских жуков?). К тому же он был мелок и явно обладал повышенной увертливостью по сравнению с легко ловящимся мягкокрылым жуком-пожарником (нежного янтарно-коричневого цвета), не говоря уж о жуках майских, в чем-то подобных карликовым крылатым танкам на крепких мохнатых ногах.
О! Миновавшей весной в арбатскую комнату на третьем этаже на свет лампы под сиреневым абажуром залетало немало майских жуков, должно быть, испугавшихся вечернего трамвая, скрежетавшего под окном. И впрямь: набитый человеческими телами трамвай поутру, да и ранним вечером, когда утомленные трудящиеся возвращались в свои жилища, стучал гораздо мягче, чем полупустой ближе к ночи. Богатый улов помещался в стеклянную банку, неплотно прикрытую куском картона. Карликовые танки принимали свою участь безропотно, хотя в удачный вечер им и приходилось громоздиться друг на друге, толкаясь в стены своей тюрьмы пружинными усиками-антеннами. Взлетать не пытался никто.
К утру они успевали угомониться.
Мальчик подходил к раскрытому окну, извлекал одну из сонных тварей и сажал ее на вытянутую ладонь, подталкивая, чтобы жук пополз по указательному пальцу. «Божья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба, черного и белого, только не горелого». Жук, не обижаясь, что его незаслуженно именуют насекомым другого вида, поднимал прочные, почти металлические надкрылья, посверкивавшие блеском окислившейся латуни, и под ними обнаруживались трепетные, сухие, прозрачные пленочки, превращавшие его тело в природный летательный аппарат. И жужжание улетающего было сладостно для слуха. А в дачной местности стояла тишина, только лаяли от скуки сторожевые псы в писательском поселке да писцы, дожидаясь товарища старшего майора, разумно беседовали за поздним чаепитием. Мальчик пристроился на пятачке у забора, за виноградными лозами, где уже дня три как разместил на траве бесхозную рогожку, отыскавшуюся во флигеле. Сиделось удобно, кое-что даже было видно через окно, а уж слышно – тем более.
– Семболисты, – говорил Андрей Петрович, двигая худыми кистями рук, – выдвигали теорию жизнетворчества. Ну-ну, не смотрите на меня волчьими глазами, товарищи по цеху. Никто – подчеркиваю, никто! – тут не собирается заниматься защитой дикоданса. Но еще Владимир Ильич указывал, что новая пролетарская культура должна взять все самое передовое от культуры буржуазной.
Светлячок, исчерпав запас сияния, иногда садился на лист винограда, и тут возникала надежда на его поимку.
– Возьмем наше задание, – продолжал Андрей Петрович, – знак доверия партии. Притворение искусства в жизнь в соответствии с дикодентской филасофией означало грязь и упадок, правда, Рувим Израилевич?
– Должно быть, – пожал плечами вопрошаемый. – Я был молодым и жизнерадостным студентом тогда и только морщился от худосочного петербургского наречия, негодного для разговоров с женщинами и хризантемами.
– Я уже начал работать у отца помощником скорняка. Не знаю насчет грязи, но аромат стоял тот еще без всякого дикодентства, особенно когда выделывали лайку[3]. Впрочем, я привык быстро.
– У вашего отца были наемные рабочие, Аркадий Львович? Я по-дружески.
– Что вы, Андрей Петрович. Он сам, мать, я, два брата, сестра. Все это, смею вас уверить, рассказано в моем собственноручном жизнеописании, представленном секретариату Союза писателей еще в 1934 году. Напомню также, что наша новая Конституция отменяет дискриминацию по признаку социального происхождения. А откуда у вас такие обширные знания о философии дикоданса? Вы же – я не ошибаюсь – были на момент заката семболизма учеником сапожника? Ванькой, можно сказать, Жуковым?
Неосторожный светлячок действительно спланировал на шершавый виноградный лист прямо перед лицом мальчика, еще не успев погаснуть. Одно стремительное движение – и в пальцах обнаружилось что-то мягкое, похожее на крошечную голую гусеницу. Он бережно поместил ее в припасенную на всякий случай спичечную коробку с портретами героев-папанинцев. Прислонил коробку к уху и вздохнул с облегчением: светлячок, очевидно, не пострадал при поимке, так как подавал признаки жизни в виде слабого шуршания, хотя свечения и не возобновил. Лампочка Ильича – великое изобретение советской мысли, прирученное ленинским гением. Однако для хозяйственных нужд – чтения, мелкой домашней работы – в будущем, возможно, люди станут пользоваться биохимической энергией светлячков, этих поразительных созданий природы. Достаточно разработать научно обоснованный режим питания, а еще лучше – с помощью мичуринской селекции вывести светлячков размером с черепаху, в таком же роговом панцире, и вечером вешать их на гвоздик, а на ночь, когда освещение не нужно, помещать в специальный садок для отдыха и приема пищи.
– Не я один был учеником сапожника, уважаемый Аркадий Львович. Но скажу больше: родительница моя, возросшая служанкой в семье одного из старших чиновников, играла с детьми его и училась вместе с ними. Она владела хеттским и ассирийским языками, умела писать, читать и исполнять мелодичные песни на лютне, сжимая плектор из хряща крокодила своими божественными длинными пальцами. И даже на систре с головой рогатой богини Хатхор научилась играть она, хотя низкое происхождение и означало, что за одно прикосновение к священному инструменту ее могли бросить в темницу. Сердце ее, однако, неустанно рвалось обратно к народу. И когда она повстречалась с юным луноликим мятежником из земли Уц, готовым отдать всю кровь за народное дело, Любовь Орлова мгновенно проснулась в ее душе. Мать бежала из дома чиновника, и сладостно провели они первую ночь с молодым мужем, зачав сына, в чем помог им великий бог Мин. Но на следующий день стражники заключили отца в узилище за хулу на фараона, а затем обратили в рабство. Бедствовала мать моя и в четырнадцать лет забрала меня из училища и определила в ремесленное обучение изготовителю сандалий и ременных бичей.
– А какой матерьял для сапог лучше, Андрей Петрович, – чепрак, шора? Может быть, юфть? Я тоже по-дружески.
– Типун вам на язык, уважаемый Рувим Израилевич, хоть вы и бывший кавалерист. Чепрак годится только для подошвы, шора – на худой конец, для ранта. Юфть, которую все чаще называют хромом, – наилучший материал для голенища. А в нынешние времена – кирза, разумеется. Наш, российский материал изобретения Михаила Львовича Поморцева. Пропускает воздух, чтобы легко дышала нога бойца, задерживает влагу. Запасы кирзы не зависят от капризов косного крестьянства, под любым предлогом норовящего использовать шкуры крупного рогатого скота для личных нужд. Прекрасная вещь.
5
ЧАЕПИТИЕ ЛЮДЕЙ ВО ФЛИГЕЛЕ
Во флигеле тоже пьют чай с вареньем, хотя и без пирожных, но тут уже не надо подсматривать в раскрытое окно и корчиться на промокшей рогожке. В серединке просторной кухни осанисто высится квадратный дубовый стол, накрытый не непрактичной скатертью, а почти новой клеенкой в синих васильках. Сиденья увесистых стульев обиты глянцевой, чуть потрескавшейся кожей, держащейся на звездчатых гвоздиках с латунными шляпками.
– Так все имущество и оставили, товарищ комендант? – спрашивает киномеханик.
– В городской квартире особого имущества и не было, почти все казенное. Личное барахло свезли на склад для дальнейшей реализации, вещдоки приобщили к делу: книги, записи, незарегистрированный парабеллум. Что касается дачи, то Б. любил настаивать, что он литератор, и дачу себе отгрохал не в Горках, как положено по рангу, а в поселке Союза. Товарищ народный комиссар предложил создать тут особый филиал Дома творчества: на время, а может быть, и навсегда. Руководство одобрило. Дом поставлен на широкую ногу, зачем же вывозить народное добро, а потом заменять другой обстановкой? Чистить, разумеется, пришлось многое. Забор, конечно, сменили. Впрочем, в последние годы ему уже никакой дачи в Горках не полагалось, – добавляет Дементий, подумав.
– Посмотрел я на ваши сады-огороды. Неужели эта кабинетная гнида сама ухаживала за таким сложным хозяйством?
– Говорят, развлекался и этим: фотографии с лопатой и граблями имеются. Серьезную работу выполнял, конечно, нанятый садовник – поляк, такой же шпион, однако сведущий в своем ремесле. Весь комплект садового инвентаря сохранился, кое-какой урожай как раз поспевает. Виноград заметили?
Мария, робко улыбаясь, наливает чай из красавца самовара, сияющего медными боками, по тонким сосудам в не ржавеющих никогда подстаканниках. Очевидно, ей приятно отдыхать после утомительного дня в обществе двух командиров, да и те время от времени любуются молодой сотрудницей в непритязательном, но тщательно выглаженном сарафане (синее, красное, белое). Самовар не простой, а электрический, изготовленный мастерами по особому заказу бывшего хозяина. Он кипятит быстро и без дыма, только включать его следует не больше, чем на десять минут, чтобы не перегорели пробки и не пришлось, как вчера, ставить жучка. Дементий Порфирьевич долго и обидно хохотал, даже по коленям себя хлопал от восторга, когда мальчик спросил, какое отношение имеют насекомые к электричеству (светлячков он тогда еще не видел), но впоследствии сжалился: не только объяснил, как действует предохранитель, но и допустил несовершеннолетнего постоять у распределительного щита, когда возился над фарфоровыми пробками.
– Позавчера я собрала остатки малины с одичавшего куста, растущего в дальнем углу участка, – говорит мать, – товарищи писцы с удовольствием покушали ее на десерт, и мальчишке тоже досталось.
– А благоуханное варенье? Оттуда же?
– Нет, товарищ младший лейтенант госбезопасности, на варенье бы не хватило. К тому же оно клубничное, вы заметили? Это из старых запасов, хранившихся на даче.
– А вообще со снабжением у вас как, товарищ комендант, позвольте осведомиться?
– Для товарищей писцов на все время пребывания в Доме творчества особым распоряжением предусмотрен кремлевский паек высшей категории.
– Ого! – восхищается киномеханик. – А обслуживающий персонал и дирекция?
– Вы про нас с очаровательной Машей? Хватает, не жалуемся. О высшей категории речи не идет, конечно, но кое-что доставляют. К тому же у творческих работников не самый зверский аппетит. Многое остается нетронутым.
– Вы заметили птицу на участке, Сергей Маркович?
– Упитанный, превосходный гусь.
– Третий день упрашиваю наших гостей – не зарезать ли. Глядишь, привезут второго – что прикажете с ними делать? Птицеферму открывать?
Гуси – уменьшившиеся со временем потомки травоядных нелетающих диплодоков, также обладателей длинной шеи и маленькой, почти безмозглой головы. Правда, благодаря естественному отбору нынешние диплодоки не только обросли водонепроницаемыми перьями и обзавелись примитивными крыльями, но и поумнели по сравнению с предками. Едва осознав опасность, пусть даже исходящую от детеныша человека, они убегают стремительнее эфиопского гепарда, а если застать гуся врасплох, он с удручающим шипением щиплется, оставляя на тянущейся к нему руке лилово-черный синяк размером с серебряный полтинник.
– А холодильник?
Деревянный шкаф с четырьмя дверцами, обитыми изнутри тусклым металлом, занимает добрую четверть кухни. В верхнее отделение Дементий каждое утро помещает извлеченный из подпола брусок мутного льда с прилипшими опилками; тая, он превращается в воду, собирающуюся в нижней части холодильника в эмалированном лотке. А в трех остальных отделениях царит мартовская прохлада, не дающая портиться ни семге, ни зловонному сыру рокфор, ни сарделькам, ни кускам сырого мяса, обернутым в пергаментную бумагу.
– Забит под завязку. – Мать огорченно взмахивает рукой. – Одного тощего барашка третий день доесть не могут. Завтра приготовлю суп харчо. Большая часть мяса уже срезана на шашлык, но на костях осталось достаточное количество.
– Откуда тебе известен рецепт супа харчо, Мария?
– Во флигеле осталась книга о вкусной и здоровой пище с предисловием народного комиссара Микояна. И еще одну поваренную книгу про кавказскую кухню доставили в самый первый день. Ты что, забыл, товарищ комендант?
– Наши писцы хорошо понимают, чьи они гости, – отмечает Дементий, и мужественное лицо его твердеет. – Выпьем, возлюбленные мои товарищи, за его бесценное здоровье. Хвала тебе, великий, родивший богов, создавший один себя самого, сотворивший Обе Земли, создавший себя силой плоти своей!
Киномеханик встает вслед за Дементием и разливает из графина багровую огненную воду, настоянную на клюкве, по трем маленьким стаканчикам, так называемым стопкам.
– Создал он тело свое сам: нет отца, зачавшего образ его, нет матери, родившей его, нет места, из которого он вышел на подвиги. Лежала земля во мраке, но грянул свет после того, как он возник!
Мать Мария, не отказываясь, также подносит свой стаканчик к губам, покрытым нежно-алой помадой.
– Озарил ты родину лучами своими, когда лик твой засиял, – подхватывает она, и глаза ее, кажется, сами начинают светиться. – Прозрели люди, когда сверкнуло правое око твое впервые, левое же око твое навеки прогнало тьму ночную!
Встает и мальчик, подняв свой стакан с недопитым чаем, чтобы чокнуться со взрослыми.
Упомянутый барашек тоже изначально являлся живым, со свалявшейся грязно-бурой шерстью и недоуменными стрекозьими глазами. Дементий сильно сердился на сержанта, под расписку доставившего очередной паек, возглашая, что спецфилиал Дома творчества – не скотобойня, сам же он – комендант, а не мясник. Обошлось: Мария с сыном, развязав барашку худые ноги с неизношенными раздвоенными копытцами, отвели его на небольшой пристанционный рынок, где обнаружился торговец коровьим мясом – с лопатообразной спутанной бородой, в серой рубахе, подпоясанной изношенным кожаным ремнем, в перепачканном белом переднике. За работу (быстро и бесшумно осуществленную в глухом сарайчике на краю рынка) он попросил только голову и шкуру животного. Возвращались молча; из холщового мешка, оказавшегося довольно тяжелым, сочились, падая на дорогу, капли крови, привлекавшие многочисленных бронзово-зеленых мух; кроме того, за путниками увязалось три, может быть, даже четыре бродячих пса, продолжительно и тревожно лаявших впоследствии у запертой калитки.
6
ДНЕВНИКОВЫЕ И ИНЫЕ ЗАПИСИ ЖИЛЬЦОВ
СПЕЦФИЛИАЛА ДОМА ТВОРЧЕСТВА
Что записывает Андрей Петрович в черновой блокнот. Видно, что трудолюбивая Мария от души радуется неожиданному почетному поручению, тем более что оно предоставило ей бесплатную возможность вывезти за город любознательного, но тщедушного и малокровного сына, которому не досталось путевки в пионерский лагерь. Маша едина во многих лицах: она в одиночку выполняет нелегкие обязанности повара, уборщицы, посудомойки, официантки, кастелянши, прачки. Они, разумеется, облегчаются тем, что нам, советским писцам, никогда не придет в голову по-барски вести себя с обслуживающим персоналом; мы с хлопотуньей Машей и исполнительным Дементием – равноправные члены одной бригады, выполняющей ответственнейшее задание партии. Не все у старательной Маши получается одинаково удачно; в котлеты, на мой взгляд, она кладет слишком много хлеба, пренебрегает чесноком, столь богатым витаминами, а в компот, напротив, добавляет слишком мало сахара, да и яйца всмятку, несмотря на мои многочисленные указания, у нее всякий раз перевариваются, иной раз и трескаясь. А ведь этого легко избежать; достаточно класть яйца не в кипяток, а в холодную воду с чайной ложкой уксуса на литр и внимательно следить за продолжительностью варки, не отвлекаясь на капризы ребенка, явно мешающего отправлению служебных обязанностей. Но стоит ли жаловаться, стоит ли наносить ущерб собственной душе, усомнившись в совершенстве благосклонности царской? В целом бытовая сторона нашей творческой командировки организована на непревзойденном уровне, а увлекательной работы такой огромный объем, что отсутствия прогулок не замечаешь, порою даже радуешься ему – т. к. тем самым избавляешься от незапланированных встреч с коллегами, бог весть каким путем – и уж точно не за счет таланта! – добившимися выделения дачных участков, от их вечных дрязг, интриг, от горечи, которую испытываешь, когда видишь, что многие так называемые советские писатели в глубине души еще не выбрались из мелкобуржуазного болота и порою бесстыдно обнажают свое классово чуждое нутро, с самодовольным придыханием произнося слова вроде «изразцы» или «дранка». В царской обители прекрасно жить… ее зернохранилища наполнены пшеницей и полбой, поднимаются они до небес… гранаты и яблоки, оливки, фиги из фруктовых садов, сладкое вино из Кенкем, превосходный мед, жирные карпы из царских прудов… Калорийное и разнообразное питание, алкогольные напитки в умеренных количествах, чудесная для позднего лета погода (за всю последнюю неделю – ни одного дождя!), почетный труд на благо Родины – чего еще остается желать!