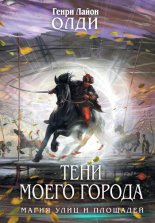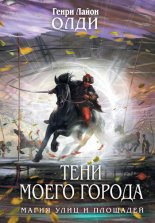Битва за Рим Маккалоу Колин
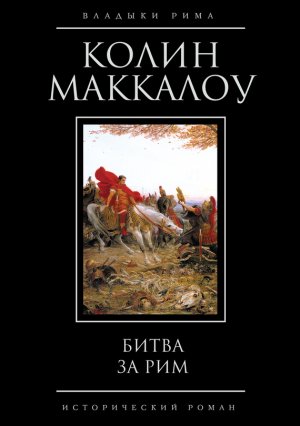
Коллегия народных трибунов заседала на нижнем этаже Порциевой базилики, ближе к зданию сената. Помещение коллегии представляло собой зал с множеством колонн, где стояло несколько столов и раскладных кресел без спинок. Базилика Порция, старейшая из базилик, была спланирована наименее удачно. В те дни, когда не собирались комиции, народные трибуны сидели здесь и выслушивали посетителей, приходивших со своими проблемами, жалобами и предложениями.
Друзу не терпелось заняться новым делом, не терпелось выступить в сенате с первой речью. Старшие магистраты сената наверняка составят ему оппозицию, так как Филипп был вновь избран младшим консулом в паре с Секстом Юлием Цезарем – первым представителем рода Юлиев, севшим в консульское кресло за четыреста лет. Цепион снова стал претором – одним из восьми, а не шести, как чаще бывало. В некоторые годы сенат решал, что шести преторов будет мало, и рекомендовал избрать восьмерых. Так произошло и в тот год
Друз собирался начать законотворческую деятельность раньше других народных трибунов, но после назначения новой коллегии десятого декабря невежда Миниций, едва дождавшись завершения церемонии, объявил тонким голоском, что созывает contio для обсуждения одного очень нужного нового закона. В прошлом, кричал Миниций, дети от брака римского гражданина и не-римлянина получали статус своего отца. Это слишком просто, кричал он. Слишком много римлян-полукровок! Чтобы заделать эту нежелательную брешь в цитадели гражданства, Миниций предлагал принять новый закон о запрете римского гражданства для всех детей от смешанных браков, даже когда римской половинкой был отец.
Этот закон, lex Minicia de liberis, стал для Друза неприятной неожиданностью. В комиции его приветствовали одобрительными криками, что свидетельствовало о том, что большинство голосующих все еще против предоставления римского гражданства тем, кого они числят ниже себя, – иными словами, всему остальному человечеству.
Цепион не мог не поддержать это предложение, хотя и против воли; недавно он подружился с новым сенатором, клиентом великого понтифика Агенобарба, добавившего его в свою бытность цензором в сенаторский список. Этот новый Цепионов друг, невероятно богатый – нажившийся за счет соотечественников-испанцев, – носил внушительное имя: Квинт Варий Север Гибрида Сукрон. Понятно, что он предпочитал зваться просто Квинтом Варием; когномен Север он заслужил скорее жестокостью, нежели серьезностью, когномен Гибрида указывал на то, что кто-то из его родителей не был римским гражданином, а Сукрон – на то, что родился и вырос он в городе Сукрон, в Ближней Испании. Этот сомнительный римлянин, гораздо более чуждый Риму, чем любой италик, был полон решимости стать великим человеком и не отличался щепетильностью по части способа достижения этой высокой цели.
Познакомившись с Цепионом, Варий впился в него крепче пиявки, присосавшейся к дну лодки, осыпал его лестью, неустанно оказывал внимание и мелкие услуги – и добился большего успеха, чем в любых иных своих начинаниях, ибо возносил Цепиона на ту высоту, на которую тот в свое время возносил Друза.
Не все друзья Цепиона отнеслись к Квинту Варию одобрительно, но Луций Марций Филипп его обласкал, ибо Варий изъявлял готовность безвозмездно помочь поиздержавшемуся кандидату в консулы. Что касается Квинта Цецилия Метелла Пия Свиненка, то он возненавидел Вария с первой же встречи.
– Как ты терпишь этого мерзавца, Квинт Сервилий? – громко вопрошал Свиненок Цепиона, забыв про свое заикание. – Говорю тебе, находись этот Варий в Риме в момент смерти моего отца, я поверил бы лекарю Аполлодору и знал бы в точности, кто отравил великого Метелла Нумидийского!
Великому понтифику Агенобарбу Свиненок говорил:
– Почему главные твои клиенты – сплошь отбросы общества? В самом деле! То плебеи Сервилии из семьи Авгуров, то этот ужасный Варий! Гляди, так ты прославишься как покровитель сводников и всякой дряни, отребья и безумцев.
От таких слов великий понтифик Агенобарб широко разевал рот, не находя, что ответить.
Не все, однако, судили о Квинте Варии столь проницательно: легковерным и неосведомленным он казался замечательным человеком. Начать с того, что он был красавец-мужчина: высокий, отличного сложения, брюнет, но не смуглый, с пламенным взором, с приятными чертами лица. Он умел внушать доверие, но только в дружеском кругу. Его ораторское искусство изрядно хромало, в немалой степени из-за сильного испанского акцента, хотя по совету Цепиона он прилагал большое старание, чтобы от него избавиться. Тем временем кипели яростные споры о том, что он за субъект.
– Редкого благоразумия человек! – настаивал Цепион.
– Паразит и притворщик! – не соглашался Друз.
– Само великодушие и обаяние! – утверждал Филипп.
– Скользкий, как плевок! – фыркал Свин.
– Он достойный клиент! – убеждал всех великий понтифик Агенобарб.
– Он не римлянин! – презрительно отмахивался принцепс сената Скавр.
Само собой, обаятельному, благоразумному и достойному Квинту Варию новый lex Minicia de liberis пришелся не по вкусу, так как ставил под сомнение его гражданский статус. На свою беду, он только сейчас обнаружил, каким бестолковым может быть Цепион; что бы он ни говорил, тот никак не соглашался перестать поддерживать закон Миниция.
– Не беспокойся, Квинт Варий, – твердил Цепион, – закон не имеет обратной силы.
Друза этот закон не устраивал больше, чем любого другого, однако об этом никто не подозревал. Одобрительное отношение к закону ясно указывало на то, что римляне не намерены раздавать гражданство.
– Придется пересмотреть мою законодательную программу, – сказал он Силону, когда тот в очередной раз посетил его в конце года. – С предложением избирательного права для всех надо повременить до конца моего трибуната. Я собирался с этого начать, но, как видно, не судьба.
– Ничего у тебя не получится, Марк Ливий, – сказал Силон, качая головой. – Тебе не позволят.
– Я добьюсь своего. Позволят, вот увидишь! – уверенно возразил Друз.
– Одно могу сказать тебе в утешение, – сказал Силон с довольной улыбкой. – Я говорил с другими предводителями италиков, и все до одного согласны со мной: если ты добьешься для нас римского гражданства, то заслуженно станешь главой всех благодарных жителей Италии. Мы составили текст присяги, которая будет принята до конца лета. Возможно, даже лучше, что ты не можешь начать свой трибунат с внесения закона о всеобщем избирательном праве.
Друз вспыхнул, не поверив своим ушам. Не просто армия – целые народы-клиенты!
Он начал свою законотворческую деятельность с предложения поделить главные суды между сенаторами и всадниками, а также с законопроекта об увеличении численности сената. Впрочем, озвучил он свои предложения не в плебейском собрании, а в сенате, попросив наделить его полномочиями вынести на обсуждение народного собрания уже одобренные сенатом законопроекты.
– Я не демагог, – убеждал он в Гостилиевой курии притихших слушателей в тогах. – В моем лице вы имеете народного трибуна будущего – человека, чей возраст и опыт позволяют оценить все преимущества установленного порядка, человека, который до последнего вздоха будет биться за auctoritas сената. Никакие мои нововведения не вызовут удивления у благородных сенаторов, ибо я сначала оглашу их здесь, чтобы получить ваше одобрение. Я не попрошу у вас ничего, что было бы недостойно вас, как ничто из того, чем занимаюсь я сам, не роняет моего достоинства. Я – сын народного трибуна, относившегося к своему долгу так же, как отношусь к нему я, сын консула и цензора, сын полководца, успешно отбросившего в Македонии скордисков и удостоенного триумфа. Я – потомок Эмилия Павла, Сципиона Африканского, Ливия Салинатора. Я – обладатель древнего имени, для моей нынешней должности я весьма умудрен годами.
Здесь, отцы, внесенные в списки сената, в этом собрании представителей древних и славных родов, бьет источник римского права, римской власти, римского управления. В этом собрании, в этих стенах я буду говорить сначала, надеясь на вашу мудрость, дальновидность, способность понять, что все мои предложения логичны, оправданны и необходимы.
Дослушав эту речь, сенаторы разразились рукоплесканиями с признательностью, какую могли испытывать только люди, собственными глазами видевшие деяния трибуна Сатурнина. Перед ними стоял особенный народный трибун – в первую очередь сенатор и только после этого слуга плебса.
Консулы, которые вот-вот должны были сложить с себя полномочия, обладали широкими взглядами; преторы, тоже отработавшие свой срок, мыслили не менее независимо. Поэтому Друз почти без сопротивления заручился согласием сената на вынесение обоих своих законов на обсуждение. Позиция новых консулов была более консервативной, тем не менее Секст Цезарь поддерживал Друза, а Филипп не подавал голоса. Возражал один Цепион, но поскольку все знали о его вражде с бывшим шурином, на его возражения никто не обращал внимания. Друз ожидал сопротивления в плебейском собрании, где очень сильны были всадники, но и там оно оказалось довольно слабым. Он объяснял это тем, что внес оба законопроекта на одном contio и некоторое число всадников клюнули на приманку, спрятанную во втором законе. Шанс занять место в сенате, которого та же группа всадников ранее не имела, ввиду малочисленности сенаторского сословия, был большим соблазном. Кроме того, справедливым казалось и равное число участников в коллегиях присяжных, где нечетный член – пятьдесят первый присяжный – теперь оказывался всадником, тогда как председателем коллегии – сенатор. Честолюбие было удовлетворено.
Вся затея Друза строилась на согласии между двумя сословиями, сенаторским и всадническим: вместе они должны были выступить за перемены. Друз осуждал Гая Семпрония Гракха, забившего между ними клин.
– В разделении двух сословий повинен Гай Гракх, это он возвел искусственный барьер, ибо кто такой член сенаторской семьи, не являющийся сенатором даже сейчас, если не всадник? Если ему хватает денег, чтобы записаться всадником, его таковым и записывают, ведь в сенате уже много мест занято его родственниками. И всадники, и сенаторы принадлежат к первому классу! В одной семье могут оказаться члены обоих сословий, тем не менее по милости Гая Гракха мы страдаем от искусственного разделения. Все зависит от цензоров. Вступив в сенат, человек не может заключать торговые сделки, не связанные с землей. Так было и так есть, – вещал Друз в плебейском собрании, где ему внимало большинство сенаторов.
– Такие деятели, как Гай Гракх, не должны вызывать восхищения или одобрения, – продолжал он, – но нет ничего дурного в том, чтобы претворить в жизнь кое-какие их идеи! Гай Гракх первым предложил увеличить число сенаторов. Однако из-за царившей тогда атмосферы, из-за жесткой оппозиции моего отца, а также из-за более сомнительных пунктов программы Гракха из этого ничего не вышло. Теперь, пусть я и сын своего отца, я даю этому предложению Гракха новую жизнь, видя, как оно полезно и благотворно в наше время! Рим растет. Общественные требования, предъявляемые к каждому гражданину, тоже повышаются. И при этом пруд, в котором мы отлавливаем наших государственных деятелей, застоялся и зарос. И сенату, и всадникам пора расширить и почистить этот водоем. Цель моих предложений – помочь обеим сторонам, всем обитателям этого пруда.
Законы были приняты в январе нового года, несмотря на сопротивление младшего консула Филиппа и Цепиона, одного из римских преторов. Друз мог облегченно перевести дух: начало было положено. Пока что он не нажил врагов. Возможно, питать особенно большие надежды и не следовало, но дело продвигалось гораздо лучше, чем он ожидал.
В начале марта он повел речь об ager publicus, общественной земле, зная, что его маска непременно сползет и что ультраконсерваторы обязательно обнаружат, насколько опасен этот выходец из их среды. Но, посвятив в свой замысел принцепса сената Скавра, Красса Оратора и Сцеволу, Друз сумел переманить их на свою сторону. А раз это оказалось возможно, то он мог надеяться убедить и весь сенат.
Выступление Друза с первых же слов привлекло всеобщее внимание, обещая нечто неожиданное. Никогда еще он не был так собран, никогда еще его речь не была такой чеканной, а манера держаться – такой безупречной.
– Среди нас воцарилось зло, – начал Друз, стоя спиной к большим бронзовым дверям, которые он заранее попросил закрыть. Сделав паузу, он медленно оглядел весь сенат, словно обращаясь к каждому в отдельности. – Зло поселилось среди нас. Великое зло. Мы сами навлекли его на себя, сами его породили. Как? Тем, что самонадеянно считали все наши деяния достойными восхищения, верными и уместными. Из уважения к нашим предкам я не стану осуждать и чернить тех, кто положил начало злому злу, заседая в былые времена в этих благородных стенах.
– Так что это за зло? – риторически воскликнул Друз, поднимая брови и понижая голос. – Общественное землевладение, отцы, внесенные в списки! Ager puiblicus – вот оно, зло! Да, это зло! Мы забрали лучшие земли у наших италийских союзников, у сицилийцев, у чужеземных врагов и превратили их в свои, назвав общественной землей Рима. Мы сделали это в убеждении, что приумножаем общее достояние Рима, что эти плодородные земли послужат нашему вящему процветанию. Но ведь вышло иначе? Вместо того чтобы сохранить исходный размер наделов, мы увеличили сдаваемые в аренду участки, дабы облегчить бремя забот нашим государственным служащим из боязни, что римская власть уподобится греческому бюрократическому аппарату. Это мы сделали общественные земли непривлекательными для наших земледельцев, отпугнув их размерами наделов и огромной арендной платой. Общественная земля отошла богачам, способным заплатить за аренду, и они занялись на этой земле тем хозяйствованием, которое диктуется размерами площадей. Раньше эти земли кормили Италию, а теперь на них разводят овец. Раньше их любовно возделывали, а теперь они огромны, разбросаны и часто заброшены.
Лица перед ним посуровели; сердце в груди Друза замерло, стало трудно дышать; как ни старался он выглядеть спокойным, все сложнее было приводить убедительные доводы. Его не перебивали, давали высказаться до конца. Он был вынужден продолжать, делая вид, что не замечает перемены в слушателях.
– Но это, отцы-законодатели, только начало зла. Это то, что увидел еще Тиберий Гракх во время поездки по латифундиям Этрурии, где трудились рабы-чужеземцы вместо славных жителей Италии и Рима. То же самое увидел Гай Гракх, продолживший спустя десять лет дело своего погибшего брата. Я тоже это вижу. Но я не Семпроний Гракх. В отличие от братьев Гракхов, я не считаю, что из-за этого нужно отказаться от mos maiorum, наших обычаев, правил и традиций. В дни братьев Гракхов я бы занял сторону моего отца.
Он сделал паузу и обвел слушателей пылающим взором.
– Я честен с вами, отцы-сенаторы! И при Тиберии Гракхе, и при Гае Гракхе я стоял бы рядом с моим отцом. Он был прав тогда. Но времена изменились. Возникли другие обстоятельства, усугубляющие зло, исходящее от ager publicus. Начну с волнений в нашей провинции Азия, вспыхнувших из-за откупной системы, введенной там Гракхом. В Италии это практиковалось и раньше, но налоги никогда не были так высоки. В результате сенаторского небрежения и роста влияния некоторых фракций среди всаднического сословия образцовая администрация в провинции Азия подверглась критике и нападкам. Что же мы видим? В итоге над нашим уважаемым консуляром Публием Рутилием Руфом был устроен показательный суд, на котором членам римского сената дали понять, что нам лучше не заходить на чужую территорию. Я начал борьбу с этой тактикой устрашения, предложив сословию эквитов поровну разделить с сенаторами контроль над судами, а понесенный всадниками ущерб возместил увеличением числа сенаторов. Но зло все еще не побеждено.
Уже не все лица были так же суровы. Упоминание его дражайшего дяди Публия Рутилия Руфа, а также, как заметил Друз, похвала в адрес Квинта Муция Сцеволы в провинции Азия сыграли на руку оратору.
– К прежнему злу, отцы-законодатели, добавилось новое. Многие ли из вас знают, о чем идет речь? Думаю, очень немногие. Я имею в виду зло, порожденное Гаем Марием, хотя должен оговориться, что этот славный государственный муж, шесть раз избиравшийся консулом, не мог предвидеть последствий своих деяний. В том-то и беда! Новорожденное зло воспринимается как благо. Оно – результат перемен, необходимости изменения равновесия в нашей системе управления, в наших армиях. У нас не хватало солдат. Почему же? Одна из причин коренится в вопросе общественного землевладения. Дело в том, что создание общественного фонда согнало крестьян с их наделов, они перестали рожать сыновей, и у нас некем стало пополнять армию. Глядя по прошествии времени на реформы Гая Мария, мы можем сказать, что он сделал единственно возможное: открыл доступ в армию неимущим, превратил в солдат тех, кому не на что покупать оружие, кто не происходит из семей землевладельцев, – одним словом, тех, у кого в карманах не найдется и двух сестерциев…
Он говорил тихо, заставляя аудиторию напрягать слух и вытягивать шеи.
– Жалованье в армии невелико. Наши трофеи после разгрома германцев были жалкими. Гай Марий и его легаты научили нищих рекрутов воевать, показали им, где у меча рукоять, где острие, привили им чувство римской гордости. Тут я согласен с Гаем Марием! Мы не можем отправить этих людей обратно в их городские трущобы или жалкие сельские лачуги. Так мы породим еще худшее зло – массу обученных военному делу людей с пустыми кошельками, ничем не занятых и считающих, что с ними и им подобными мы и нам подобные поступили не по справедливости. Ответ Гая Мария – а он нашел этот ответ, еще когда воевал в Африке с царем Югуртой, – состоял в том, чтобы селить армейских ветеранов, не имеющих средств, на общественных землях чужих стран. Этим долго и успешно занимался на островах в Малом Сирте городской претор прошлого года Гай Юлий Цезарь. Я придерживаюсь мнения – и настойчиво призываю вас, собратья-сенаторы, видеть в моих словах лишь предостережение на будущее, – что Гай Марий был прав и что нам следует продолжать селить этих неимущих ветеранов на ager publicus в чужих краях.
Всю свою речь Друз произносил не сходя с места. У некоторых при одном звуке имени Гая Мария окаменели лица, но сам Марий по-прежнему сидел на своем почетном месте консуляра, сохраняя достоинство и невозмутимость. В среднем ярусе напротив Мария, восседавшего в центре, сидел бывший претор Луций Корнелий Сулла, уже вернувшийся из Киликии, где был наместником, и проявлявший к речи Друза заметный интерес.
– Все это, однако, не относится к самой насущной беде – общественным землям Италии и Сицилии. Надо что-то делать! Потому что, пока мы не справимся с этим злом, оно будет разъедать наш моральный дух, нашу этику, наше чувство справедливости, mos maiorum, сами основы нашего существования. Сейчас общественные земли в Италии принадлежат тем из нас и тем всадникам первого класса, кто заинтересован в латифундиях и пастбищах. Общественные земли на Сицилии принадлежат некоторым крупным производителям зерна, живущим по большей части здесь, в Риме, доверяя хозяйство надсмотрщикам и рабам. Полагаете, это стабильная ситуация? Тогда подумайте вот о чем. С тех пор как Тиберий и Гай Семпронии Гракхи заронили в наши умы эту мысль, общественные земли Италии и Сицилии так и ждут, пока их нарежут на участки и расхватают. Насколько благородны будут полководцы будущего? Удовольствуются ли они, подобно Гаю Марию, расселением своих ветеранов на чужбине или соблазнят своих солдат италийскими землями? А как насчет благородства народных трибунов будущих лет? Не появится ли новый Сатурнин, который поманит чернь обещанием раздачи земель в Этрурии, Кампании, Умбрии, на Сицилии? Как насчет благородства будущих плутократов? Что, если их владения на общественных землях будут и впредь увеличиваться в размерах и в конце концов всего двое-трое завладеют половиной Италии, половиной Сицилии? Что проку твердить, что ager publicus – собственность государства, если оно само сдает их и если люди, управляющие государством, вправе принимать относительно этих земель любые законы, какие пожелают?
Друз набрал в легкие побольше воздуху, широко расставил ноги и перешел к заключительной части своей речи.
– Избавиться от них раз и навсегда – вот мое предложение! Покончить с так называемыми общественными землями в Италии и на Сицилии! Наберемся же отваги и сделаем то, что должны: нарежем все наши общественные земли и раздадим их бедным, нуждающимся, солдатам-ветеранам! Начнем с богатейших среди нас, с аристократов из аристократов: пожалуем каждому сидящему здесь его десять югеров общественной земли, и так каждому римскому гражданину! Для некоторых из нас это сущая безделица, но для других это большая ценность, чем все, чем они обладают. Раздадим общественные земли! Все до последнего клочка! Ничего не оставим будущим погубителям, не дадим им оружия для покушения на нас, наш класс, наше богатство. Оставим их с пустыми руками – нерозданными останутся только caelum aut caenum, небо и грязь! Я поклялся сделать это, отцы, внесенные в списки, и я это сделаю! И не потому, что так тревожусь за судьбу бедных и нуждающихся. Не потому, что мне так важна судьба наших ветеранов из бедноты. Не потому, что я завидую сенаторам и нашим всадникам-скотоводам, арендующим эти земли. Причина – единственная причина, других нет! – заключается в том, что общественные земли Рима грозят бедой в будущем, когда какой-нибудь полководец посулит их своим войскам, когда народный трибун-демагог увидит в них способ пролезть в Первые Люди Рима или когда два-три плутократа увидят в этом способ завладеть всей Италией и Сицилией!
Сенат услышал его и теперь раздумывал – в этом Друз был уверен. Филипп промолчал, а когда Цепион захотел взять слово, Секст Цезарь возразил ему, коротко молвив, что сказано уже достаточно и что заседание возобновится завтра.
– Ты славно потрудился, Марк Ливий, – похвалил Друза Марий, проходя мимо него. – Продолжай в том же духе, так ты станешь первым в истории народным трибуном, завоевавшим сенат.
К удивлению Друза, к нему подошел Луций Корнелий Сулла, с которым он был едва знаком, и попросил без промедления продолжить разговор.
– Я только что вернулся с Востока, Марк Ливий, и хочу узнать все в подробностях. Я имею в виду два закона, которые ты уже провел, а также то, что ты думаешь об общественных землях, – сказал Сулла, обветренное лицо которого сделалось более мужественным.
Сулле и впрямь было интересно, потому что он принадлежал к тем немногим из слушавших Друза, кто понимал, что тот не радикал, не реформатор, а настоящий консерватор, заботящийся главным образом о сохранении прав и привилегий своего класса, желающий сохранить Рим таким, каким он был всегда.
Они прошли не дальше комиция, где можно было не опасаться зимнего ветра и где Друз изложил ему свою позицию. Иногда Сулла задавал вопросы, но Друза было не остановить: он был признателен патрицию из Корнелиев, согласившемуся выслушать то, что большинство патрициев из Корнелиев сочли бы изменой. В конце разговора Сулла с улыбкой протянул руку и искренне поблагодарил Друза.
– Я проголосую за тебя в сенате, пусть в плебейском собрании и не смогу за тебя голосовать, – сказал он.
До Палатина они дошли вместе, но ни тот ни другой не выказали желания продолжить беседу в более теплой обстановке за кувшином вина: не возникло симпатии, которая располагала бы к подобному предложению. У дома Друза Сулла хлопнул его по спине и отправился по спуску Виктории к проулку, ведшему к его дому. Ему не терпелось поговорить с сыном, чей совет он все больше ценил, хотя до зрелой мудрости юноше было еще далеко, что Сулла вполне понимал. Сулла-младший был скорее резонатором его речей. Для человека с немногочисленными клиентами и в отсутствие армии сторонников такой слушатель представлял бесценное сокровище.
Но дома Суллу ждало неприятное известие: по словам Элии, Сулла-младший слег с сильной простудой. Суллу дожидался клиент, утверждавший, что принес срочную новость, но нездоровье сына сразу заставило Суллу обо всем забыть. Он бросился не в кабинет, а в удобную гостиную, где Элия уложила его ненаглядного сына, рассудив, что душная тесная спальня не годится для больного. У бедняги был жар, болело горло, он кашлял, чихал и все время сморкался и харкал, но в покрасневших глазах читалось обожание. Сулла успокоился, поцеловал сына и сказал, желая и его успокоить:
– Если лечиться, эта беда продлится две нундины, если нет – шестнадцать дней. Мой тебе совет: не препятствуй Элии ухаживать за тобой.
После этого Сулла направился в кабинет, хмуро гадая, кто и что его ждет; клиенты редко за него беспокоились, ибо он не отличался щедростью и не баловал их дарами. Это были в основном солдаты и центурионы, мелкие провинциальные и деревенские людишки, некогда попавшиеся на его пути, получившие от него помощь и попросившиеся в клиенты. Таких набиралось не много, и считаные из них знали его адрес в городе Риме.
Гостем оказался Метробий. Сулле следовало бы догадаться, кто его гость, но он не догадался, что свидетельствовало о том, что его старания выбросить Метробия из головы увенчались успехом. Сколько тому сейчас лет? Тридцать с небольшим: тридцать два, тридцать три. Куда уходят годы? В забвение. Но Метробий оставался Метробием и, судя по приветственному поцелую, по-прежнему был весь к его услугам. Потом Сулла содрогнулся: когда Метробий появился в его доме в прошлый раз, умерла Юлилла. Он не приносил удачи, только любовь. Но Сулла не променял бы удачу на любовь. Он решительно отстранился от Метробия и уселся за свой стол.
– Тебе не следовало сюда приходить, – бросил он.
Метробий вздохнул, грациозно опустился в клиентское кресло, оперся локтем о стол и устремил на Суллу взгляд своих прекрасных карих глаз.
– Я знаю, Луций Корнелий, но я твой клиент. Ты добился для меня гражданства без статуса вольноотпущенника, и по закону я – Луций Корнелий Метробий из трибы Корнелиев. Твой управляющий больше озабочен редкостью моих визитов, нежели тем, что я сюда зачастил. Я не делаю и не говорю ничего, что повредило бы твоей драгоценной репутации, – ни друзьям и коллегам в театре, ни любовникам, ни твоим слугам. Прошу, окажи мне доверие, которое я вполне заслуживаю!
Сулла смахнул некстати навернувшиеся слезы.
– Я знаю, Метробий. Знаю и благодарен тебе. – Он вздохнул, встал и подошел к шкафчику с вином. – Выпьешь?
– Благодарю.
Сулла поставил перед Метробием серебряный кубок, обнял его за плечи и, стоя у него за спиной, прижался щекой к его густым черным волосам. Потом, не дав Метробию схватить его за руки, он вернулся в свое кресло.
– Что за срочное дело? – спросил он.
– Знаешь человека по имени Цензорин?
– Которого? Молодого противного Гая Марция или Цензорина – богатого завсегдатая Форума с дурацкими претензиями на место в сенате?
– Второго. Не думал, что ты так хорошо знаешь своих римских земляков, Луций Корнелий.
– После нашей последней встречи я стал городским претором. Эта должность залатала много дыр в моих познаниях.
– Могу себе представить…
– Что там с этим вторым Цензорином?
– Он собрался выдвинуть против тебя обвинение в государственной измене на том основании, что ты якобы получил крупную взятку от парфян за то, что предал интересы Рима на Востоке.
Сулла заморгал:
– Боги! Не предполагал, что в Риме кому-то известно о моих приключениях на Востоке. Это настолько никого не интересует, что в сенате от меня даже не потребовали отчета. Что он может знать о событиях за пределами Римского форума, тем более восточнее Евфрата? И как проведал об этом ты, раз до меня не долетело ни словечка?
– Он любитель театра, главное его развлечение – устраивать вечеринки с участием актеров, желательно трагиков. Я регулярно там бываю, – продолжил Метробий с улыбкой, в которой не было ни капли уважения к Цензорину. – Нет, Луций Корнелий, он не мой любовник! Терпеть его не могу. А вот вечеринки люблю. Увы, ни одна не сравнится с теми, которые устраивал в былые времена ты… Но Цензорин старается. К нему захаживают одни и те же люди, я их хорошо знаю и ценю. Хозяин не скупится на угощение и вино. – Метробий пожевал красными губами, размышляя. – Тем не менее от моего внимания не ускользнуло, что в последние месяцы к нему стали заглядывать странные гости. Еще он хвастается моноклем из чистейшего изумруда – купить такой камень ему не под силу, даже если он наскребет денег на место в сенате. Изумруд больше под стать Птолемею Египетскому, чем какому-то завсегдатаю сенатских прений.
Сулла с улыбкой цедил вино.
– Восхитительно! Вижу, мне следовало бы поискать дружбы этого Цензорина – после суда, а может, и раньше. Что ты о нем думаешь?
– По-моему, он шпион – но чей? То ли парфян, то ли еще каких-то восточных правителей. Его необычные гости определенно оттуда: расшитые золотом одеяния, сами усыпаны драгоценными камнями, полно денег, которые они сыплют в любую жадно подставленную римскую ладонь.
– Парфяне ни при чем, – уверенно сказал Сулла. – Им нет дела до происходящего к западу от Евфрата, это я понял. Нет, это Митридат. Или Тигран Армянский. Но я бы поставил на Митридата Понтийского. Ну-ну… – Он весело потер руки. – Выходит, мы с Гаем Марием серьезно обеспокоили Понт. Кажется, Сулла сделал для этого больше, чем Марий. Я ведь потолковал с Тиграном и заключил договор с сатрапами парфянского царя. Ну-ну…
– Что ты можешь сделать? – в тревоге спросил Метробий.
– Не бойся за меня, – бодро сказал Сулла, захлопывая ставни. – Предупрежден – значит вооружен. Я выжду и посмотрю, что предпримет Цензорин. А потом…
– Что потом?
Сулла злобно улыбнулся, обнажив зубы:
– Я заставлю его пожалеть, что он появился на свет. – Он подошел к двери в атрий, задвинул засов, потом сделал то же самое с дверью в колоннаду перистиля. – А раз уж ты все равно заявился сюда, величайшая любовь моей жизни, не считая моего сына, я не могу тебя отпустить, не прикоснувшись к тебе.
– Я и сам не уйду.
Они стоя обнялись, положив подбородки на плечи друг другу.
– Помнишь все эти годы? – мечтательно спросил Метробий, улыбаясь и жмурясь.
– Тебя в дурацкой желтой тунике, с текущей по ляжкам краской? – Сулла тоже улыбнулся, одной рукой гладя его по голове, другой сладострастно скользя по прямой мускулистой спине.
– А ты был в парике из маленьких живых змеек.
– Я же был медузой.
– Поверь, ты был очень достоверен.
– Слишком много болтаешь!
…Метробий ушел спустя час с лишним; никто в доме не обратил внимания на его визит, хотя Сулла поведал внимательной и любящей Элии, что ему сообщили о предстоящем разбирательстве в суде по обвинению в государственной измене.
Она ахнула и затрепетала:
– О, Луций Корнелий!..
– Не волнуйся, дорогая, – отмахнулся Сулла. – Обещаю, это кончится ничем.
Она все равно не могла успокоиться.
– Ты хорошо себя чувствуешь?
– Поверь, жена, много лет я не чувствовал себя так хорошо и не желал так страстно твоей любви. – Сулла обнял ее за талию. – Идем в постель.
Сулле не пришлось расспрашивать о Цензорине, потому что тот уже назавтра сам нанес удар. Он явился к городскому претору, Квинту Помпею Руфу из Пицена, и потребовал разбирательства в суде по обвинению в государственной измене против Луция Корнелия Суллы, подкупленного парфянами и предавшего Рим.
– У тебя есть доказательства? – сурово спросил Помпей Руф.
– Доказательства имеются.
– Изложи их мне.
– Я не стану, Квинт Помпей. В суде я расскажу все, что мне известно. За такое преступление положена смертная казнь. Я не требую наложения штрафа. Закон не обязывает меня раскрывать обстоятельства дела тебе. – Говоря это, Цензорин поглаживал под тогой свою драгоценность, которую страшно было и оставлять дома, и носить открыто.
– Хорошо, – сухо произнес Помпей Руф. – Я попрошу председателя quaestio de maiestate созвать суд через три дня у Курциева озера.
Помпей Руф проводил взглядом Цензорина, шмыгнувшего через Нижний форум к Аргилету, потом щелкнул пальцами, подзывая помощника, младшего сенатора из рода Фанниев.
– Побудь здесь, – сказал он, вставая. – Мне надо сходить по делу.
Он нашел Луция Корнелия Суллу в таверне на Новой дороге. Поиски были недолгими: как и полагалось хорошему городскому претору, Помпей Руф знал, к кому обращаться с вопросами. Сулла выпивал в обществе самого Скавра, одного из немногих в сенате, кому были небезразличны достижения Суллы на Востоке. Они сидели за столиком в глубине таверны – популярного места встреч среди сенаторов; и все же при появлении третьего посетителя в toga praetexta хозяин заведения вытаращил глаза: принцепс сената и два городских претора – небывалая удача! Ему уже не терпелось похвастаться ею перед приятелями.
– Вина и воды, Клоатий, – велел Помпей Руф, проходя мимо хозяина. – И получше!
– Ты о вине или о воде? – спросил с невинным видом Публий Клоатий.
– О том и другом, болтун! Хочешь на скамью подсудимых? – И Помпей Руф с улыбкой присоединился к Сулле и принцепсу сената.
– Хочешь рассказать о Цензорине? – обратился к нему Сулла.
– О нем, – кивнул городской претор. – Не иначе, твои источники лучше моих, потому что, клянусь, меня он застал врасплох.
– На свои источники я не жалуюсь, – согласился Сулла, ухмыляясь. Ему нравился этот выходец из Пицена. – Речь об измене?
– Об измене. Он говорит, что располагает доказательствами.
– У засудивших Публия Рутилия Руфа они тоже были.
– Лично я поверю в это только тогда, когда увижу вымощенные золотом мостовые Бардули, – сказал Скавр, выбрав беднейший во всей Италии городишко.
– Как и я, – фыркнул Сулла.
– Чем могу помочь? – спросил Помпей Руф, принимая у владельца таверны пустую чашу и наливая туда вино и воду. – То и другое – дрянь! – крикнул он, вскидывая голову. – Ах ты, негодник!
– Попробуй найти на Новой дороге что-нибудь получше, – отозвался Публий Клоатий без тени обиды и неохотно отошел, лишившись возможности услышать продолжение разговора.
– Ничего, я разберусь, – беспечно ответил Сулла.
– Назначенные мной слушания пройдут через три дня у Курциева озера. К счастью, закон Ливия вступил в силу, и коллегия присяжных будет наполовину состоять из сенаторов, а это куда лучше коллегии из одних всадников. Как же им ненавистна мысль о сенаторе, богатеющем за чужой счет! Хотя себе они в этом не отказывают, – заметил Помпей Руф с отвращением.
– Почему суд по делам об измене, а не о подкупе? – спросил Скавр. – Раз он утверждает, что ты получил вознаграждение, значит это подкуп.
– По словам Цензорина, это была плата за предательство наших интересов на Востоке, – объяснил городской претор.
– Я привез договор, – напомнил ему Сулла.
– Что верно, то верно! – горячо поддержал его Скавр. – Впечатляющее достижение!
– Собирается ли сенат его ратифицировать? – спросил Сулла.
– Непременно, Луций Корнелий, слово Эмилия Скавра!
– Я слышал, что ты принудил парфян и армянского царя сидеть ниже тебя! – Городской претор недоверчиво покачал головой. – Ты молодец, Луций Корнелий! Этим восточным царькам полезно указать место.
– Уверен, что Луций Корнелий пойдет по стопам Попиллия Лената, – подхватил с улыбкой Скавр. – В следующий раз он тоже начертит палкой круги вокруг их ног. – Он нахмурился. – Но вот что мне любопытно: откуда Цензорин добыл сведения о событиях на Евфрате?
– Думаю, он – шпион одного из восточных царей, – высказал осторожное предположение Сулла, не зная, изменил ли Скавр свое отношение к Митридату Понтийскому.
– Митридата Понтийского? – разочарованно бросил Скавр.
– Ты ждал иного? – спросил его Сулла с улыбкой.
– Я предпочитаю думать о людях хорошо, Луций Корнелий. Но я не дурак. – С этими словами Скавр встал и бросил хозяину таверны денарий, который тот ловко поймал. – Налей им еще твоего распрекрасного вина, Клоатий!
– Раз оно такое плохое, почему ты не пьешь у себя дома черное хиосское и фалернское? – крикнул Публий Клоатий вслед молча удаляющемуся Скавру.
Тот в ответ лишь сделал непристойный жест, вызвав у Клоатия приступ хохота.
– Вот ведь старый чудак! – Он поставил на стол новый кувшин с вином. – Что бы мы без него делали?
Сулла и Помпей Руф удобно развалились в креслах.
– Ты нынче не в суде? – спросил Сулла.
– Я оставил там молодого Фанния. Пусть повозится с сутягами из римской черни, это пойдет ему на пользу, – ответил Помпей Руф.
Некоторое время они тянули вино (на самом деле неплохое, в чем никто и не сомневался), чувствуя себя более свободно после того, как их покинул Скавр.
Наконец Помпей Руф спросил:
– Ты будешь выдвигаться в консулы в конце этого года, Луций Корнелий?
– Не думаю, – ответил Сулла, посерьезнев. – Раньше у меня была такая надежда, поскольку я полагал, что Рим восхитится договором с парфянским царем, приносящим нам столько выгод. Но Форум даже не колыхнулся при этом известии, не говоря о выгребной яме под названием «сенат». С тем же успехом я мог бы торчать в Риме и брать здесь уроки эротических танцев – тогда обо мне говорили бы гораздо больше. Поэтому остается только подкуп избирателей. Но это зряшная трата денег. Такие, как Рутилий Луп, могут предложить раз в десять больше.
– Я тоже хочу быть консулом, – молвил с не меньшей серьезностью Помпей Руф, – но сомневаюсь в своих шансах, потому что я из Пицена.
Сулла широко раскрыл глаза:
– Среди преторов ты набрал больше всего голосов, Квинт Помпей! Это что-то да значит!
– И ты два года назад, – напомнил Сулле Помпей Руф, – тем не менее ты низко оцениваешь свои шансы. Если уж патриций Корнелий, тоже praetor urbanus, считает, что ему не стать консулом, то на что надеяться не просто «новому человеку», а уроженцу Пицена?
– Верно, я патриций Корнелий, но я не Сципион и не внук Эмилия Павла. Я не блистаю красноречием, и, пока я не стал городским претором, завсегдатаи Форума не отличили бы меня от последнего евнуха из храма Великой Матери. Я возлагал все мои надежды на этот исторический договор с парфянами и на то, что первым перешел с римской армией реку Евфрат. И что же? Оказалось, что Форум гораздо сильнее впечатлен деяниями Друза.
– Он-то станет консулом, когда только пожелает.
– Он не проиграл бы, даже если бы против него выставили Сципиона Африканского и Сципиона Эмилиана. Между прочим, Квинт Помпей, его дела впечатляют и меня.
– Как и меня, Луций Корнелий.
– По-твоему, он прав?
– Да.
– По-моему тоже.
Они снова умолкли. Тишину нарушал только Публий Клоатий, обслуживавший четырех новых посетителей, которые опасливо поглядывали на две тоги с пурпурной каймой в дальнем углу.
– А как тебе такое предложение? – начала Публий Руф, медленно вращая в руках оловянную чашу и заглядывая в нее. – Подождем еще пару лет и попробуем стать консулами вдвоем? Мы оба – городские преторы, оба хорошо проявили себя в армии, оба не мальчишки, у обоих имеются кое-какие средства… Избирателям нравятся парные кандидаты, – это сулит хорошие отношения между консулами на протяжении года. Вместе мы вернее добьемся успеха, чем порознь. Что скажешь, Луций Корнелий?
Сулла в упор посмотрел на румяное лицо Помпея Руфа – голубоглазого, с правильными, немного кельтскими чертами лица, с густыми рыжими кудрями.
– То и скажу, – отчетливо проговорил он, – что мы составим прекрасную пару! Две рыжие башки на противоположных флангах сената – будет на что посмотреть! Знаешь, мы с тобой наверняка приглянемся этой куче вздорных капризных задниц! Они ценят шутку, а чем не шутка – два рыжих жеребца одинакового роста и телосложения, но из разных конюшен? – Он протянул руку. – У нас все получится, друг мой! У нас обоих нет седины, которая испортила бы впечатление, и лысинами мы еще не обзавелись.
Торопясь показать, как он рад, Помпей Руф стиснул Сулле руку:
– Договорились, Луций Корнелий!
– Договорились, Квинт Помпей! – Сулла не мог прийти в себя от радости при мысли об огромном богатстве Помпея Руфа. – У тебя есть сын?
– Есть.
– Сколько ему лет?
– В этом году исполнился двадцать один.
– Как насчет невесты?
– Еще нет.
– У меня есть дочь. Патрицианка по отцу и по матери. В июне – уже после нашего совместного выдвижения в консулы – ей исполнится восемнадцать. Как тебе предложение поженить наших детей в месяц квинтилий, через три года?
– Мне нравится, Луций Корнелий!
– У нее будет хорошее приданое. Дед перед смертью переписал на нее состояние ее матери, сорок талантов серебра. Это миллион с лишним сестерциев. Хватит?
Помпей Руф довольно закивал:
– Давай прямо сейчас объявим на Форуме о планах нашего совместного выдвижения!
– Прекрасная мысль! Пусть избиратели привыкают, а когда настанет время выбирать, они автоматически проголосуют за нас.
– Вот и он! – донеслось из дверей.
И в таверну вошел Гай Марий. Пьянчуги за столиком у прилавка вытаращили глаза и разинули рты, но Марий прошел мимо, не обратив ни них никакого внимания.
– Наш досточтимый принцепс сената сказал, что ты здесь, Луций Корнелий, – начал Марий, садясь. Глядя на хлопочущего поблизости Клоатия, он прикрикнул: – Неси свой уксус, Клоатий!
– Давно пора! – откликнулся Публий Клоатий, обнаружив, что кувшин на столе почти пуст. – Хотя что вы, италики, смыслите в вине?
Марий хмыкнул:
– Смотри, договоришься, Клоатий! Следи за своими манерами и за языком.
Покончив с обменом любезностями, Марий перешел к делу, довольный, что застал в обществе Суллы Помпея Руфа.
– Хочу услышать, как вы оба относитесь к новым законам Марка Ливия, – начал он.
– Мы относимся к ним одинаково, – сказал Сулла, несколько раз заходивший к Марию после возвращения, но так и не сумевший с ним поговорить. У Суллы не было оснований считать, что Марий его избегает: просто он заявлялся в неудачное время. Однако последний раз, уходя, Сулла дал себе слово, что больше не вернется. Поэтому он еще не рассказывал Марию о событиях на Востоке.
– Как именно? – спросил Марий, определенно не подозревавший, что невольно обидел Суллу.
– Он прав.
– Хорошо. – Он откинулся в кресле, пропуская Публия Клоатия к столу. – Его земельному закону нужна поддержка, и я решил вербовать для него сторонников.
– Это ему поможет, – сказал Сулла, не найдя других слов.
Марий повернулся к Помпею Руфу:
– Ты хороший городской претор, Квинт Помпей. Когда собираешься баллотироваться в консулы?
Помпей Руф вспыхнул от удовольствия.
– Мы как раз обсуждали это с Луцием Корнелием! – воскликнул он. – Мы решили баллотироваться вместе через три года.
– Разумно! – одобрил Марий, сразу поняв смысл затеи. – Превосходная пара! – Он засмеялся. – Не отступайте от своего решения, оставайтесь вместе. Вы легко добьетесь желаемого.
– Хотелось бы, – ответил довольный Помпей Руф. – Мы даже условились о брачном договоре.
Брови Мария взлетели вверх.
– Вот как?