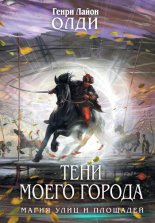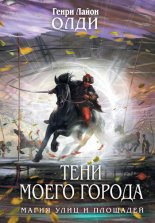Битва за Рим Маккалоу Колин
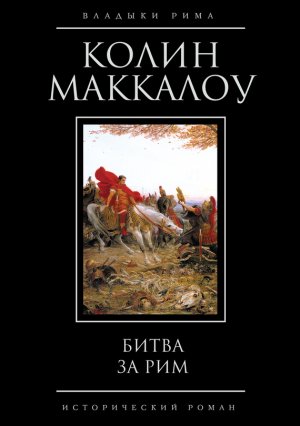
– От души надеюсь на это, Луций Корнелий.
Они пошли в сторону сената.
– Говорят, Катон Лициниан отправляется в Кампанию, – сказал Скавр. – С ним сложнее иметь дело, чем с Луцием Юлием Цезарем – он так же опасен, но куда более властолюбив.
– Мне он не помеха, – безмятежно ответил Сулла. – Гай Марий назвал его мышью, а его кампанию в Этрурии – мышиной возней. Я знаю, что делать с мышью.
– Что же?
– Раздавить ее.
– Тебе не поручат командование, ты же знаешь. Я сделал, что мог.
– В конечном счете это не имеет значения, – улыбнулся Сулла. – Я приму командование, когда раздавлю мышь.
Из уст другого человека эти слова прозвучали бы пустым бахвальством, над которым Скавр лишь посмеялся бы, но уверенныйаголос Суллы звучал так зловеще, что Скавр невольно содрогнулся.
Третьего января Марку Туллию Цицерону должно было исполниться семнадцать. Поэтому сразу же после выборов в центуриатных комициях щуплый юноша отправился на регистрационный пункт на Марсовом поле. Напыщенный, самоуверенный юнец, когда-то друживший с Суллой-младшим, в последнее время притих. Он был уверен, что его звезда уже закатилась – вспыхнула ярким огоньком на небосклоне и исчезла в чудовищном пламени гражданской войны. Там, где он стоял когда-то, приковывая взгляды восхищенной толпы, было теперь пусто. И кто знает, займет ли когда-нибудь другой его место. Все суды, кроме суда Квинта Вария, были закрыты. Некому было ими заниматься – городской претор, которому они подчинялись, управлял Римом в отсутствие консулов. Они вряд ли откроются вновь, если дела у италиков пойдут так же хорошо. За исключением Сцеволы Авгура, который в свои девяносто уже отошел от дел, никого из прежних наставников Цицерона не осталось. Красс Оратор был мертв, остальных затянул водоворот войны, их успехи на судебном поприще ушли в небытие.
Больше всего Цицерона пугало всеобщее равнодушие: о нем словно бы все забыли, его судьбой никто не интересовался. Те влиятельные люди, с которыми он когда-то водил знакомство и которые еще оставались в Риме, были слишком заняты, чтобы их беспокоить. Нет, конечно же, он беспокоил их, ведь он считал себя и свои обстоятельства исключительными, но никто – ни принцепс сената Скавр, ни Луций Цезарь – не удостоил его беседой. Для них он был слишком ничтожен, какой-то странный мальчишка, выскочка с Форума. И правда, с чего бы большим людям интересоваться его судьбой? Как говорил его отец: теперь-то и он остался без патрона – нечего мечтать о высоких должностях, делай то, что велят, и помалкивай.
Когда он добрался до регистрационного пункта, притулившегося на краю Марсова поля со стороны Латинской дороги, там не было ни одного знакомого ему лица. Лишь старики-заднескамеечники, на которых сенат возложил обязанности сколь важные, столь и тягостные, и, очевидно, неприятные. Когда подошла очередь Цицерона, его удостоил взглядом лишь председатель – остальные были слишком заняты огромными свитками. Вид юноши, который из-за странной формы слишком большой для такого хрупкого тела головы выглядел на редкость нелепо, не вызвал у него ни капли воодушевления.
– Личное имя и родовое имя?
– Марк Туллий.
– Личное имя и родовое имя отца?
– Марк Туллий.
– Личное имя и родовое имя деда?
– Марк Туллий.
– Триба?
– Корнелия.
– Когномен, если имеется?
– Цицерон.
– Класс?
– Первый – всадник.
– Имел ли отец государственного коня?
– Нет.
– Есть ли средства на покупку собственной сбруи?
– Конечно.
– Твоя триба сельская. Какая область?
– Арпин.
– О, земля Гая Мария! Кто патрон твоего отца?
– Луций Лициний Красс Оратор.
– Сейчас никого?
– Сейчас никого.
– Проходил ли военную подготовку?
– Нет.
– Отличишь один конец меча от другого?
– Если ты хочешь знать, умею ли я пользоваться мечом, то нет.
– Держишься в седле?
– Да.
Председатель записал все, что требовалось, и с кислой улыбкой посмотрел на Цицерона:
– Приход за два дня до январских нон, Марк Туллий, и ты получишь назначение в войска.
Вот и все. Ему велели явиться в самый день его рождения. Как он был унижен! Они даже не поняли, кто он! А ведь они наверняка слышали его на Форуме. Но если и так, то ловко это скрыли. Нет сомнений, его пошлют воевать. Начни он вымаливать канцелярскую работу, они бы сочли его трусом, человеку его ума это было совершенно ясно. Поэтому он молчал. Ему не хотелось, чтобы годы спустя какой-нибудь соперник на консульских выборах раскопал позорную пометку напротив его имени.
Его всегда тянуло к людям постарше, и сейчас он не мог припомнить никого, кому можно было бы довериться. Все они были за пределами Рима, исполняя свой воинский долг, все, начиная с Тита Помпония и многочисленных внуков и племянников его почившего патрона и заканчивая его собственными двоюродными братьями. Сулла-младший, единственный друг, которого ему посчастливилось найти, мертв. Кроме дома, пойти больше некуда. Он направился в сторону Кипрской улицы, а оттуда – домой, в Карины, в глубочайшем унынии.
Каждый римский гражданин (в те дни даже неимущий) по достижении семнадцати лет должен был пройти военную службу, но до начала войны с италиками Цицерон даже подумать не мог, что ему когда-нибудь придется стать солдатом. Он рассчитывал, что благодаря знакомствам, приобретенным на Форуме, получит должность, где во всем блеске засияет его литературный талант, а ходить в кольчуге и с мечом ему придется разве что на параде. Но теперь стало ясно, что удачи ему не видать, и он чувствовал всем своим щуплым телом, что его ожидают часы мучительных маршей, которые он ненавидел, и гибель на поле боя.
Отец, который никогда не жаловал Рим, вернулся в Арпин готовить обширные угодья к зиме; только там он был по-настоящему дома. Цицерон знал, что в Рим отец теперь приедет не раньше, чем решится судьба его старшего сына. Младший братишка, восьмилетний Квинт, вернулся домой с отцом. Он был не так одарен, как Марк, и втайне предпочитал сельскую жизнь. Домом сейчас занималась мать, Гельвия, которой пришлось остаться в Риме ради сына, и это приводило ее в негодование.
– От тебя одни неприятности! – сказала она, когда он, одинокий и несчастный до такой степени, что решился искать у нее сочувствия, вернулся домой. – Если бы не ты, я была бы в Арпине, вместе с твоим отцом, и нам бы не пришлось платить за этот возмутительно дорогой дом. Все рабы тут – негодяи и воры. И что мне остается? То время, что я не проверяю расходные книги, я слежу за каждым их шагом. Они разбавляют вино водой, продают негодные оливки по цене отборных, доставляют лишь половину заказанного хлеба и масла, а сами пьют и едят в три горла. Мне самой приходится заниматься покупками. – Она перевела дух и продолжила: – И во всем этом твоя вина, Марк! Эти бешеные амбиции! Знай свое место, разве я не твержу это все время. И что же? Разве кто-нибудь меня слушает? Ты сознательно побуждал отца тратить столько денег – можно подумать, у нас они есть – на это твое образование, подумать только, нашелся Гай Марий! Никогда тебе не быть таким, как он! В жизни не встречала более неуклюжего мальчишки, а, скажи на милость, какой прок от Гомера и Гесиода? Из свитка обед не сваришь. Да и карьеру на них не сделаешь. И теперь я застряла тут, а все потому…
Он не стал дожидаться. Марк Туллий Цицерон метнулся в таблиний, зажимая уши.
За то, что в его распоряжении был кабинет, благодарить следовало отца, который предоставил свою комнату в исключительное пользование многообещающего, наделенного исключительными талантами сына. Поначалу честолюбивые мечты лелеял отец, но вскоре и сын увлекся ими. Как? Держать такой талант в Арпине? Никогда! До рождения Цицерона славу Арпина составлял один лишь Гай Марий, а Туллии Цицероны считали себя выше Мариев, которым далеко было до их ума.
Так что пусть из Мариев выходят люди действия, воины, Туллии Цицероны подарят Риму человека мысли. Воины рождаются и умирают. Философы живут в веках.
Будущий человек мысли захлопнул за собой дверь, заперся изнутри в своем таблинии – чтобы мать не вошла – и зарыдал.
В день своего рождения Цицерон на дрожащих ногах вошел в регистрационный пункт на Марсовом поле. Последовала серия вопросов, хотя и более короткая, чем в прошлый раз.
– Полное имя, включая когномен?
– Марк Туллий Цицерон-младший.
– Триба?
– Корнелия.
– Класс?
– Первый.
Зашуршали свитки с назначениями для тех новобранцев, которые должны были явиться в этот день, среди них был и его. Свиток следовало вручить командиру, прибыв к месту службы. То, что приказом, отданным в устной форме, можно пренебречь, не являлось секретом для практического римского ума. Копия приказа, должно быть, уже была на пути в Капую, где ее вручат офицерам, ведавшим рекрутским набором.
Председатель комиссии внимательно вчитался в довольно пространные приписки, сделанные на приказах Цицерона, и наградил юношу холодным взглядом:
– Что ж, Марк Туллий Цицерон-младший, за тебя – весьма своевременно – ходатайствовали. Первоначально мы хотели направить тебя легионером в Капую. Однако принцепс сената специально просил, чтобы тебя прикомандировали к одному из консулов. Ты назначен к Гнею Помпею Страбону. Тебе следует явиться к нему домой завтра на рассвете и ждать его распоряжений. Комиссия особо отмечает, что ты не прошел предварительной военной подготовки, и рекомендует тебе посвятить все время, оставшееся до вступления в должность, упражнениям на учебном плацу Марсова поля. Это все. Можешь идти.
Цицерон почувствовал небывалое облегчение, хотя коленки тряслись даже сильнее. Он схватил драгоценный свиток и заторопился вон. Должность при командующем! О, да благословят тебя боги, Марк Эмилий Скавр, принцепс сената! Спасибо, спасибо тебе! Я докажу свою незаменимость Гнею Помпею, сделаюсь историком его армии или буду составлять его речи, и мне никогда не придется обнажать меч!
Упражняться в военном искусстве на Марсовом поле Цицерон не собирался: год назад он уже попробовал и понял, что ему не хватает быстроты ног, твердости рук, зоркости глаз и присутствия духа. Вскоре после того, как его заставили отрабатывать удары деревянным мечом, он оказался в центре всеобщего внимания. Но это не имело ничего общего с восхищением слушателей, внимавших ему на Форуме, его упражнения на Марсовом поле вызывали лишь хохот. Со временем он стал всеобщим посмешищем. Товарищи потешались над его визгливым голосом, передразнивали лошадиный смех, издевались над обширными познаниями, а стариковская серьезность юноши делала его достойным главной роли в фарсе. Марк Туллий бросил военную подготовку, поклявшись никогда больше не возобновлять попыток. Ни одному пятнадцатилетнему подростку не нравятся насмешки, тем более подростку, который уже грелся в лучах славы и признания старших и считал себя во всех отношениях замечательным.
Не все рождены быть солдатами, говорил он себе с тех пор. Это не трусость. Скорее полнейшее отсутствие таланта к физическим упражнениям. Нельзя приписать это врожденной слабости характера. Мальчишки его возраста глупы, ничуть не лучше животных, они кичатся своим телом, но не умом. Разве не понимают они, что ум будет их украшением долгие годы спустя после того, как тело начнет дряхлеть? Неужто им хочется быть одинаковыми, как гороховые зерна? Что хорошего в том, что можешь поразить копьем самую середину мишени или одним ударом меча снести башку соломенной кукле? Цицерон был достаточно умен, чтобы понимать: мишени и куклы не имеют ничего общего с настоящей войной, которую, окажись они на поле боя, многие из этих малолетних убийц игрушечных врагов возненавидят.
На следующее утро он завернулся в свою toga virilis и отправился в дом Гнея Помпея Страбона, располагавшийся на Палатине, с той стороны, которая выходила к Форуму. Когда он увидел сотни людей, толпившихся в ожидании приема, он пожалел, что с ним не было отца. Мало кто узнал в нем восходящую звезду ораторского искусства, и никто с ним не заговорил. Постепенно его оттеснили в самый темный угол обширного атрия. Там он простоял несколько часов, наблюдая, как редеет толпа, и ожидая, когда кто-нибудь спросит, по какому он делу. В те дни в Риме не было человека важнее, чем новый первый консул: все хотели засвидетельствовать ему почтение или просить о милости. К тому же у него была громадная армия клиентов, все пицены. Цицерон и не подозревал, что в Риме живет столько пиценов, пока не увидел огромную толпу в доме Помпея Страбона.
В атрии оставалась какая-то сотня человек, и Цицерон уже надеялся попасться на глаза одному из семи секретарей, когда к нему подошел юноша примерно одних с ним лет и, прислонившись к стене, начал его оглядывать. Кареглазому Цицерону еще не случалось видеть таких красивых глаз, как те, которые скользили по нему холодным бесстрастным взглядом, изучая с головы до ног. Эти широко распахнутые глаза словно бы постоянно удивлялись, цветом они были как небо в ясный день, и такие живые, какие нечасто доводится встретить. Золотистые вихры падали на широкий лоб. Ниже этой забавной копны было свежее, довольно нахальное лицо, в котором не угадывалось ничего римского: губы тонкие, скулы широкие, нос вздернутый, подбородок неправильный, а кожа розовая и веснушчатая. Ресницы и брови юноши были такими же светлыми, как волосы. Тем не менее лицо было приятное, а улыбка, которой юноша наградил его, закончив изучать, оказалась такой располагающей, что Цицерон был покорен.
– Кто ты такой? – спросил юноша.
– Марк Туллий Цицерон-младший. А ты?
– Я – Гней Помпей-младший.
– Страбон?
Помпей-младший беззлобно рассмеялся:
– Я что, косоглаз, Марк Туллий?
– Нет, но разве не принято носить отцовский когномен?
– Не в моем случае, – ответил Помпей. – Я собираюсь сам заслужить себе прозвище. И уже знаю какое.
– И какое же?
– Великий.
– Ну это уж слишком, тебе не кажется? «Великий»! – хихикнул Цицерон. – К тому же сам себе ты не можешь дать прозвище. Его дают люди.
– Знаю. Мне дадут.
Цицерон и сам был о себе высокого мнения, но от самоуверенности Помпея у него перехватило дух.
– Что ж, удачи! – только и сказал он.
– А ты зачем здесь?
– Я назначен к твоему отцу контуберналом.
– Клянусь Поллуксом! – присвистнул Помпей. – Ты ему не понравишься.
– Почему?
– Потому что ты слабак. – Глаза Помпея смотрели без всякого выражения, от дружелюбия не осталось и следа.
– Может, я и слабак, Гней Помпей, но вот ума мне не занимать, – отрезал Цицерон.
– Ну, этим моего отца не удивишь, – ответил Помпей, самодовольно оглядывая свое ловкое, крепко сбитое тело.
Эти слова остались без ответа. Цицерон застыл в безмолвной тоске, его вновь окатило волной такого глубокого уныния, которое редко настигает людей и вчетверо старше. Он сглотнул, уставился в пол и хотел только одного: чтобы Помпей поскорее ушел, оставив его в покое.
– Однако это не повод хандрить, – резко сказал Помпей. – Вдруг ты окажешься настоящим львом с мечом и щитом? Вот это бы ему понравилось.
– Я не лев с мечом и щитом, – голос Цицерона сорвался, – но и не мышь. Правда в том, что мои руки и ноги совершенно бесполезны, и поделать с этим я ничего не могу.
– Но когда ты принимаешь всякие позы на Форуме, все идет как надо?
– Так ты меня знаешь? – задохнулся Цицерон.
– Конечно. – Густые ресницы с притворной скромностью прикрыли блестящие глаза. – Сам-то я не мастак произносить речи, и это тоже правда. Годами мои учителя нещадно пороли меня и не добились ничего. По мне, так это пустая трата времени. Мне некогда утруждаться, уча, в чем разница между sententia и epigramma, не говоря уже о color и descriptio!
– Но как же ты надеешься назваться Великим, если не умеешь говорить? – удивился Цицерон.
– А как ты надеешься стать великим, когда не умеешь управляться с мечом?
– Понимаю. Ты хочешь стать вторым Гаем Марием.
Но это сравнение не польстило Помпею, и он нахмурился.
– Не другим Гаем Марием, – проворчал он, – я буду собой. И по сравнению со мной Гай Марий будет выглядеть мальчишкой!
Цицерон хихикнул, его темные глаза под тяжелыми веками блеснули.
– О, Гней Помпей, хотелось бы это увидеть!
Оба юноши вдруг как по команде обернулись: рядом с ними стоял Гней Помпей Страбон. Несмотря на невысокий рост, выглядел он очень внушительно. Отец и сын были довольно похожи, разве что глаза у Помпея-старшего были не настолько синие и так скошены, что казалось, они и правда не видят ничего, кроме переносицы. В этом было что-то загадочное и в то же время отталкивающее, потому что никогда нельзя было понять, на что на самом деле он смотрит.
– Кто это? – спросил он сына.
При этих словах Помпей-младший вдруг сделал жест, который Цицерон с благодарностью будет вспоминать всю жизнь, – крепко обнял за плечи Цицерона и слега сжал их.
– Это мой друг, Марк Туллий Цицерон, – беззаботно ответил он, – его прикомандировали к тебе, отец, но ты не беспокойся, я сам им займусь.
– Ха, – хмыкнул в ответ Помпей Страбон, – кто направил тебя ко мне?
– Марк Эмилий Скавр, принцепс сената, – тихо ответил Цицерон.
Старший консул кивнул:
– Ну конечно он, старая ехидна! Бьюсь об заклад, сейчас сидит себе дома и ухмыляется. – Помпей повернулся, теряя интерес. – А тебе, стручок, повезло, что ты друг моего сына. А то скормил бы тебя своим свиньям.
Лицо Цицерона горело. Дома никогда не сквернословили, отец считал крепкие словечки вульгарными, и брань не допускалась. Юноша остолбенел, услышав такие слова из уст первого консула.
– Ну ты просто девица, Марк Туллий, – ухмыльнулся Помпей.
– На нашем великом латинском языке можно изъясняться с куда большим изяществом, – с достоинством ответил Цицерон.
При этих словах его новый друг угрожающе нахмурился.
– Ты что же, не одобряешь моего отца? – сурово спросил он.
Цицерон поспешно ретировался:
– Что ты, Гней Помпей, это я в ответ на девицу!
Напряжение спало. Помпей заулыбался вновь:
– Ну и хорошо. Не люблю тех, кто выискивает недостатки у отца! – Он с любопытством посмотрел на Цицерона. – Сквернословят повсюду, Марк Туллий. Даже поэты вставляют эти словечки в свои стихи время от времени. Их пишут на стенах, особенно рядом с борделями и общественными уборными. И если командующий не будет называть своих солдат cunni и mentulae, а иногда и похлеще, они подумают, что он какая-нибудь старая дева.
– А я закрываю глаза и затыкаю уши, – ответил Цицерон. – Благодарю тебя за покровительство. – Он решил перевести разговор на другую тему.
– Не за что, Марк Туллий. Между нами: мы с тобой составим отличную пару. Ты поможешь мне с отчетами и письмами, а я тебе – с мечом и щитом.
– Идет, – сказал Цицерон, нерешительно переминаясь с ноги на ногу.
– Что еще? – спросил Помпей, собираясь уходить.
– Я не успел отдать твоему отцу приказ.
– Выброси его, – спокойно ответил Помпей. – С сегодняшнего дня ты мой. Отец на тебя и не посмотрит.
Он пошел в сад, и на этот раз Цицерон последовал за ним. Они устроились на ярком солнце, и Помпей, который отрицал всякую склонность к риторике, продемонстрировал, что и он не прочь поболтать, вернее, посплетничать.
– Слыхал про Гая Веттиена?
– Нет, – ответил Цицерон.
– Он себе пальцы на правой руке оттяпал, чтобы в армию не забрали. Городской претор Цинна приговорил его пожизненно прислуживать в капуанских бараках.
Цицерон вздрогнул.
– Необычный приговор, не считаешь? – спросил он с интересом. В юноше пробудилось профессиональное любопытство.
– Да, приговор и должен был быть показательным. Нельзя было позволить ему отделаться ссылкой и штрафом. Мы же не какие-нибудь восточные деспоты, мы не бросаем людей в темницу, чтобы они гнили там до самой старости, а то и хуже – умерли. Мы и месяц никого не держим в заключении. Думаю, Цинна вынес прекрасное решение, – ухмыльнулся Помпей, – эти парни в Капуе превратят жизнь Веттиена в постоянную пытку.
– Смею сказать, так и будет. – Цицерон с трудом сглотнул ком, застрявший в горле.
– Ну а теперь ты, ну давай же!
– Давай – что?
– Расскажи что-нибудь.
– Даже не знаю, Гней Помпей.
– Как звали вдову Аппия Клавдия Пульхра?
– Не знаю, – ответил Цицерон.
– Для человека с такой большой головой ты не очень-то много знаешь, похоже? Тогда я тебе скажу. Цецилия Метелла Балеарика. Вот это имя!
– Да, это очень славный род.
– Но не такой, каким будет мой!
– Ну и что с ней?
– Она умерла на днях.
– О!
– После того как Луций Юлий вернулся в Рим проводить выборы, ей приснился сон, – заторопился Помпей, – и на следующее утро она пошла к Луцию Юлию рассказать, что ей явилась Юнона Соспита и пожаловалась на отвратительную грязь в своем храме. Какая-то женщина приползла туда и умерла в родах, а служители только и догадались, что вынести тело вон. Даже пол не помыли. И вот Луций Юлий и Цецилия Метелла Балеарика вооружились тряпками и ведрами и пошли скрести пол в храме. Представляешь? Луций Юлий всю тогу заляпал, потому что, говорит, не мог снять ее, не нанеся оскорбления богине. Потом он отправился прямиком в Гостилиеву курию и огласил свой закон об италиках. А потом задал сенаторам хорошенькую взбучку за то, что они пренебрегают нашими храмами. Как, мол, римляне думают победить, когда они не чтят своих богов. И вот на следующий день весь сенат с тряпками и ведрами отправился убирать храмы. – Помпей замолчал. – Ну, что еще?
– Откуда ты все это знаешь, Гней Помпей?
– Слушаю, о чем болтают вокруг. Даже рабы. А ты что делаешь целыми днями? Все Гомера читаешь? – поддел он Цицерона.
– Я давно уже закончил Гомера, – самодовольно ответил Цицерон, – теперь я читаю великих ораторов.
– И не знаешь, что творится в городе.
– Теперь и я буду знать. Я так понимаю, что этим сном, уборкой храма Юноны Соспиты и скоропостижной смертью вдова Аппия Клавдия Пульхра преподала нам урок?
– Да, смерть была внезапная. Большое горе, считает Луций Юлий. Ведь она была одной из самых почитаемых римских матрон: шестеро детей, погодки, младшему едва исполнился год.
– Семь – счастливое число, – ехидно заметил Цицерон.
– Не для нее, – ответил Помпей. Он не заметил иронии. – Никто не понимает, как такое случилось после шести благополучных родов. Луций Юлий говорит, боги гневаются.
– Он думает, что новые законы умилостивят их?
– Не знаю, – пожал плечами Помпей. – И никто не знает. Знаю только, что мой отец входит в силу, а с ним и я. Отец собирается законодательно утвердить право римского гражданства для всех жителей Италийской Галлии, пользующихся латинскими правами.
– А Марк Плавтий Сильван скоро внесет закон, по которому право полного гражданства будет дано каждому, чье имя занесено в италийский муниципальный список, при условии, что тот явится лично к претору в течение шестидесяти дней со дня утверждения закона, – сказал Цицерон.
– Сильван – да. Но вместе со своим другом Гаем Папирием Карбоном, – поправил его Помпей.
– Ну вот, так куда лучше! – просиял Цицерон, оживляясь. – Законы и законотворчество – вот это мне по душе!
– Рад это слышать, – сказал Помпей. – По мне, законы – какое-то досадное недоразумение. Они вечно мешают выдающимся людям проявить себя, особенно в молодые годы.
– Люди не могут жить без системы права!
– Высшие – могут.
Помпей Страбон не собирался покидать Рим, хотя продолжал убеждать всех, что народ даже не заметит отсутствия консулов, потому что городской претор Авл Семпроний Азеллион – человек весьма толковый. Вскоре, однако, стало ясно, что настоящей причиной его промедления было желание проследить за принятием законов, которые, словно из рога изобилия, хлынули следом за lex Julia. Луций Порций Катон Лициниан, второй консул, оставил это занятие Помпею Страбону. Между консулами отношения были прохладные. Луций Катон отправился было в Кампанию, но тут же передумал и переместился на центральный театр. Помпей Страбон не скрывал, что собирается продолжать войну в Пицене. Тем не менее командовать осадой Аскула-Пиценского он отправил Секста Юлия Цезаря, несмотря на его слабую грудь и на редкость суровую зиму. Новости не заставили себя ждать: вскоре стало известно, что Секст Цезарь убил восемь тысяч восставших пиценов, напав на них, когда они снялись с насиженного места и переходили в новый лагерь близ Камерина. Помпей Страбон был оскорблен, но остался в Риме.
В комиции его lex Pompeia прошел без всяких осложнений. Согласно этому закону право полного римского гражданства получали все города к югу от реки Пад в Италийской Галлии, которые ранее обладали латинскими правами. Латинские права были дарованы Аквилее, Патавии и Медиолану. Все члены этих больших и процветающих общин становились его клиентами. Вот почему он так спешил с этим законом. На самом деле права гражданства интересовали Помпея Страбона мало, поэтому на какое-то время он отошел в сторону, позволив Пизону Фруги воспользоваться теми благами, которые давало ему проведение трех других законов о предоставлении гражданства. Первым делом Пизон Фруги объявил о создании двух триб, в которые теперь зачислялись все новые граждане, независимо от места проживания. Прежние тридцать пять триб сохранялись исключительно для старых римлян. Но когда Этрурия и Умбрия возмутились тем, что с ними обращаются как с вольноотпущенниками, Пизон Фруги внес поправку, согласно которой все новые граждане зачислялись в восемь старых триб и две новые.
Потом первый консул провел цензорские выборы. Избрали Луция Юлия Цезаря и Публия Лициния Красса. Еще до того, как прежний цензор сложил свои полномочия, Луций Цезарь поспешил объявить, что в честь своего предка Энея он освобождает от всех податей Трою, любезный его сердцу Илион. Так как Троя была всего лишь маленькой деревушкой, никто ему не возражал. Конечно, принцепс сената Скавр мог бы воспротивиться, но ему было не до того. Его мысли занимали два беглых царя – Никомед Вифинский и Ариобарзан Каппадокийский, которые, словно соревнуясь, голосили, и раздавали взятки направо и налево, и всё не могли понять, почему Рим занят своей войной с италиками куда больше, чем надвигающейся войной с Митридатом.
Главным противником Юлиева закона о гражданстве был Квинт Варий, который не без оснований опасался пасть его первой жертвой. Новые народные трибуны под водительством Марка Плавтия Сильвана набросились на него, словно волки. Тотчас приняли lex Plautia, и вот уже комиссия Вария, которая до того преследовала тех, кто поддерживал идею гражданства для италиков, стала комиссией Плавтия, преследующей тех, кто этой идее противился. По жребию готовить первое дело для комиссии Плавтия – по обвинению Квинта Вария Севера Гибрида Сукрона – досталось младшему брату Луция Цезаря, косоглазому Цезарю Страбону.
Как и всегда, Цезарь Страбон провел все блестяще. Приговор был делом решенным задолго до окончания суда над Квинтом Варием, в особенности потому, что по закону Плавтия в комиссии теперь заседали не всадники, а представители всех классов каждой из тридцати пяти триб. Квинт Варий предпочел не дожидаться их вердикта. Он принял яд, чем глубоко опечалил и раздосадовал своих друзей: Марция Филиппа и Гая Флавия Фимбрию. К несчастью, отраву он выбрал неудачно и умирал несколько дней в страшных муках. На его похоронах, во время которых Фимбрия поклялся, что отомстит Цезарю Страбону, присутствовало лишь несколько друзей.
– Ну, спросите меня, очень ли я испугался? – спросил Цезарь Страбон своих братьев, Квинта Лутация Катула Цезаря и Луция Юлия Цезаря, которые не участвовали в похоронной процессии, однако задержались на ступенях Гостилиевой курии вместе со Скавром, принцепсом сената, чтобы посмотреть на происходящее.
– Ты бы лучше отважился помериться силами с Геркулесом или Гадесом. – В глазах Скавра заплясали огоньки.
– Нет, я отважусь на кое-что еще: выдвину свою кандидатуру в консулы, не побывав претором, – быстро ответил Цезарь Страбон.
– И зачем же? – поинтересовался Скавр.
– Хочу проверить одно положение закона.
– Ох уж мне эти адвокаты! – воскликнул Катул Цезарь. – Все вы одинаковы. Клянусь, с тебя станется проверять и положение закона, который обязывает весталок хранить девственность!
– Думаю, его мы уже проверили! – рассмеялся Цезарь Страбон.
– Что ж, – сказал Скавр. – Пойду проведаю Гая Мария, а потом домой – поработать над речью. – Он посмотрел на Катула Цезаря. – Когда ты отправляешься в Капую?
– Завтра.
– Не уезжай, Квинт Лутаций, прошу тебя! Останься ненадолго и послушай мою речь! Возможно, она будет самой важной в моей карьере.
– Ну, это говорит само за себя, – отозвался Катул Цезарь, который приехал из Капуи посмотреть, как его брат Луций Цезарь освобождает Трою от уплаты податей. – Позволь спросить, о чем она будет?
– Конечно же. О том, что пора готовиться к войне с Митридатом Понтийским, – ответил Скавр.
Братья с удивлением посмотрели на Скавра.
– Вижу, вы тоже не верите, что она будет. Уверяю вас, будет. – С этими словами Скавр удалился в сторону спуска Банкиров, к дому Гая Мария.
Он застал Юлию вместе с невесткой, Аврелией. Обе они были воплощением истинно римской красоты, и ему вдруг захотелось поцеловать им руки – честь со стороны Скавра неслыханная.
– Ты нездоров, Марк Эмилий? – спросила Юлия, улыбаясь и поглядывая на Аврелию.
– Я очень устал, Юлия, но не настолько, чтобы не восхититься красотой. – Скавр наклонил голову в сторону таблиния. – А как сегодня дела у великого человека?
– Настроение у него сегодня гораздо лучше, спасибо Аврелии, – ответила жена великого человека.
– Правда?
– Теперь у него есть компаньон.
– Неужели?
– Мой сын, Цезарь-младший, – объяснила Аврелия.
– Мальчишка?
Юлия рассмеялась, провожая Скавра к таблинию:
– Конечно, он еще мальчишка, ведь ему нет и одиннадцати. Но во всех других отношениях, Марк Эмилий, Цезарь-младший тебе ровня. Гай Марий стремительно идет на поправку. Однако ему скучно лежать. Из-за паралича он с трудом передвигается, а оставаться в постели ему невыносимо. – Юлия открыла дверь и сказала: – Марк Эмилий пришел навестить тебя, муж мой.
Марий лежал на постели у окна, смотревшего в сад. Левая, безжизненная часть покоилась на подушках, но кровать поставили так, чтобы правой стороной больной был развернут к комнате. В изножье кровати сидел сын Аврелии, – по крайней мере, так решил Скавр, которому не доводилось видеть мальчика прежде.
«Настоящий Цезарь, – подумал Скавр, только что расставшийся с тремя из них. – Высокий, светловолосый, красивый». Когда мальчик поднялся, стало заметно сходство с Аврелией.
– Принцепс сената, это Гай Юлий, – представила ребенка Юлия.
– Сядь, мальчик. – Скавр склонился над ложем, чтобы пожать правую руку Мария. – Ну, как твои дела, Гай Марий?
– Потихоньку. – Марий все еще с трудом выговаривал слова. – Видишь, женщины приставили ко мне сторожевого пса. Личного Цербера.
– Скорее уж сторожевого щенка. – Скавр уселся в кресло, которое принес ему Цезарь-младший, прежде чем вернуться на свое место. – И в чем же именно состоят твои обязанности? – поинтересовался он.
– Пока не знаю, – ответил Цезарь-младший без тени смущения. – Мать привела меня только сегодня.
– Женщины считают, мне нужен чтец, – произнес Марий. – Что скажешь, Цезарь-младший?
– Мне больше по нраву слушать Гая Мария, чем читать ему, – без всякой робости ответил Цезарь-младший. – Дядя Марий не пишет книг, а я часто думал, хорошо бы он написал. Я хочу услышать все о германцах.
– Он задает хорошие вопросы, – сказал Марий и попытался повернуться, но безуспешно.