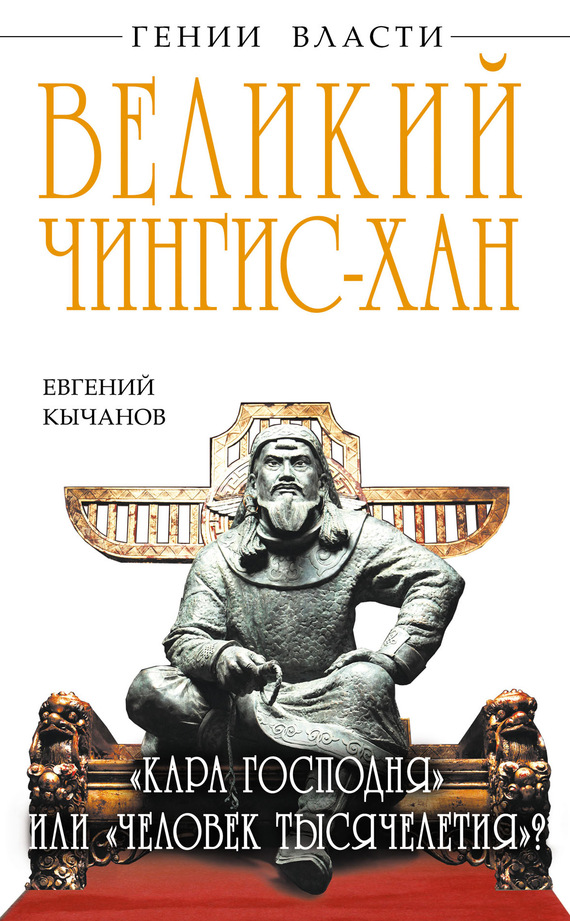По ту сторону кожи (сборник) Бутов Михаил
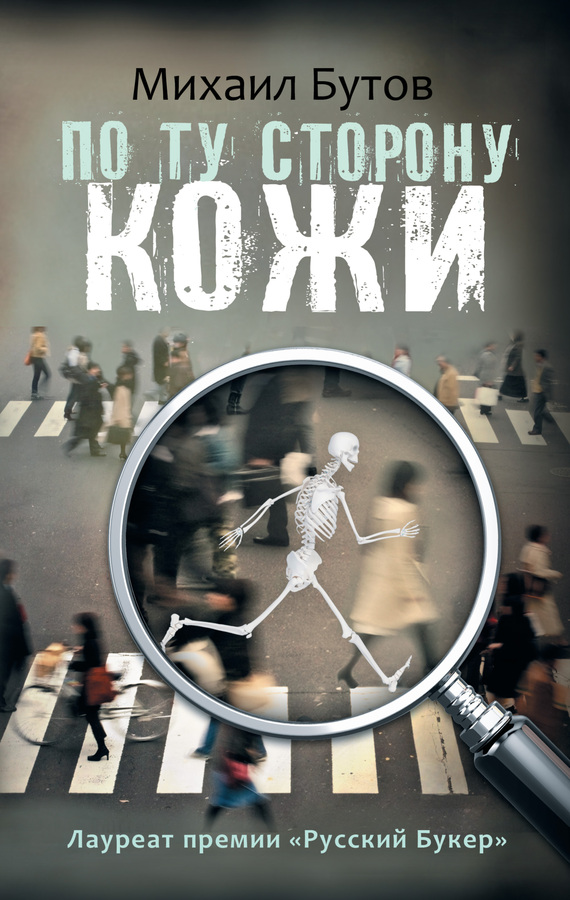
– Зачем спрашиваете тогда?
– А вы никогда не задумывались, поручик, о вариантах исхода? Вдруг сила вещей окажется все же на нашей стороне? Придется ведь мемуары писать. Грядущее должно знать, где мы с вами отогревались.
– Станица Лежанка. Впрочем, я не знаю, как правильно произносить. Или грядущему безразлично?
Но Лампе уже потерял охоту шутить. То ли он слишком размяк в тепле, то ли вообще незаметно становился сверх меры сентиментален, но хватило сейчас слабого подобия в словах, чтобы он вспомнил вдруг Хопры под Ростовом и похожего одновременно на Бисмарка и детского доктора полковника, без всякого выражения отозвавшегося себе в усы, получив донесение, что подкрепления не будет: «Ясненько, ясненько… Стало быть, лечь всем. Ну так, ну так…»
И легли действительно многие. Лампе до сих пор не знал, чему вменить, что удалось выбраться тогда.
Поручик отложил перо и сел на лавку верхом.
– Знали Лежнева?
Лампе кивнул. Лежнев был фигурой легендарной, почти нарицательным именем. Всего два человека из тех, самых первых, юнкерских рот, с которыми быстро и чисто расправился в декабре Дербентский полк, сумели в конце концов добраться сюда, на Дон. От озлобленного и отчаявшегося прапорщика, пришедшего с Лежневым вместе, и стали распространяться истории о детски-благородном юнкере и его поступках, казавшихся рассказчику если не безумными, то, во всяком случае, дикими. О том, например, как, будучи отделенным командиром, Лежнев запрещал подчиненным прикалывать вражеских раненых: «Господа! Так делают только большевики!» Цепь проходила, раненые дотягивались до винтовок и стреляли им в спины.
Здесь, однако, многие еще помнили, что и для них когда-то границы чести были определены строго, а святость их – несомненна. Только война – слишком большой жернов, чтобы каждому хватало твердости противиться ее дробящей мощи. Раньше или позже, но она размывает все, все сводит к общему знаменателю и заставляет ходить по ее путям, чтя ее закон. А вот Лежнев оказался из особого теста. И эту внутреннюю крепость в нем почувствовали скоро: уже через несколько дней бывшего его спутника, стоило тому в очередной раз пройтись по поводу представлений Лежнева о порядке вещей, стали без церемоний обрывать. Сам же Лежнев оставался все тем же и все так же упорно не желал признавать того, что остальным давно уже казалось непреложным. Он вступал в стычки с квартирьерами, забиравшими силой провизию у отказывавшихся ее продавать крестьян, он чуть не выстрелил в собственного командира, когда тот приказал примерно повесить трех захваченных комиссаров; а уж если станица оказывала сопротивление и потом, следственно, бывали расправы, скандал возникал всюду, где появлялся юнкер. Порой казалось, что он готов собственной грудью закрывать тех, против кого воюет. Но солдатом притом был отличным: страха своего умел не показывать другим и не замечать, когда нужно, сам. И даже те, с кем Лежневу случалось конфликтовать, редко бывали настроены против него – испытывали скорее некое настороженное уважение, связанное в глубине души с тоской по чему-то утерянному.
Приходилось уже не Лежнева примирять с реалиями войны, но саму войну с существованием Лежнева. В конце концов и роту, где он служил, стали посылать на патрулирование или операции, не связанные с главным направлением, чтобы в населенных пунктах юнкер появлялся с опозданием на несколько часов, когда уже нечего было отстаивать и некого защищать. Лампе, если встречался с ним или о нем думал, испытывал всегда настоящую боль, представляя, в какой муке жила постоянно душа этого человека.
– Когда его убили, – сказал поручик, – он был под моим началом.
– Убили?!
– Мы прикрывали отход из Ростова.
Только много позже Лампе найдет название тому, что почувствовал в это мгновение. Смерть надежды. Словно что-то, до сих пор вопреки всему теплившееся внутри, оборвалось и исчезло.
– А почему вы спрашиваете меня?
– Знаете, гибель его не идет у меня из головы. Я ведь еще тогда удивился: раньше и представить не мог, чтобы Лежнев позволил себе не согласиться с приказом. При его-то чувствительности к офицерской чести…
– Подождите. Вы хотите сказать, что он оспаривал боевой приказ?
– Да нет, речь не о каком-то демонстративном неподчинении… Мы должны были удерживать один из малых мостов, дать основным силам возможность оторваться. То есть нужно было две улочки блокировать, которые к нему выходили, и железнодорожное полотно…
– Ротой? – спросил Лампе.
– Куда там! Четыре отделения. Я назначил позиции, а Лежнева с пулеметчиком и еще одним юнкером послал к переезду, к будке смотрителя – крепкая там была такая каменная будка. И вот тут он вдруг подошел и попросил, чтобы я поставил его в любое другое место, только не туда. Спрашиваю: почему? Он мялся, мялся, но признался все-таки, что имеет причины полагать, будто возле этого домика непременно будет убит. Я и подумал: ладно, со всяким бывает, – отправил его с другим отделением.
Лампе попытался вспомнить, не по этому ли мосту переправлялся и их полк. Похоже, что нет – во всяком случае, ни каменной будки, ни улиц он рядом не заметил: был большой пустырь, застроенный лабазами и баньками.
– Они атаковали сразу по трем направлениям. Правую улицу мы еще держали, но по второй и по полотну у них был слишком большой перевес. Тут, слава богу, дали команду отступать: время мы уже выиграли. Большая часть людей благополучно отошла за мост, Лежнев тоже, минеры уже взрывать готовились; но человек восемь все-таки оказались отрезаны пулеметом, к какому-то сараю прижаты, вроде дровяного склада. Мы за мостом быстро перестроились для контратаки, но как только снова оказались на том берегу, нас тут же положили на землю еще два пулемета. Главное, нам все очень хорошо видно: пока они там стоят вплотную к стене, пулеметчик, который за ними следит, достать их не может; но стоит им от стены сделать шаг – и все, окажутся под огнем. И ползти бессмысленно: там пригорок. А с другой стороны их уже обходят, через три минуты все будет кончено. Единственный выход был: уничтожить пулеметчика; но с земли по нему стрелять – только терять время. А подниматься, рисковать всеми ради восьмерых – безумие. Знаете, тот самый момент, когда необходимость подвига так очевидна, что не совершиться ему уже как бы и невозможно. Я, собственно, с самого начала был уверен, что именно Лежнев вызовется. Только не думал, что он бросится так отчаянно – просто сорвется, и все. Ну а тут уж оставалось только следить. Вот здесь будка была, здесь пулеметчик.
Поручик пальцами начертил в воздухе перед собой.
– А Лежнев пошел по дуге, чтобы пулеметчику в поле зрения не попадать. Я вижу: добежал, стреляет. Тот его все-таки заметил, попытался развернуться, но Лежнев успел, выстрелил первым. Я-то думал, он там и укроется, в этой ложбинке, но оказалось, что с той стороны она простреливается насквозь. А потом один из пулеметов, что нас держали, захлебнулся – лента кончилась или перегрелся. Против одного ствола с двухсот метров я уже решился атаковать. Встаем. Те от сарая тоже уже в нашу сторону ползут. А я все за Лежневым слежу и только удивляюсь: двадцать раз уже должны были убить, а он невредим, даже не ранен. Выбора у него уже не оставалось: только к той будке и там нас дожидаться. Всего тридцать метров и нужно было одолеть, а дальше уже начиналась такая зона, куда с их позиций обстрела не было. Он вроде бы заколебался сначала, но потом пригнулся все-таки, побежал. Палят по нему так, что на роту хватило бы. А он словно заговоренный. Смотрю: уже в дверях, стоит и улыбается. Ну и вот тут… До сих пор не могу понять, откуда стреляли, не из-за реки же. Шальная пуля совершенно.
– Ясно, – сказал Лампе. – И вам показалось странным такое стечение обстоятельств.
– Понимаете, когда он подошел ко мне, я подумал, конечно, обычное: суеверие, плохие нервы. А выходит, он действительно знал, что погибнет именно там. Вернее, что если окажется там – погибнет. Ведь под сплошным огнем бежал, потом вообще оказался на перекрестье двух линий обстрела – и ничего. А тут, где было уже совсем безопасно… И так уж слишком много совпадений для простой случайности. А когда и место было указано заранее…
Поручик замолчал. Лампе рассматривал его с некоторым удивлением.
– Послушайте, вы и вправду все еще верите, что мы – вот мы с вами – достойны каких-либо тайн и чудес?
– Не знаю. Но, во-первых, все, что я рассказал, – правда, а потом: скажите, у вас, перед тем как подниматься в атаку, никогда не бывает чувства, что все вокруг, сама материя как бы утоньшается, что стоит сделать усилие – и сможешь заглянуть куда-то на обратную ее сторону? Мне вот порой кажется, что тут есть возможность для таких прорывов, из которых знание будущего – еще не самое удивительное.
Лампе улыбнулся.
– Вы, поручик, в гимназическом возрасте не увлекались спиритизмом?
И заметил, как насторожился юнкер, подозревая скрытую издевку в вопросе.
– Нет. Я увлекался техникой. Собирал парусники.
– А в мое время было модно.
– Ну и что?
– Ничего. Изможденные юноши, вдохновенные барышни. Таинственные стуки и вопрошания о судьбах России. А я вот как-то всегда считал, что даром прозревать будущее обладают разве что святые. Хотя, конечно, не исключено, что какие-то интуиции и существуют. Как не исключено и то, что юнкер Лежнев как раз и был святым. Но тут мы погружаемся в такие вопросы, которые я, честно говоря, предпочитаю не обсуждать.
Поручик повел рукой, отрицая.
– Да я не об этом. Свой час, в конце концов, предчувствуют многие. Но чтобы точно знать место… Я теперь почти уверен, что с ним действительно что-то произошло, как-то он это увидел. И принял ведь предупреждение, попытался самого места избежать. Но в конце концов все равно очутился именно там и именно там был убит. Вот от этой предопределенности и не по себе.
– Ну а прежде он мог видеть эту будку?
– Накануне, конечно. Мы подошли еще вечером, до темноты. Но какая разница?
– Нет, постойте! – сказал Лампе. – По-моему, у вас следствие опережает причину. Где здесь предопределенность, если вперед, сами говорите, он бросился совершенно сознательно? А из того, как вы описали дислокацию, ясно, что с самого начала он должен был понимать, что укрыться придется именно в этой будке. Но если той ночью ему что-то, скажем, приснилось – что-то, происходившее в реальной обстановке, – если это он и принял за предупреждение, то состояние его духа в ту минуту представить вполне возможно. Здесь уже не только героическое вдохновение, но и нечто еще, совсем особое: ощущение себя с роком один на один, момент высшего, последнего преодоления, раз уж он действительно верил, что место это для него смертельно опасно. Высокое чувство, по-настоящему. Оно и толкнуло вперед. И если вы себя убедили, что он оказался на месте гибели вопреки тому, что заранее знал о нем, то мне сразу же по ходу вашего рассказа показалось, что наоборот – именно благодаря этому. Ну а вычислять путь пули и искать тайные смыслы в том, что настигла она юнкера Лежнева не пятью секундами раньше или не пятью позже, согласитесь, несколько наивно. Тем более если, как вы говорите, огонь там был непрерывный. Мало ли какой рикошет… Ну да, совпадение несколько странное. Но я, признаться, привык уже думать, что война только из таких и состоит.
– Знаете, так можно объяснить вообще все что угодно, – с досадой сказал поручик. – Предчувствие-то его все равно в конце концов оправдалось.
– Ну, это уже…
– Что?
– Логическое кольцо. Дурное логическое кольцо.
Лампе смутился, обнаружив в собеседнике подлинную обиду. И не находил теперь, чем загладить ее, ибо никакой особенной неловкости, которую мог бы счесть причиной, за собой не помнил, а весь их разговор, казалось, имел приличествующую меру удаления и от предмета, и друг от друга. Какое-то время поручик еще разглядывал сложенные на коленях руки, карауля продолжение беседы, потом вернулся к столу. Когда четверть часа спустя он закончил писать и поднялся, чтобы размять поясницу, штабс-капитан уже спал, завернувшись в мех с головой.
Лампе не то чтобы отнесся серьезно к собственной шутке насчет мемуаров, но все же, вспоминая ее, пусть и в ироничном ключе, стал теперь отмечать про себя вехи похода.
Из Ставрополья свернули на Кубань. Всех удивляла необыкновенно ранняя в этом году весна: еще не истек февраль, а снег в степи сошел уже всюду и кое-где земля тут же второпях зазеленела. И хотя известно, что после первых оттепелей ждать можно еще чего угодно, но разлившаяся в природе благость словно бы обещала, что новых морозов уже не будет.
Ловя волосами теплый ветер, Лампе следил, как возвращается к нему забытая радость перерождения. Будто некий росток у него внутри, окоченевший за бесконечную зиму, начало которой во внутреннем времени штабс-капитана отодвигалось почти уже за пределы памяти, теперь набирал силы и начинал жить вновь.
Армия продвигалась медленно, без больших боев, а местные стычки решались обычно помимо корниловского полка. И хотя дневные переходы составляли обычно пятьдесят, а то и семьдесят верст, эти дни замирения Лампе понимал как отдых (всего раз он произнес про себя «от смерти», но покраснел даже, ужаснувшись пошлости речения).
Из станицы Старо-Леушковской выступали затемно. Служивший короткий молебен местный попик, вознося положенные прошения о даровании победы их оружию, не утруждался даже имитацией вдохновения. Лампе подумал, что попу еще повезло: если б и большевики заставляли молить за себя, куда труднее стало бы уживаться с собственной совестью.
Полк был выстроен в две колонны, и штабс-капитан Чичуа стоял точно напротив Лампе. Угрюмость и бледность князя в это утро нельзя было не заметить даже в предрассветных сумерках. Пожалуй, впервые за два года знакомства Лампе видел мингрельца таким: что-то из ряда вон выходящее должно было произойти, чтобы волнение князя выплеснулось на лицо и стерло обычную доброжелательную улыбку. Лампе рассудил, что интерес, оправданный давним приятельством, не будет оскорбителен.
– Стыдно признаться, – ответил князь, когда они сошлись в короткий промежуток между молитвой и командой на марш, – дурной сон. А вот не дает теперь покоя. Знаете, со мной это впервые. Столько слышал о кошмарах – а у самого не было никогда.
– Не очень-то вы похожи на человека, доверяющего снам, – сказал Лампе.
Чичуа улыбнулся. Но Лампе видел: через силу.
– Слишком уж все это было резко и осязаемо. Церковь деревенская, я хочу войти, а подпоручик из моей роты хватает меня за бурку и тянет назад. Просто оттаскивает и молчит. А мне необходимо внутрь: там отпевают кого-то, и я должен присутствовать. Тогда он встает в дверях. И тут я вспоминаю: его же две недели назад убили. И на лице у него, вот здесь, шрам заросший – как раз там, куда вошла пуля.
– Страшно было?
– Страшно. Но я – ничего: решаю, что с ним надо держаться так, будто все обычно. Приказываю отойти. А он отвечает, что мне ни в коем случае туда заходить нельзя. Почему? – спрашиваю. Нет, опять молчит, только смотрит. Я снова пытаюсь пройти – он начинает меня отталкивать. Ну, думаю, ладно, дьявол с тобой, сделаю вид, что ухожу, а там посмотрим, что будет. Только отступил – он тут же согласно кивает и исчезает куда-то вбок. А я, конечно, сразу обратно. Поднимаюсь на крыльцо, заглядываю – а в церкви пусто. Вроде бы поют, странно так, но нет никого. И ни икон, ни свечей – просто у самого порога мертвый лежит. Лежит лицом вниз и укрыт буркой. А бурка – моя, вот по этому узнал.
Чичуа тронул вставку белого меха, совмещенную на черной бурке с сердцем, предмет не самых тонких шуток: «Вы, князь, мишень на себе носите».
Лампе пожал плечами.
– Я думаю, собственная смерть снится здесь каждому второму. Мне снилась. Знаете, в каком виде…
– Я понимаю. Но дело в том… Я ходил сейчас, под утро, вперед с разъездами. Церковь во сне какая-то была нелепая – словно от чужой веры строили. Колокольня отдельно, на другой стороне площади, а купол у храма в форме шапки татарской… Там, в Березанской, церковь точно такая. Я ясно видел силуэт.
Впереди выкрикнули команду, и колонна сразу заколыхалась: сперва на месте, и понемногу, ряд за рядом, – вперед. Лампе обрадовался поводу скомкать разговор: до сих пор все, что приходило на ум, казалось чересчур легковесным, а теперь, почти уже на бегу, весомость сказанного какое могла иметь значение.
– Пора, князь. Будет вам. Нашли чем забивать голову. Ну держитесь, что ли, подальше от вашей церковки.
Потом, уже заняв место чуть впереди и сбоку от первой шеренги роты, он еще раз нашел князя глазами.
– С Богом!
Большевики не успели за ночь уйти из Березанской. Уже различались за пригорком крыши хат, когда авангард открыл частую стрельбу и стало ясно – бой будет. Полк развернулся в цепи и двинулся, топча пашню. С окраины вяло отстреливались: похоже, только сами станичники прикрывали отступление главных сил. Первая рота смяла сопротивление за несколько минут, не потеряв ни человека. Крылатая, отличная от других неформенной буркой фигура Чичуа то и дело мелькала впереди, и Лампе уже предвкушал, как нынче же вечером они вместе будут смеяться над страхами князя.
Заметавшихся казаков кололи штыками. На въезде в станицу, у колодца, несколько тел уже свалили в кучу друг на друга; рядом коза с ободранной веревкой на шее лизала стекшую наземь кровь. Тут же, поджав под себя ноги и засунув в рот большой палец, сидела местная блаженная, исподлобья наблюдая за проходящими корниловцами. Штабс-капитан вздрогнул, встретившись с ее вовсе не пустыми глазами.
Примчался и тут же ускакал снова сам командующий; Лампе едва успел остановить роту, когда он пронесся мимо. Обстановка впереди была неясна, и последовал в конце концов приказ располагаться на отдых. На окраинах еще стреляли, но в центре станицы настроение было уже бивачное. Высокий офицер водил по кругу статного жеребца, явно любуясь. Следом семенила баба в цветастом платке, причитая: «Господи! Барин! Мужа моего, Федора, комиссары застрелили. У кого хошь спроси, убили мужа-то!» Над ней смеялись: «А что раньше зевала? Прятать надо было коня». – «Так прятала, от большевиков прятала. Стрельбы испугался, домой пришел». «Ничего, ничего, – сказал офицер. – Что же ты такого, в плуг запрягать будешь? Выделим тебе клячу».
Первая рота еще не размещалась. Уже издали, прежде чем успел что-нибудь рассмотреть, Лампе почувствовал в людях тяжелую сосредоточенность. Екнуло сердце.
– Что? – спросил он, подойдя.
– Штабс-капитан… князь убит.
Лампе сглотнул. Ворох взметнувшихся мыслей не мог прийти к речи. Ответивший прапорщик переминался, глядя в землю.
– Постойте… Где?
– Говорят, где-то там, – прапорщик махнул рукой, – возле церкви. А как – никто не знает.
– С ним что, никого не было? А рота?
– Был прапорщик Константинов. Только он тоже, говорят, ранен. А рота здесь стояла, князь сам приказал.
– А кто тело привез?
– Кадет какой-то. И наш один с ним.
Бурку под мертвым постелили белым пятном наружу. И уже закрыли глаза. Лампе нигде не видел ни раны, ни крови. Кто-то за спиной, будто читая мысли, шепотом задал тот же вопрос, что все копировался сам с себя у штабс-капитана в голове. «Черт возьми, – подумал Лампе, – черт возьми, как он там оказался?»
Лазарет вселялся в бывшую школу. Уже подтянулся обоз, и раненые перебирались с подвод в здание. Тяжелых перетаскивали на рогоже два замотанных санитара-юнкера.
Остановив спешившую мимо сестру, Лампе попытался выяснить что-нибудь о Константинове. Та отмахнулась: «Не знаю, не знаю, сегодняшних еще не смотрели». «А где они, сегодняшние?» – спросил Лампе, но девушка уже упорхнула. «Да вон, – сказал кто-то из угла, – вон сидят, гогочут».
Взятие Березанской обошлось армии в четыре ранения. И единственную смерть. Но до Лампе эти штабные подсчеты дойдут только на следующее утро. Сейчас трое без мундиров, раненные, очевидно, легко (послезавтра в строй, а пока два заслуженных дня под боком у барышень), резались в безик на одесские папиросы. Самый молодой явно выигрывал. Рядом на носилках, поставленных прямо на пол, сидел, покачиваясь взад-вперед, человек с наглухо забинтованной головой. Стон его уже выродился в монотонный низкий гул.
– Вы Константинов? – спросил Лампе. – Это вы были с князем?
Раненый на ощупь отыскал его руку и вцепился в шинель.
– Снимите повязку! Зуд! Доктор, это невыносимо, я перестану быть человеком!
– Я не врач. Скажите мне: зачем князь ходил туда, к церкви?
– Пулемет. У них был пулемет наверху. Как мы могли знать?
– Почему Чичуа пошел туда? Ведь он остановил роту.
– Сестра Дина… Они помолвлены. Были. Знаете?
Лампе не совладал с лицом. Но голосом сумел удивления не выдать.
– Хорошо, пусть Дина. При чем здесь это? Вы способны отвечать?
– Приказали ждать дальнейших распоряжений. А потом останавливался вестовой, сказал, что с южной стороны кто-то еще пытается прорываться из станицы, но там рота юнкеров, и подмоги они не просят, хотят обойтись своими силами. И вскользь упомянул еще, что сестру у них ранили. Не знаю, почему князь решил, что это именно Дина. Может, она должна была сегодня с юнкерами идти? Я и моргнуть не успел, а он уже бросился на звук, на выстрелы.
– Один?
– Ну, я тоже… Я обязан ему: была история. Почти никто здесь не знает – ни к чему. Так что с ним пошел. Вернее, не с ним – следом, он меня и не замечал сперва. Ну, оказалось, что они как раз возле церкви и перестреливаются. Вы видели церковь?
– Еще нет, – сказал Лампе.
– Она здесь словно надвое разделена. Эти казаки от колокольни палили, а юнкера залегли вокруг храма, чтобы от дороги их отрезать. Только там я его и нагнал, у самой площади. У него такое было лицо…
– Что, ярость? Или страх? Не выгораживайте, ему было чего бояться.
– Нет, не страх. Это… Не знаю, не могу объяснить.
– Ладно. А потом?
– Потом? От нас до юнкеров всего-то было шагов пятьдесят. Присмотрелись что к чему: вроде получалось, что если пробираться вдоль плетня, со стороны храма, так из винтовок нас не должны достать. А едва побежали – и пулемет с колокольни. Мы только и успели вбок, на крыльцо церкви: там нас козырек прикрывал. И вдруг какой-то конный… Он всего раз и выстрелил – тут же юнкера его уложили. А вот попал. Князь даже не увидел его.– Куда?
– В шею, прямо в позвоночник. Насмерть, сразу. А крови – как с поцарапанного пальца.
Стоило замолчать, и Константинов тут же снова начинал раскачиваться, а чуть погодя и утробный его стон опять прорывался наружу, из чего Лампе заключил, что прапорщик не вспоминает, как показалось сперва, но всего лишь прислушивается к собственной зачаровывающей боли.
– Ну хорошо, – сказал Лампе. – А вы когда были ранены?
– А? Меня? Это позже, гранатой. Я втащил князя в церковь, а сам все-таки перебежал к юнкерам. Ну а потом пошли вперед – казаки уже разбегались, – кто-то и швырнул из-за плетня напоследок. Говорят, больше и не задело никого, я один.
– А Дина?
– Ошибся князь. Не было ее там. Приходила уже, спрашивала. Плачет. А сестре той просто по щеке чиркнуло – пуля камень расколола.
Лампе снял его пальцы с рукава.
– Подождите. Господин…?
– Неважно. Штабс-капитан.
– Ради бога, прикажите врачу: пусть не скрывает – я ведь ослеп? Это не милосердие. Неизвестность хуже.
Лампе не стал обещать.
Пустота, образовавшаяся внутри, требовала одиночества. И Лампе вздохнул с облегчением, когда не обнаружил в хате Закревского, с которым предстояло делить сегодня ночлег. Хозяин, пятидесятилетний казак с тяжелым и властным взглядом, настороженно маячил в дверях. «Дом, – подумал Лампе, – слишком велик для одного. Где его сыновья? Ушли сегодня с красными? Лежат у колодца с распоротой шеей? Или в овине прячутся, дожидаются, пока уйдем мы?»
Он потребовал самогона. Когда хозяин заколебался, потребовал жестче и с опозданием удивился себе: обычно даже то, что жизненно необходимо, совестно было брать силой.
Казак выставил древний штоф и моченые яблоки на закуску. Потом спросил:
– А что, народу-то в станице много побили?
– Не знаю, – сказал Лампе. – Наверное, много. Почему вы стреляли в нас?
– Добро-то наше кому защищать?
– Что же тогда большевиков пустили? Или они добром не интересуются?
– Не знали еще. Да и сил не было отбиться.
– А от нас, значит, были силы?
– Эти утром уходили, собрали всех. Рассказали, как вы в Лежанке пятьсот человек положили. Я-то от кума слышал уже, знаю – не врут. Два пулемета оставили, сказали: пару часов продержитесь, мы вернемся. Как же! Забрали, что могли, – и ветра ищи. Тоже сволочи.
– Но вы предпочитаете их?
– Там кто большевики-то? Три жида? Этих, если что, и в расход недолго. С остальными, голоштанниками, мы уж договоримся как-нибудь. Еще работники будут. А вот с вами-то Бог знает как еще обернется.
Лампе отвернулся, дал понять, что говорить больше не намерен.
«Хамство. Сытое хамство. В Ставрополье такие, как этот, выезжали навстречу: “Уходите! Станица не хочет боя”. Тогда с ними еще считались. И полки ночевали в зимней степи. Они уводят скот, они зарывают хлеб, они хотят смотреть, как мы будем дохнуть с голоду. Или большевики – все равно».
Выть хотелось от этих мыслей. Барство их в сотни раз хуже того пресловутого помещичьего, на которое так безопасно было ополчаться всякому, кто мнил себя поборником общественного прогресса. Откуда эта наглая уверенность в непреложности сермяжных истин, в своем превосходстве, в праве свысока наблюдать, как рушатся государство и вера, преданность которым они так старательно перекатывали на языках? Да, они должны сеять хлеб. Сеять, чтобы есть, а есть, чтобы продолжать род. А потом заботиться о потомстве, которое посеет в свою очередь и в свой черед размножится. А ведь они в церкви каждое воскресенье. О чем молят? О тучности стад и умножении рода. В век и в век. И пусть геенне огненной подпадает все, что может помешать прямо сейчас, в эту минуту, есть и плодиться.
А ты должен верить, каждый день, каждую минуту заставлять себя верить, что здесь – не ради себя, не ради того, чего лишился так или иначе навсегда (ведь к чему удавалось вернуться?), но только и единственно ради них – пусть сытых, пусть самодовольных, пусть наученных к тому же бойко перечислять, чем от рождения виноваты перед ними умирающие тут же, на виду, студентики и гимназисты. Иначе исчезнет – и так порой тонкая до неразличимости – нить смысла, и кровь, которая на тебе, не оправдается тогда уже ничем.
Лампе думал: теперь нам приходится платить. За безмысленное прекраснодушие, за то, что с готовностью, с упоением самоистязания уверовали сами в свою виновность, даже не задумавшись, откуда идет подсказка. Но нет: он, Николай Лампе, так и не смог себя убедить, что есть в чем каяться перед ними ему самому или тем, кто был ему дорог. А ведь пытался, будучи юн, и пытался самозабвенно, ибо не существовало другого способа не быть изгоем среди сверстников по возрасту и сословию, кроме постоянного вслух покаяния при виде любого пьяного мужика (но только, благодарение Богу, друг перед другом: зайти дальше не позволяло эстетство, модное, по счастью, почти как социализм). Но чем бы, еще по-детски ценя солидарность, ни бравировал в застольных речах, внутренне тогда уже твердо стоял на своем: не видел и не желал видеть в чужом бесстыдстве доли вины ни отца своего, строительного инженера, пропадавшего по восемь месяцев в глуши, сооружая мосты, ни даже, например, богатого крестного, отписавшего на старости три четверти состояния почему-то губернскому почтовому ведомству. А повзрослев, узнал, что цена такой свободе одна всегда и везде: отчуждение. Только уже не от гимназической компании, но от сословия, происхождения, национальности. Какими бы ни были причины, но дворянство, чин, образование становились словно бы новым первородным грехом, заранее порочащим каждого, кто к ним причастен; в той атмосфере, которой все тогда дышали, даже в утверждении «я – русский» уже слышался (и не без оснований) намек на некие имперские притязания. Может быть, еще и поэтому, к вящему удивлению семьи, Лампе выбрал для себя армию: там, казалось, понятия будут традиционно четче определены, а воздух – чище.
Выпив полторы стопки, он понял, что благоразумнее остановиться: тоска не уйдет, напейся хоть вдрызг. Обмякнув у стола среди грубых, быстро отяжелевших вещей, Лампе рассматривал криво наколотую на гвоздь в стене открытку четырнадцатого года, где усатый солдат в хорошем обмундировании рассасывал, надув щеки, трубку величиной с кулак. Такие открытки вместе с теплыми носками и вязаными рукавицами рассылали под церковные праздники солдатам городские дамы. Похожую, с шутливым восьмистишием на обороте, однажды отправила ему мать. Цене вещей он еще не успел научиться тогда, и открытка затерялась. А теперь Лампе думал, что как-то слишком просто, незаметно свыкся с тем, что реальный образ матери растворился в накатывавших девятых валах этих лет, истончился, стал бесплотно-светел и мертвенно-чист. Уже ни лица не вспомнить в точности, ни речи, ни линий фигуры. Если что и осталось – только память осязания, как о некоем теплом облаке, прежде всегда сопровождавшем, разлученность с которым научила тут же, что мир есть одиночество.
Однажды он обнаружил, что способен без отчаяния думать о том, что она, быть может, ныне уже не жива. И с тех пор ему проще стало считать так. Разлука, в конце концов, тоже род смерти. Если Бог на их стороне, если ему суждено еще когда-нибудь найти ее – ничто не отнимется от радости их встречи. Только никто здесь даже не представлял, что в действительности происходит сейчас в почти уже сказочном Петербурге. Слухи же, если хоть третья часть их была оправданна, всякую надежду равняли с безумием.
Мысли его не текли, но левиафаново поднимались откуда-то из темной глубины, долго неподвижными оставались на поверхности – он успевал по многу раз прочесть каждую, – а потом так же медленно, как в масло, погружались опять во тьму. Но опьянение уже проходило, и заглушенная на время душа понемногу брала свое беспокойством, сродным лихорадке. Лампе суетно оделся, вышел. На фоне залитого лунным светом неба резко чертился силуэт колокольни.
Князя положили у аналоя, поставили три свечи в изголовье. Хоронить будут перед рассветом, тайно, чтобы озлобленные станичники не смогли потом надругаться над могилой. Через неделю ни одна душа не вспомнит, где остался в неродной земле георгиевский кавалер штабс-капитан Чичуа. Только Дина, быть может.
Коленопреклоненную ее фигуру Лампе, войдя, заметил возле кануна. Если она и молилась, то молча, но Лампе полагал – нет, ибо знал, что крайняя скорбь подобна сну, и не стал подходить ближе: святотатством было бы врываться в такую отрешенность.
Он вспоминал Чичуа веселого, с которым вместе справляли в Новочеркасске Рождество. Многим казалось, что князь создан для войны. Но Лампе думал иначе. С первых дней знакомства его поразила в мингрельце способность, принимая на себя и деля с другими всю тяжесть фронта, всю его грязь и жестокость, сохранять отдельной и незатронутой внутреннюю свою ткань, одухотворенную и в высшей степени человечную. Лампе даже усталым никогда его не видел: глаза не потухали, как бы ни было измучено тело.
Ветер раскачивал дверь, и пламя свечей то и дело стлалось, отрываясь от фитиля. И вдруг на глазах у Лампе огонь быстро метнулся в противоположную сторону, как если бы кто-то проходил мимо. А еще через мгновение дверь замерла, словно остановленная рукой, и тут же снова пришла в движение, набирая размах.
Случайность…
Они накладываются одна на другую, думал Лампе, а ты воображаешь связи и рисуешь фантастические картины. Ведь любые две точки в конце концов – это уже линия. А за тремя начинаешь угадывать силуэт.
Или – нет? Или мы так привыкли искать всему какие-то иные объяснения, мнящиеся основаниями разума, что отучились различать то, что дано сразу открытым, таким как есть? А мертвые действительно приходят и пытаются предупредить, встать между тобой и смертью, как тот подпоручик в сне Чичуа? Что видел Лежнев? Кто стоял между ним и каменным домиком возле ростовского моста?
Лампе наконец спросил себя, отчего так опасается расстаться с личиной скептика, самим же и выбранной в случайном, в общем-то, разговоре. Ведь он воспитан в строгой церковности, никогда не мыслил об атеизме и существование по смерти привык считать необходимым в цельной картине мира. Он доверял и доверяет до сих пор духовному видению тех, кто учил об этом. А они, оберегая тайну, ибо свет на нее – удел времен последних, ее контуры всегда обозначали твердо.
– Но я, – сказал Лампе, – хотел оставаться трезвым. Я считал себя солдатом. Многое было не моим делом. Мертвые были не моим делом. Я должен был делать простые вещи, и, чтобы делать их как надо, важно было оставаться трезвым. Предмет насмешек: унтер-офицерское мышление. Пусть так. Когда-то и в этом был смысл. Просто прежние смыслы не определяют больше вещей, а прежние принципы больше не к чему приложить.
Девушка у креста вздрогнула и испуганно обернулась: оказалось, он думает уже вслух.
Быть может, мы еще не понимаем до конца, с чем воюем, какие силы пришли в движение, так что и мертвые в этой борьбе покоя не имут и возвращаются (а сны – предел близости между нами?). Или же попросту настолько обречены здесь, что заранее стирается грань, разделяющая два мира…
Но именно в том, как обернулись пророчеством те закоцитные предостережения, мерещился теперь словно бы намек, туманное обещание особой значимости каждому их шагу.
Дежурившая у дверей лазарета сестра спала, уронив голову на сложенные руки. Две толстые пасхальные свечи – оброк с попа – освещали только проходы между просторными классными комнатами, и Лампе пробирался почти на ощупь. Константинова он отыскал по звуку: прапорщик царапал ногтями закрывавшие лицо бинты. От мерности его движений на Лампе повеяло безумием.
– Вы слышите меня?
– Штабс-капитан? Вы приходили уже.
– Что врач?
– Знаете, я решил. Если пойму, что ослеп, я убью себя.
– Прекратите. Даже если так, вас отправят в тыл, за вами будет уход. Кончится война – вполне возможно, что вам вернут зрение.
– Скажите, штабс-капитан, – Константинов перешел на многозначительный шепот, – я ведь больше не солдат, во мне бесполезно поддерживать боевой дух, так что скажите честно: вы еще надеетесь, что действительно будет когда-то конец, и мир, и, главное, место в этом мире для нас с вами?
Лампе не стал отвечать.
– Вы в Бога-то верите? – спросил прапорщик.
– Да. По крайней мере считал так.
– Я боюсь не беспомощности. Но бесполезности, понимаете? У меня нет никого. Мать умерла, давно уже. Братья неизвестно где. Может быть, в Москве. Оба учились там, когда все это началось. Я думал: если мы дойдем – пусть не удержимся, но хотя бы дойдем, – будет, может быть, какая-то возможность вытащить их оттуда. А потом понял: мы же никому не нужны! Откуда я знаю, что мои братья не отвернутся от меня просто за то, что я был здесь и делал, что делал?
Он подался вперед так сильно, что вот-вот мог потерять равновесие. Лампе держал наготове руку, чтобы его поддержать.
– Слушайте, но мы-то… знаем ведь, что под Христовым знаменем! И раз принять нас некому больше, то умереть мы должны успеть здесь, на поле, а не слепцом в провинциальном городе и не в большевистской тюрьме. Великая милость для нас эта война, открытая дверь. Потом-то – ад останется. Настоящий, который обещан. Лучше уж по мытарствам… Вы понимаете меня?
– Да, – сказал Лампе. – Думаю, что да. Но не знаю, я не уверен, что все вот так…
И вроде бы некая догадка все время опережала ум, дразнила тенью.
– Послушайте, вот когда вы там были с князем, все, что он делал, это было, по-вашему… от Него?
– Как – от Него?
– Ну… Не показалось вам, что его влечет что-то? Буквально какая-то сила?
– Но он же был уверен, что там Дина!
– Да. Но кроме этого?
– Я не понимаю…
– А у церкви: вы бежали к юнкерам, потом пулемет… Была хоть какая-то возможность укрыться не на крыльце, где-нибудь еще?
– Я же объяснил. На площади все уже простреливалось…
Лампе поднялся. Наверное, не следовало приходить. Он не знал и сам, чего в конце концов надеялся добиться от этого перечеркнувшего себя человека. Только смутное беспокойство и привело, ощущение упущенного, ускользнувшего и непонятого.
Кто-то заворочался рядом, чиркнул спичкой. Кровь на лице прапорщика кое-где уже проступила пятнами сквозь бинты.
– Уходите? Подождите! Скажите им: пусть хотя бы перебинтуют. Все присыхает…
– Они спят, – сказал Лампе. – Уже ночь.
Теперь армия двигалась по нескольким направлениям, почти в постоянном соприкосновении с противником. В суматохе мелких, на несколько верст, прорывов и отступлений трудно было оценить общее положение. Но почти всегда в конце дня поступали известия о значительном в целом продвижении. Вдохновение удачи носилось в воздухе и передавалось, умножаясь. На этом фоне Лампе темнел непроницаемо.
Со дня смерти князя, с той ночи его уже не оставляло ощущение отпадения от истины, неизбежно для человека духа выливающееся в мучительное отчуждение от собственного бытия. Внутренний этот разрыв порой проецировался даже вовне, становился зримо виден как обстояние вещей тонкой областью темноты. Пытаясь разобраться в себе, Лампе вязнул в вялых предмыслиях и ясно чувствовал только вкус фальши, обнаруживающейся теперь в той ажурной архитектуре нанизанных друг на друга представлений о должном, воспоминаний и фантазий, которую, нуждаясь в опоре, он кропотливо творил в себе, с тех пор как убедился, что чужим стало все по ту сторону кожи.
Теперь же не за что стало зацепиться ни глазам его, блуждающим по вещам, ни тому оку, что смотрит внутрь. И тусклостью этой подогревалось в нем постоянное глухое раздражение, все чаще приводившее к вспышкам ярости, обуздать которые он не мог, да и не хотел. Подчиненные его стали отводить глаза. Он же, все глубже погружаясь в разобщенность, все более уверялся, что в себе самой она заключает как бы и основания своей окончательности, невозможности избыть это тягостное отчаяние, бывшее, значит, не ожиданием вести, но самой вестью. И уже нельзя было ошибиться в том, что она обещает. Штабс-капитан Лампе принял мысль, что ему суждено умереть.
В Некрасовской, оставленной большевиками только накануне, добровольцев встречали радушно: из хат бежали женщины, несли хлеб и крынки с молоком. Станичники вывели навстречу колонне, изрядно избив сперва, двух нерасторопных комиссаров, не успевших уйти вместе со всеми. Теперь они стояли – русский, по виду из северян, и рядом низкорослый еврейчик, – гордо задирая подбородки, решив, видно, с презрением смотреть смерти в глаза. «Ради чего?» – лениво подумал Лампе, маршируя мимо. И вдруг понял, что знает ответ.
Обоих, не дожидаясь темноты, расстреляли в перелеске неподалеку. Станичники отказывались хоронить: «Нехристи! Пущай черт им за упокой поет!»
В тесной, маленькой хатке на краю оврага пьяненький пожилой казак вовсю уже пел, протяжно и зычно. Переводя дух, колотил себя в грудь ладонью: «Вот так! За Россию… и я пойду! А то как же, за Россию!» – «Противно, – сказал Лампе, – перестаньте». Но тот предпочел не услышать. А может, действительно был глуховат.
Вечером вдвоем с Закревским они вышли проверять караулы. Весь день Некрасовскую обстреливали: по близким лескам и болотам рассыпалось множество небольших вражеских групп; но как только стемнело, воцарилось спокойствие. В укрытой станице ночь казалась теплой, но на лугах, у реки, ветер забирался под одежду и моментально студил до дрожи. Лампе обрадовался возможности отдохнуть, когда, обойдя первую линию, они наткнулись на давний, поросший уже окопчик.
Самокрутку Закревский сооружал неумело: слишком долго и слишком старательно; та все-таки рассыпалась, прежде чем он успевал поднести ее к губам. Чертыхнулся, начал новую.
– У вас сны здесь бывают? – спросил Лампе. – О чем?
Подпоручик протянул ему простой, без выделки кисет.
– Желаете?
– Знаете же, что не курю.
– Знаю, – улыбнулся Закревский. – Но вежливость-то превыше всего. Тут уж я с детства ох как вышколен. Отец у меня был особенно чувствителен к этим вопросам. Он в деревне свору держал: это у нас потомственное, жили-то бедно, хуже крестьян, но собак не продавали никогда. Так не дай бог мне было замешкаться, не предложить вовремя гостям сесть или, еще хуже, за обедом что-нибудь схватить вперед сестры – тут же запрещалось неделю появляться на псарне. А я так привязан был к собакам, что предпочел бы плетку…
Он наконец втянул дым и тут же закашлялся, прижав к горлу ладонь.
– Самосад. Папирос бы. А сны… Мне как-то перед войной попалась книга: там доктор, немчура, объяснял сновидения с точки зрения – как бы это сказать? – венерической. Будто все, что нам снится, связано, оказывается, с половым влечением. Притом не просто с влечением, а с таким именно, которого сами в себе мы как бы и не осознаем, а оно все равно где-то там действует.
– И вы в это верите? – спросил Лампе.
– Ну не то чтобы убедился, но интересно же. Получалось, что женщины у меня теперь будут как на ладони, вся их подноготная, раз уж у них заведено сны пересказывать. Да и в себе занимательно покопаться. Но знаете, с тех пор – как отрезало. Спишь не так, конечно, как пьяным бывает, какое-то ощущение времени сохраняется, но чтобы образы, сюжеты – никогда.
Он помолчал, разглядывая небо. Потом вздохнул.
– Смотри-ка, все забыл.
– Что?
– Звезды, созвездия. А в гимназии ведь высший балл имел. Телескоп даже сооружали, с учителем.
– Неужели совсем?
– Ну, пояс Ориона еще узнаю. Значит, выше Бетельгейзе, верно? Дальше Альдебаран, Регул. Персей где-то здесь должен быть – там звезда Алгол: красная, звезда смерти.
– Это ведь арабские у них имена? – спросил Лампе.
– Всякие. У некоторых халдейские еще. Представляете, сколько веков!
Толщу времени Лампе вообразил себе почему-то как беспросветную, бесконечную воронку. И поежился.
– Продрогли? – Закревский ловил пальцами прилипшую к губе табачную крошку.
– Черт! Задувает даже здесь.
– На ходу согреемся.
– Куда там на таком ветру.