От грозы к буре Елманов Валерий
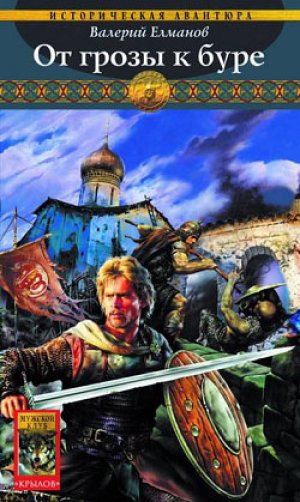
Уже через пятнадцать минут после того, как последний из спецназовцев, закинув «кошку» с веревкой, влез по ней на городскую стену, ворота распахнулись настежь, а еще через полчасика, когда уже начало светать, отборная тысяча дружинников деловито въезжала через них, держа путь к княжескому терему.
И не было ни яростных стычек, ни ожесточенных кровопролитных поединков. К тому же изрядную помощь ратникам оказал Любомир, четко указавший, в каких светелках спят малые княжичи, где отдыхает княгиня Ростислава и как сподручнее отыскать Ярослава, заночевавшего у очередной наложницы. Через три дня княжеское имущество уже было загружено в ладьи и отправлено вверх по Днепру в сторону Киева.
В последней из них находилась вместе со своим мужем и Ростислава. Вячеслав предложил было ей остаться в Переяславле, памятуя о чувствах своего друга, но тут же пожалел об этом. Княгиня ожгла его таким красноречивым взглядом, что у него аж в затылке засвербило.
– Это тебе твой князь просил передать? – только и спросила она.
Как лучше ответить, воевода не знал, но вовремя вспомнил очередное мудрое наставление своей мамочки: «Не знаешь, что сказать, – говори правду. Обойдется дешевле».
– Нет, – честно ответил он. – Сам решил предложить.
Взгляд княгини несколько смягчился.
– Это хорошо, – произнесла она. – А то я уж было подумала, что ошиблась… Князю Константину передай, что Ростислава обиды на него не держит и все понимает. Мой муж – его враг. Он поступил, как долг его велит, а я так, как мой долг, и потому следую за супругом своим, – жестко отрубила она и, гордо вскинув голову, прошла в свою светелку.
«Угораздило же Костю втюриться в эдакую…» – мрачно подумал Вячеслав.
– А скажи, воевода, – совершенно иным, певучим голоском спросила Ростислава, стоя в дверях светелки. – Жив-здоров ли князь твой? Не ранен ли?
– Да нет. Все у него хорошо. Только душа болит, но то рана сердечная, – нашелся Вячеслав.
– Сердечная, – вздохнула княгиня, улыбаясь какому-то своему воспоминанию. – И сильно болит? – поинтересовалась сочувственно.
– У-у-у, – только и смог произнести воевода.
– Бедный, – протянула она сожалеючи и тут же – ох, уж эти женщины – улыбнувшись лукаво, заметила: – А может, это и хорошо.
И фейерверк искр в глазах ее зажегся. Вспыхнул и искрами рассыпался.
«Да-а-а, в такую и я бы втюрился, – уже иначе подумалось ему. – Хотя нет. Строга больно. Нам бы чего попроще». – И он в который раз вспомнил сестричку княжеского стремянного Епифана Анну.
Может, она и уступала в чем-то этой горделивой красавице, но только не в глазах Вячеслава. Точнее, те компоненты, в которых ей было бы затруднительно спорить с княжной, для Вячеслава просто не имели никакого значения. Зато в том, что он ценил – женственность, мягкость, доброту и многое другое, – Анна бы с княгиней запросто могла посостязаться, и еще неизвестно, за кем бы здесь верх остался. Хотя нет. Если бы судьей был Вячеслав – тогда известно абсолютно точно.
К тому же помимо всего этого было в сестре Епифана нечто особенное, чего больше ни в ком другом Вячеслав, пожалуй, и не встречал. Словами этого не опишешь. Нет таких ни в одном языке мира, не придумали их люди, да и зачем. Если все разъяснениям да анализу логическому подвергать – жить скучно станет. Пусть хоть что-нибудь вечной загадкой останется. Любовь, например.
А Ростиславе спустя два дня, когда ладьи уже плыли по Днепру, внезапно стало до слез жаль, что она не согласилась на предложение воеводы. Однако длилось это недолго. Княгиня быстро взяла себя в руки – не впервой – и заставила думать об ином. Ну, например, о том, где им теперь придется жить, ведь мест не так уж и много. Только земли Новгорода, Киева, Смоленска и Галича не тронул Константин.
Переяславское княжество вроде бы тоже оставалось свободным. Во всяком случае, Константин, как и обещал Мстиславу Удатному, малолетних сирот не тронул и изгонять их не стал. Правда, говорить с ними ему пришлось не раз. Уж очень противились они поначалу, подстрекаемые своими боярами, тому, чтобы принять княжество из рук Константина не в вечное владение, а лишь в пользование.
Бояр переяславских тоже понять можно было. Еще бы! Кому приятно в одночасье и сел, и смердов лишиться. Гривны серебряные – штука хорошая, но они больше выгодны тем, кто хуторок какой-нибудь имеет, где всего-то душ пять-шесть. Пока выжмешь из них все, что тебе положено, не семь, а сто семь потов прольешь. Опять же время откуда брать, если то одна, то другая служба отвлекает. С гривнами и впрямь куда как проще получается. Выдал их тебе князь, и иди, сотник или, там, тысяцкий, покупай все, что твоей душе угодно.
Иное дело, когда боярин по нескольку сел имел. Тут не просто дань – тут еще и власть душу грела. Захотел – плетью смерда огрел, захотел – в поруб его кинул. Красота. Теперь же он обыкновенным служивым человеком оказывался. Можно сказать, в закупах у князя Константина. Ничего себе! Такое далеко не каждому по сердцу придется.
Да и дядя Ярослав, ныне отсутствующий, тоже в свое время немало всякой грязи вывалил на рязанского князя.
Словом, на Константина, подъехавшего через пару дней после отъезда последнего из оставшихся в живых сына Всеволода Большое Гнездо, все смотрели, как на монстра какого. Особенно этим старший отличался, десятилетний Василько, да и средний – девятилетний Всеволод – тоже поглядывал как волчонок, исподлобья.
Пришлось вспомнить все, чему его учили в пединституте относительно подростковой психологии. Дичились ребятки всего два дня. Здорово помогли имеющиеся знания. Константин ни в чем не убеждал их – только рассказывал: о дальних странах и диковинных зверях, о древних городах и странных обычаях, о воителях древности и седых мудрецах. Мальчишки слушали его, раскрыв рот.
И еще одно на руку Константину сыграло здорово. Время от времени князь отца мальчиков хвалил, Константина Всеволодовича. Вот этим он их, можно сказать, и «купил» окончательно. От стрыя своего Ярослава Василько с Всеволодом если и слыхали что о батюшке, так лишь пренебрежительное, а то и вовсе «тряпка», «слюнтяй» и так далее.
Последнее, правда, он допускал только в разговорах с другими, да и то лишь тогда, когда не замечал, что в отдалении маячат Василько или Всеволод. Но ребята все слышали, и коробили их эти слова здорово. Да и кому приятно такое о родном отце слышать?
Константин же о своем тезке иначе говорил – ум его высоко оценивал, доброту, великодушие, любовь к книгам. Причем все искренне, от души, а это тоже важно. Дети – они фальшь остро чувствуют. Их лицемерным сюсюканьем не проймешь. Даже хуже будет. А когда догадаются, что ты им говоришь одно, а думаешь об этом совсем иначе, то и вовсе пиши пропало. Не простят и помнить долго будут.
И так Константин своего тезку захвалил, что чуть ли не до абсурда дело дошло. Уже сам Василько, на правах старшего сына, позволил себе легкую критику в адрес отца.
– А воевать тятя не любил, – заметил он и вздохнул осуждающе.
Пришлось новый курс ликбеза им обоим закатить и о войне рассказать. Но не о той, какую они себе по малолетству понапридумывали, а о настоящей, без прикрас, чтоб мальчишки воочию себе ее грубый жестокий оскал представили, с кровью, с болью, со сбитыми ногами, с ранами, от которых смердит, потому что они гнить уже начали. Судя по тому, как у ребят лица побледнели, а у Всеволода лоб и вовсе испариной покрылся, воображение у обоих хорошо сработало, в пользу князя.
Закончил же Константин неожиданно:
– Любить войну не за что, но воевать уметь надо, если дело того требует. Ваш отец как раз из таких был. Настоящий князь. Не зря у него в дружине лучшие из лучших служили. Да так любили вашего батюшку, что после его смерти к вашим стрыям переходить отказались наотрез, хотя им и предлагали.
– И стрый Ярослав предлагал? – уточнил Всеволод.
– И он тоже, – подтвердил Константин. – А они ни в какую. И воевать, если нужно, ваш отец получше многих умел. Когда он за справедливость под Липицей бился, то тех же владимирцев с суздальцами разбил наголову.
– А стрый наш ничего не сказывал о том, – заметил Василько.
– Как же, будет он рассказывать, – усмехнулся рязанский князь. – Он же чуть ли не самый первый от него улепетывал, да так, что только пятки сверкали.
– Стрый?! – завопил радостно Василько, не верящий ушам своим.
– От батюшки?! – вторил ему изумленный Всеволод.
– Именно стрый и именно от батюшки, – подтвердил Константин.
Дальнейшее произошло всего через день после этого разговора. Константин собрал в большой просторной гриднице княжеского терема оставшихся под рукой своих тысяцких на очередной совет, чтобы решить вопрос – как дальше быть с Переяславским княжеством. Внезапно вошли Василько и Всеволод. Были они непривычно серьезны, нарядно одеты, преимущественно в алое, как и положено княжичам, хоть и маленьким. Зашли не одни – за руки старшие братья держали своего меньшого, пятилетнего Владимира. По другую сторону от Василька гордо вышагивал еще один Всеволод – единственный сын Юрия Всеволодовича. Ему шесть лет совсем недавно исполнилось.
– Мы готовы, – гордо заявил Василько, пройдя всю гридницу и остановившись прямо перед Константином.
– К чему? – поначалу даже не понял рязанский князь.
– Княжество Переяславское из дланей твоих прияти и роту дати в том, что будем верность тебе хранити, яко сподручники твои, – нимало не смущаясь от десятков глаз, на него устремленных, отчеканил тот заранее приготовленную фразу.
Иные из тысяцких даже заулыбались невольно. Уж больно потешным был контраст. Сами-то мал мала меньше, а глазенки горят, суровые такие, фу ты ну ты. Им бы хоть росточку побольше…
А тут и младшие княжата – даже до того, чтобы их княжичами называли, они и то еще не доросли, – в один голос, с серьезной важностью на детских личиках подтвердили заявление старшего:
– Лоту, лоту дати.
Иные из собравшихся и вовсе прыскать в кулак стали, не в силах сдержаться. Но Константин этих весельчаков быстро остудил. Так взглядом ожег, что сразу все и все поняли. Сам тут же со своего стольца поднялся сноровисто и меч из ножен вытянул.
– Повторяй за мной, – предложил, но Василько только головой замотал отчаянно.
– Я сам все ведаю, – заявил он и принялся говорить. Слова клятвы звучали звонко, отчетливо, только голос немного от волнения подрагивал.
«И где он текст-то откопал?» – подумал Константин, а потом вспомнил, как весь последний день княжичей не видно и не слышно было. Спросил у дворни, а те ответили, что дети вроде как с Творимиром. Этому Константин доверял, да и других неотложных дел хватало, так что больше мальчишек не искал. А они вишь чего удумали. Ну и что ж, что голос детский – зато клятву как чеканит. Такой голос не подделаешь – сразу чувствуется, что от всего сердца он идет, искренне.
Уезжал рязанский князь из Переяславля-Южного с легким сердцем – верил, что здесь все в порядке будет. Расставанье трогательным получилось, хотя прощались по-взрослому, без поцелуев. Как-никак хоть и удельные, но уже не княжичи перед ним стояли – подлинные князья, особенно Василько с Всеволодом. Таких поцеловать – обида смертная будет. А так хотелось.
– Побыл бы еще, – застенчиво предложил Василько.
– Ага, – подтвердил Всеволод.
– Исчо, – протянул маленький Юрьевич.
– Я бы с радостью, – улыбнулся чуть виновато Константин. – Но княжий долг требует. Надо воеводу своего догонять. Негоже, когда он один в грады чужие въезжать станет.
– Чтобы Русь единой стала, – кивнул Василько понимающе. – Тогда езжай.
Молодец, мальчишка! Здорово все запомнил!
– В гости скоро ли приедешь? – не удержался Всеволод.
– Пожалуй, по первопутку нагряну, – пообещал рязанский князь. – Я же столько всего интересного вам еще не рассказал.
Едва произнес это, как глаза у обоих загорелись радостно. Пришлось тут же зарубку в памяти сделать – умри, но выполни. Слово князя – золотое слово. Сам их этому учил. С тем и укатил вдогон за Вячеславом, который как раз из Смоленского княжества уже возвращался.
Оно тоже почти свободным оставалось. То есть почти, но не совсем. Земли удельного вяземского князя Андрея Долгая Рука, так же как и Дорогобуж, рязанские отряды заняли.
То же самое произошло и с Владимиро-Волынским княжеством. Территорий, принадлежавших молодому Даниилу Романовичу, рязанский князь не коснулся, зато владения погибшего Ингваря Луцкого и живого Александра Бельзского взял под свою руку, выйдя, таким образом, второй раз на границу с поляками.
Разница была лишь в том, что на севере, в районе глухих болот Полесья, Константин вышел на границу с князем Конрадом Мазовецким, приютившим Михаила Городненского, а заодно с Конрадом заполучил в соседи беспокойных ятвягов, воинственную литву и прочие дикие племена, населяющие Прибалтику. На юго-западе же с Рязанским княжеством теперь сошлись земли Малой Польши, где от такого соседства сразу стало неуютно в своем краковском замке князю Лешко I, прозванному Белым, – родному брату Конрада Мазовецкого.
В Чернигов Константин въезжал тоже с тяжким сердцем. Как ни крути, а траур в княжеском тереме – его работа. Говорить-то что угодно можно: сами, мол, полезли, сами мира упрямо не хотели. Короче, кругом они – не ты виноват. И все складно получается, все правдиво – не подкопаешься. Ну а теперь в глаза вдовам и сиротам загляни – повернется язык такое ляпнуть? То-то и оно. Лучше уж вовсе ничего не говорить, а еще лучше – вообще глаза не мозолить и даже не появляться поблизости. Только никуда не денешься – княжий долг обязывает самолично под свою руку принять черниговские земли.
Но и тут у Константина схитрить получилось. Решил он, что пусть их лучше подручник будущий принимает. К тому же должок за ним – из полона Ингваря вытащили, где тот сидел. Правда, полон тот – с подвалом Глебовым, что в Рязани был, – не сравнить. Одно лишь утеснение и было у Ингваря – выходить ему дальше двора никуда не позволялось. В остальном же – ешь, пей, гуляй, сколько твоей душе угодно.
Однако и с ним тоже не все ладно получалось. Вячеслав не доглядел, когда остатки княжеских ратей под Ростиславлем в пух и прах разносил, а предупредить некому было. Словом, не уцелел брат его Роман. Тело они, конечно, привезли в Чернигов. И мед для домовины нашли, чтобы не разложилось, и все остальное сделали честь по чести, но кому легче от того, что все приличия соблюдены?
Ингварь же молодцом оказался. Постояв возле колоды дубовой, в которой тело его брата покоилось, нашел в себе силы, чтобы рассудить здраво:
– Видать, доля его такая была.
И все. Только на мать покосился жалостливо, которая, стоя у гроба, ревмя ревела, да брату Давыду кивнул на нее, повелев, чтоб приглядел.
Разговор с Ингварем получился тоже на удивление быстрым. Да и ни к чему долго рассусоливать-то. Константин лишь спросил его на другой день после того, как тризна печальная прошла:
– Не передумал в сподручники ко мне идти?
– Нет.
– Тогда принимай княжение Черниговское. Роту завтра же при всем честном народе дашь, – и пояснил, хотя и без того понятно было: – Не хочу и дня лишнего здесь пробыть. Вроде и не виноват ни в чем, а… – и толкнул его в бок заговорщически: – Да ты и сам, поди, все понимаешь. Не маленький.
Ингварь лишь молча кивнул в ответ, весь погруженный в думы. Лишь спустя пару минут до него весь смысл сказанного дошел. Повернувшись к Константину, он недоверчиво поинтересовался:
– Княжество-то уж больно великое вручаешь.
– Княжество у меня так и осталось одно – Рязанское, – поправил тот. – Тебе же я лишь часть его вручу завтра в держание. Дани потом обговорим.
– А не боязно тебе? – спросил хитро Ингварь.
«Вот паршивец», – подумал князь.
– А тебе? – ответил он вопросом на вопрос.
– Мне – да. Есть немного, – честно сознался будущий черниговский наместник. – Но ничего. Давыд вон уже большой совсем. И умен не по годам. Если что – поможет.
– Да нет, – вздохнул Константин с сожалением. – Это ты ему, если что, помоги, – и пояснил: – Я твоему брату соседнее, Новгород-Северское княжество думаю дать. Как мыслишь – управится он?
Ингварь подумал немного. Дело-то и впрямь нешуточное. Получается, что на него теперь двойная ответственность ложится, потому что если он сейчас скажет «да», то вроде как поручителем за него будет.
– Управится, думаю, – решился все-таки ответить он.
– Вот и ладно, – обрадовался Константин и пожаловался: – Людей у меня не хватает. Земель много, а вот управлять ими некому. Ну да ничего. Это дело временное. И найду, и научу.
– Да, – согласился с ним Ингварь. – Раскинулось оно у тебя.
Впрочем, говорить «Рязанское княжество», начиная с лета 6727-го от сотворения мира, стали все реже. Намного чаще теперь слышалось иное, гораздо более уважительное и даже почтительное: «Рязанская Русь». Действительно, княжеству, которое имело территорию, чуть ли не втрое большую, чем владения всех остальных князей, не считая земель Новгорода, приличествовало уже иное название, посолиднее.
Морщились, когда слышали его, и Мстислав Романович Киевский, и особенно Владимир Рюрикович Смоленский, да и другие князья. А что делать? Не было уже в живых вдохновителя летнего похода Мстислава Святославовича Черниговского, как не было в живых и его сынов. Единственный из рода князей черниговских, который остался в живых после всех битв под Ростиславлем, Мстислав Давыдович, был отпущен Константином Рязанским и нашел свой приют у Мстислава Романовича Старого.
Тот скрепя сердце дал ему в удел небольшой городок Мозырь, стоящий почти на самой границе с бывшим Турово-Пинским княжеством, которое ныне также перешло под власть Рязани. Да и не мог молодой двадцатишестилетний Мстислав претендовать на большее, поскольку даже по великому лествичному праву, которое иногда еще вспоминали, если твой отец на престоле не сиживал, стало быть, ни тебе, ни потомству твоему там делать нечего. А у него не то чтобы отец, но и дед Олег Святославич в Чернигове не княжил, потому как слишком рано скончался.
Угрюмо молчал и второй подстрекатель – Ярослав Всеволодович. Смоленский князь то ли в насмешку, то ли для вящей памяти, чтоб не забывалось, то ли как бы в упрек безмолвный предложил ему в кормление земли и городок с тем же названием, что и рязанский, – Ростиславль. Был он приграничным с Рязанской Русью, и Ярослав, поблагодарив, от него отказался.
Его деятельная натура настойчиво требовала чего-то большего. В конце концов, с трудом смирив гордыню, точнее, усилием воли приглушив ее на время, он еще до осенней распутицы подался в гости к своему тестю, в Галич. Мстислав Мстиславович после долгих колебаний выделил непутевому зятю тоже приграничный город, и тоже весьма с символичным названием. Но, во-первых, теперь его главным соседом стал не Константин, а польский князь Лешко Белый, а во-вторых, название города было символичным лишь потому, что звучало точно так же, как и имя самого князя, – Ярослав.
Третий же, а по значимости, может, и первый из подстрекателей, епископ Суздальский, Владимирский и прочая Симон, отделался поначалу, если можно так выразиться, условным сроком. Да и то лишь потому, что Константин просто не знал, какие санкции к нему применить. Конечно, лучше всего было бы полную изоляцию к нему применить, засунув в какой-нибудь монастырь, но как отреагирует митрополит на такое самоуправство, Константин не знал, а рисковать боялся. Не время было ссоры из-за такой ерунды затевать. Поэтому он лишь строго пообещал Симону, что еще только один раз – и тогда уж точно все. А что именно «все» – ни за что бы не ответил. Да он и сам не знал.
Раз этот пришелся уже через два месяца, когда ранней зимой епископа вновь застукали врасплох. Монаха, посланного Симоном незадолго до этого к своему коллеге в Чернигов, люди воеводы Вячеслава аккуратно напоили сонным зельем уже в Муроме и, пока он спал, прочли послание. Константин в это время как раз уехал в Переяславль-Южный, чтоб сдержать данное княжичам слово. Но то, что в послании было написано, настолько взбесило воеводу, что он и дожидаться княжеского возвращения не стал. Просто ворвался через пять дней в покои епископа, небрежно бросил изъятую грамотку на стол и заявил со своей прямотой:
– Слыхал я, что горбатого только могила исправит. От себя добавлю, что тебя, святой отец, лишь монашеская келья вразумит. Короче, так… Пока горит твой огарок, – а свеча да столе и впрямь уже еле теплилась, – подумай хорошенько и выбери сам. Либо даешь согласие, и мы тебя нынче же отвозим в любой из монастырей, где ты принимаешь на себя великую схиму[118], либо ты, но все равно сегодня же, берешь на себя тяжкий труд проповеди слова божьего среди закоренелых язычников. Тут я тоже, как добрая душа, даю тебе право выбора. Хочешь – к мордве отвезу, хочешь – к черемисам[119] доставят. Можешь к литве дикой, ятвягам буйным, пруссам неумытым. Словом, куда угодно… кроме половцев. Туда тебя посылать никак нельзя, это все равно что козлу доверить капусту сторожить.
– Да ты как посмел?! – аж задохнулся от ярости Симон. – В своем ли ты уме, воевода?!
– Я еще не посмел, – поправил воевода. – Вот если свеча догорит, а ты ничего не надумаешь, тогда и посмею… сам за тебя выбор сделать, но уже третий. Кляп в рот, мешок на голову и в лес до первого дуба на опушке. Веревка у меня с собой, а руки аж чешутся… посметь.
– Нешто ты и впрямь веришь, что хоть кто-то из твоих людей отважится на столь богомерзкое деяние? – криво усмехнулся Симон, еще не желая признаться, что проиграл.
– Да я об этом даже и не думал, – искренно удивился Вячеслав. – Неужели я такого удовольствия самого себя лишу. Да ни в жисть. Я же твое преподобие самолично вздерну. Тем более что ты и так святую Русь целый лишний год ногами своими погаными топчешь.
– И рука не дрогнет? – уже вяло, потому что ответ он предвидел, спросил епископ.
– Навряд ли, – уверенно заявил воевода. – Разве что от радости.
– Христос тебя покарает, – попробовал пугнуть Симон, хотя тоже скорее из-за того, что не хотел сдаваться сразу.
– Он таких, как ты, фарисеями называл. Если бы он сейчас на Руси появился, то ты бы его к себе в кельи подвальные засунул бы как еретика.
– Сын мой, ведь в евангелии сказано: «Не судите, да не судимы будете», – попытался отсрочить хотя бы ненадолго свой крах епископ, но увещевания не получилось.
Вячеслав ему даже договорить не дал, перебив гневно:
– Чем такого отца иметь, лучше с тамбовским волком породниться. А насчет того, что не судите – это ты верно сказал. Тут я тебя послушаюсь и повешу без суда и следствия. Да что я тут с тобой валандаюсь, – махнул он рукой. – Я так понял, что выбирать ты не хочешь, то есть мне за тебя решать нужно? Так?
– Нет! – возопил испуганно епископ. – Во Владимире останусь. Откуда пришел, туда сызнова вернусь[120].
– Перебьешься, – усмехнулся Вячеслав. – О Владимире ты забудь, владыка. Я еще из ума не выжил – в родных пенатах тебя оставить.
– Тогда в Суздаль отправлюсь, в Покровский монастырь. Завтра же выеду, – не стал перечить Симон, надеясь только на то, чтобы этот наглец ушел и оставил его в покое всего на одну ночку.
О-о-о, это для кого другого одна ночь ничего не значит. Для Симона же она была бы самой настоящей спасительницей и избавительницей, но…
– В Суздаль так в Суздаль. Только не завтра, а нынче и сейчас, – категорично заявил воевода, почуявший неладное.
– Но собраться время нужно.
– В повозке тепло.
– Одеться.
– Ты что – голый? В рясе сидишь. Вполне хватит.
– Мне указания надо дать.
– Знаю я твои указания. Потом за тобой их еще полгода придется расхлебывать, – проворчал Вячеслав.
– Но ведай, сын мой, что ты совершаешь тяжкий грех, ибо хочешь, чтобы я принял великую схиму не по своей воле, а по принуждению, – уже усаживаясь в возок, заметил епископ.
– Еще одно слово про принуждение, и первый дуб твой, – сурово предупредил его воевода. – Я ж тебе выбор предложил, и ты сам его сделал. Сказал бы, что мордве слово божье хочешь проповедовать, так мы бы тебя мигом туда доставили. А раз выбирал добровольно, то ни о каком принуждении и думать не моги.
Вот так в Покровском монастыре града Суздаля появился новый монах, принявший после второго пострига имя старца Филарета. В стенах монастыря сей старец вскоре очень близко сошелся еще с двумя. Один был седым как лунь, хотя и с молодым лицом. Звали его отцом Аполлинарием, отринувшим, после увиденного им откровения божьего, языческое имя Гремислав. Второй, внеся при вступлении хороший вклад, устроился относительно комфортабельно и отзывался на имя Азарий. Прежнее имя, хотя тоже крестильное, которое ему дал во младенчестве отец, ожский боярин, он еще помнил, но уже смутно, будто Онуфрием звали не его, а кого-то другого.
Одной из самых любимых тем их общих разговоров была чистая христианская скорбь по завлеченной в тенета диавола и потому навсегда загубленной душе рязанского князя Константина. Скорбели о ней все трое монахов не реже раза в неделю, обычно после вечерни, после чего смиренно расходились по своим кельям, пребывая в необыкновенно умиротворенном состоянии духа.
Вообще-то великая схима, как высшая ступень монашества, при которой даже другое имя положено давать, предполагала под собой самое строгое соблюдение всех обетов. Какие беседы, когда он даже из кельи своей и то выходить не должен! Но тут уж Вячеслав был бессилен что-либо сделать, даже если бы узнал про чрезмерную снисходительность тамошнего церковного руководства монастыря, которое, будучи по натуре трусоватым, по привычке еще продолжало опасаться бывшего владыки. Не зря бывший епископ выбрал именно Покровский монастырь. Знал он, что нигде ему так хорошо и спокойно не будет, как у игумена Тимофея.
Спустя же три месяца старец Филарет взял чистый лист пергамента и написал на нем своим красивым витиеватым почерком, которым он в свое время так гордился: «Ведомо мне, божьему человеку, стало, что рязанский князь Константин, еще в младости лет пребывая, крестом православным тяготился и носити оный не желаша».
Строки, выводимые рукой привычного к письму старца, ложились на чистый желтоватый лист ровно и разборчиво, наполняя сердце монаха радостным умилением от появившейся возможности последовать старому библейскому завету: «Око за око…»
Пускай только через пятьдесят или сто лет, но написанное им непременно прочтут, и в памяти потомков останется именно то, что он сейчас пишет, а не какие-нибудь устные сказания или былины.
«Не след брати мудрому на веру те словеса, кои до его уха дойдут, ибо они суть былых лет, блуждаючи из уст в уста, изолгут вовсе, – написал он далее, на всякий случай добавив: – Мой же сказ правдив, ибо записан со слов людей, бывших самыми близкими слугами оного князя, узревшими воочию всю мерзость его деяний».
Подумав немного, он зачеркнул слово «слугами» и принялся писать дальше, все так же старательно и неторопливо. А куда спешить? Времени у него теперь было – хоть отбавляй.
* * *
И погноиша оный князь Константин мнози мужей достойных, и не щадиша такоже и духовный сан имеюща. На Симона, епископа суздальского, владимирского, юрьевского и тарусского, обличающего князя сего во многих грехах, в блуде и чародействе тайном, Константин тако же терновый мученический венец возложиша и учиниша оному епископу казнь мученическую, терзаша тело его всяко и гонениям подвергаша. Но, снеся все без ропота, епископ сей лишь господу молитву возносиша горячу, дабы не наложили вседержитель длань гневну свою на князя сего, а простиша ему грехи ево мнози, ибо по неразумию твориша он непотребства свои.
Из Суздальско-Филаретовской летописи 1236 года.Издание Российской академии наук. СПб., 1817
* * *
Что касается тех изысканий, которые были проведены академиком Потаповым в отношении авторов летописей, из числа тех, кто являлся современником Константина, то я частично согласен с ним…
Однако не могу не указать на некоторую скоропалительность, с которой Юрий Алексеевич поспешил зачислить в авторы Суздальско-Филаретовской летописи самого Симона – епископа Суздальско-Владимирской епархии. Я допускаю, что это был человек, который знал епископа достаточно хорошо. Не исключено даже, что он не раз общался с ним лично и потому сопереживал ему.
Но писать в таких высокопарных тонах о самом себе епископ навряд ли стал бы. Для этого надо быть слишком самовлюбленным человеком. Кроме того, если бы автором был епископ, то каким образом он смог бы написать о своей собственной казни, которую ему учинил князь Константин. Тогда получается, что эти строки писало привидение в епископской рясе.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности.СПб., 1830. Т. 2, с. 174.
Глава 21
Парад-алле
Златой мне цепи не давай,
Награды сей не стою,
Ее ты рыцарям отдай,
Бесстрашным среди бою.
Ф. И. Тютчев
Последнее из радостных событий, произошедших уже осенью того же 6727 года, по значимости не очень существенное, но по своему эффекту весьма и весьма, пришлось на первую неделю жовтеня[121]. Такого жители Рязани еще не видели. Впрочем, в иных городах на Руси этого зрелища тоже раньше никогда не наблюдали. Не принято оно было.
Нет, и раньше князья-победители тоже практиковали торжественные въезды в свою столицу. И бежала вдогонку за горделиво гарцующими на своих конях дружинниками малышня-ребятня. Боязливо распахивались створки ставень в богатых теремах, чтобы боярышни краешком глаза могли увидеть молодых красавцев, украшенных свежими, еле зарубцевавшимися шрамами. Дебелые же боярыни из другого окна глядели смело, положив необъятную пышную грудь прямо на подоконник и любуясь своим седым вислоусым мужем, чей конь важно шествовал след в след за княжеским скакуном. А может, и не только мужем, но еще и сыном, да мало ли кем. Не об этом же речь, верно?
И ахали восторженно горожанки попроще, которым менее высокое положение запросто позволяло вести себя повольнее. Иные же и вовсе кидались в крепкие объятия своего единственного, будь то суженый, только нареченный или просто желанный.
И смех радостный тут слышался, и плач бабий, когда видела она у своего родного руку на перевязи. Зачастую и вой скорбный раздавался, когда на вопрос – мой-то где? – знакомцы прежние только крякали досадливо, хмурились, стыдливо отводя глаза в сторону, а вместо ответа мрачно стаскивали шапку с головы. Все мешалось.
Словом, эти торжественные въезды в город и раньше были, но проходили они все больше как-то спонтанно. Специально же организацией подобных мероприятий отродясь никто не занимался.
Ныне же все подталкивало к тому, чтоб не просто, не абы как, а иначе, построже, что ли. Поэтому, пока все пешие полки неспешно плыли вниз по течению Оки, больше любуясь рекой да радуясь возвращению и погодке разгулявшейся, княжеская ладья – одна изо всех – стрелой в Ожск летела, чтоб успел Константин все окончательно обсудить, а также прилюдно вручить первые медали и ордена. Пусть видят, как князь своих людей жалует, невзирая на то, кто они по роду-племени, а также по званию сословному.
Вечер Константин с Вячеславом, Минькой и Сергеем Ивановым потратили на то, чтобы обсудить – кому, какие и за что ордена с медалями вручать. Торопиться было необходимо, потому как к утру должны были причалить ладьи с людьми из первых трех полков, чтобы славу награждаемым громогласно кричать, а ведь к каждой из наград требовалось еще и грамотку выписать соответствующую, а на ней большую княжескую печать оттиснуть. Ну, сами-то грамотки, положим, и заранее можно было заготовить, а вот с именами да отчествами похуже – пока решение не принято, только шапку сверху и можно накатать. Хорошо еще, что обсуждали только за тех, кто из Ожска самого, а таковых не столь уж и много набиралось. По остальным же проще. По ком Константин сам решение принял, а кого-то Вячеслав назвал – прежде всего это дюжины тысяцких касалось из наиболее отличившихся полков, а также воеводы и свежеиспеченного тысяцкого ряжского полка Юрия Михайловича Золото.
Наконец были утверждены и прочие кандидатуры. Непривычно было здоровякам кузнецам и прочему мастеровому люду прилюдно выходить на середину поля, по одному краю которого стояли горожане, а на трех других сторонах выстроились муромский, владимирский и суздальский полки. Каждый из них впервые в новой роли опробовал себя еще под Ростиславлем, где после победы пришлось драть глотки в троекратном «Слава!». Только там их было шесть – сами ростиславцы в строю стояли, коломенцы по правую руку, а вои из Переяславля-Рязанского – по левую. В Коломне их так и осталось шесть – вместо ростиславского полка там встал звенигородский с тысяцким Зуйко, а вот под Переяславлем-Рязанским было уже четыре.
Ныне же только три, поскольку ратные люди ожского и ольговского полков, прибывших из-под Ряжска и Пронска, не в счет. И не обучены, и мало их, да и ходят-то еле-еле. Зато в оставшихся трех полках каждый ратник за двоих глотку драл: великая сила – привычка. Как рявкнут, так вороны, только присевшие на деревья вокруг поля, снова в полет поднимаются, возмущаясь на ходу, что люди сегодня будто с ума посходили, покоя совсем не дают.
Мудрилу же, то бишь Юрия Степина, и вовсе в пот кинуло, когда князь ему прилюдно медаль «За отвагу» на грудь повесил, грамотку вручил и поцеловал троекратно. Чуть погодя, на пиру у князя, в этот же вечер устроенном, кузнец откровенно сознался, что ему проще было бы цельный день из литейной мастерской не выходить, в жаре, копоти да саже пребывая, чем то недолгое время на поле возле князя простоять.
– Вон, погляди, княже, руки аж доселе трясутся, – показывал он стыдливо.
Константин сочувственно кивал, но хорошо видел и другое, как шел тот обратно, домой после награждения возвращаясь. Грудь колесом выпячена, а голова так высоко кверху задрана, что того и гляди споткнется кузнец обо что-нибудь. Не от заносчивости – от гордости он так шел. Когда еще такой почет будет, как ныне, чтоб ему, простому ковалю, не токмо вои оружные – сам князь прилюдно «слава» кричал.
Почитай, каждый из соседей Мудрилу останавливал и не отпускал, пока тот грамотку ему не зачитывал да не давал медаль пощупать. Иные ее на зуб пытались пробовать, но тут уж кузнец начеку был.
– Каждый будет грызть, так она и до завтра не дотянет, а мне ее еще внукам оставить надобно!
– Так, можа, она и не серебряная, – хмыкал обиженно иной.
– Дурья твоя башка, – снисходительно отвечал Мудрила. – Серебрецо-то что – оно у каждого имеется. У тебя самого, поди, одна-две гривенки припасены. Тут ведь честь главное. Она, пожалуй, дороже всего прочего стоит. Но опять-таки мыслю, что коли даже у тебя гривны имеются, то неужто у нашего князя их в казне в тыщу раз больше не скоплено? Стал бы он мне дарить невесть что, самого себя в позор вгоняя. Эх ты, тютя.
Но пока одному втолкуешь, другой с расспросами лезет. Приходится и ему отвечать. А иначе никак. Живо слух по Ожску поползет, что зазнался Мудрила сын Степин – а ему с людьми жить да жить еще. Еле-еле он к вечеру до дому добрался да отмыться успел, чтоб на княжий пир не опоздать.
Про себя, кстати, Минька и не заикнулся ни разу, когда награды обсуждали. Он даже в мыслях не держал, что друг Костя ему и Сергею Иванову не медали, а ордена приготовил.
– По блату, что ли? – спросил ворчливо, с трудом от счастливой мальчишеской улыбки воздерживаясь.
Лезла она упрямо, выползала, подлая, на лицо веснушчатое, заставляя губы кусать, чтоб не расползались они, предательницы, радость несолидную выдавая. Уж больно красив был этот орден окаянный. Странное дело, когда штамповали, он таким красивым Миньке еще не казался, зато теперь… Вязью славянской витиевато выписано: «Доблесть и мужество», а на обороте – впрочем, такое у всех наград без исключения – сам князь изображен в полном боевом облачении, а в полукруге нижнем выпукло написано: «Великий Рязанский князь Константин жалует».
– Ну, Миня, – только и сказал в ответ на его реплику князь, да и то вполголоса, чтоб никто не услышал. – Ну когда ты только поумнеешь? Ты же мне город спас. Неужели неясно, что был бы любой другой на твоем месте – и он бы такой же награды удостоился?
– Сережка, то есть Сергей Вячеславович, побольше моего там трудился, – заметил критически изобретатель. – Со стен вообще сутками не сходил. Лучше бы ты ему вручил.
– И впрямь я чего-то не подумал, – притворно вздохнул Константин. – Орден-то дефицитный. Теперь надо год ждать, пока еще один изготовят.
– Как год? – не понял поначалу Минька, но потом заулыбался – дошло до парня.
А Сергей же приятно удивил тем, что строго ответил князю, едва тот его расцеловал, «Доблесть и мужество» вручая:
– Служу Руси святой!
– Вот это орел! – восхитился Вячеслав. – Никто ж не учил, а он почти по уставу шпарит, хотя и ненаписанному еще. Тысяцкий, как есть тысяцкий.
– Э, нет, воевода, – поправил его нерастерявшийся Сергей. – Я человек вольный. Просто Руси на любом месте послужить хорошо можно.
Словом, замечательно все прошло. Может, оно и получше можно было бы организовать, но и так недовольных не было.
Прощаясь же и торопясь в Рязань, чтоб непогода в пути не застала, Константин уже на пристани заметил Миньке с Сергеем:
– Пора на полный ход монетные цеха включать. Там для вас завтра ладьи подойдут с весовым серебром. Принимайте строго по описи и приступайте. Теперь вам надолго хватит – сто двадцать пять пудов плывут. В первую очередь крупную монету чеканьте – мне их своим воякам раздать надо, ну и семьям, где люди погибли, – тоже. Так что побыстрее, если можно.
– Сделаем, княже. До первопутка успеем, – солидно кивнул Сергей, и орден на его груди тоже блеснул, будто за хозяина поручался.
В Рязани же и до всех прочих очередь дошла. Поначалу медали раздавали. Не забыли и спецназовцев. Жданко и Званко – двоим, особо отличившимся при взятии столицы Переяславского княжества, – тоже «За отвагу» достались. Доказали на деле парни, что не только на шалости да проказы способны, от которых купцы стоном стонали[122].
Ох и радовался за товарищей Николка Панин. Чуть ли не больше их самих ликовал. Только в душе совсем немного, самую чуточку, на судьбу посетовал – был бы он там, может, тоже сейчас посреди поля стоял, счастливый и довольный. А потом отмахнулся беззаботно – а может, и не стоял бы. Нешто тут угадаешь.
И снова вместе со всеми троекратное «Слава!» кричал, когда медали норвежцам раздавали, не уставая каждым из них восхищаться – и Туре Сильным, сыном Борда Упрямого, и Старкадом по прозвищу Семь Узелков, и Торлейфом Теплым Чулком, и Эйвандом Шестипалым и пятым из их компании Свеном Отважным. Это те, кто лучше всего в дружине бились. Да и всем прочим, кто князю уйти подсобил и от верной смерти его спасал, медали достались. Но не только им одним.
Ныне князь щедр был на награды. Рясское поле тоже забывать не след. Тем, кто там лег навечно, дьячки в церквях «Вечную память» пропоют голосами гнусавыми, а кто выжил, вечную славу себе снискал. Среди таковых первыми по праву ростовчане были – Добрыня Златой Пояс, Александр Попович, Нефедий Дикун и еще человек пять из бывшей богатырской дружины. Им князь «Мечи славы» вручил. Но не только им одним – еще человек двадцать, включая недавних черниговцев – Басыню с Грушей, – тоже медалей удостоились.
А вон и молодой совсем вышел. Спехом кличут. Смущается парень, сразу видно. Непривычно ему почести принимать. Это там, на поле брани, он ничего не боялся. Но ему «Меч славы» не вручишь. Он в азарте боевом свой вовсе откинул и бревнышком, с земли подхваченным, половцев крушить принялся. Ему награду с иным названием вручили – «За отвагу».
В том месте, где стояли эти трое, тонкая нитка воев хоть и прогнулась изрядно под напором степняков, но устояла. Вот и вручал князь сейчас награды тем, благодаря кому не был прорван русский строй.
Приближенные князя тоже почестей удостоились. За что – Константин Володимерович как-то туманно сказал, но, зная его, хоть и немного, Николка уверен был – тоже по праву. Просто так он бы раздавать не стал. Видать, изрядный вклад и дружинник Любим, и княжеский тиун Зворыка, и купец Тимофей Малой внесли в победу общую.
Потом дело до орденов дошло. Первый, кому «Честь и верность» вручили, на сей раз не из русичей – из булгар был. Сын хана Абдулла-бек, союзнический долг выполняя, пришел в трудный час со своими воями на выручку рязанскому князю, так что и тут никаких споров быть не может.
На этот раз с Абдуллой всего с десяток человек было, да и сам ханский сын держался скромно, хотя и с достоинством. Одет, правда, был не по-нашенски, да ведь это только встречают по одежке, а чуть погодя совсем иное ценить начинают. Вот за это «иное» и удостоили сегодня булгарина русской награды. Правда, не все из горожан правильно поняли – перешептываться начали, хотя он ведь, по сути, именно их и защищал в первую очередь, напрочь перекрыв неприятелю проход по Оке. Зато полки не подвели – «Славу!» провозгласили дружно, хотя тоже не так, как могли бы.
Но это чуть погодя выяснилось, как они на самом деле могли, когда для вручения награды бирюч громко выкрикнул имя великого рязанского воеводы Вячеслава Михайловича. Тут уж вои троекратное «Слава!» не крикнули – взревели просто.
– И первым орденоносцем ты стал, старина, а теперь и первым кавалером орденов двух степеней, – заметил Константин, напоминая про осеннюю награду за Коломну. – Гордись, «русский богатырь».
– Такими темпами начнешь их мне на шею вешать – скоро все кончатся. Придется завязать с победами ратными, – вздохнул сокрушенно Вячеслав.
– Я тебе завяжу. Ишь какой, – пригрозил Константин, обнимая друга. – Я лучше новые придумаю, специально для тебя.
– Ну, тогда ладно. Повоюем еще, – миролюбиво согласился воевода.
Едва шум на поле немного утих, как бирюч другого воеводу выкрикнул, на сей раз ряжского. Тут помимо полков особенно горячо рязанцы ликовали – они-то уж все знали, благодаря кому ворог к столице княжества так и не пошел. Вот он стоит, герой, воевода Юрий Михайлович Золото, а вон и второго вызвали – тысяцкого пронского полка Истреня.
Тому тоже несладко пришлось. Мало того что половцы стены штурмуют, так еще и с водой туго. Ратным людям на день строго по ведру[123] на десятерых отпускалось – не больше. Не то что умыться – напиться и то с трудом хватало. А они держались и выстояли. Вот это да! И впрямь богатыри русские, да и только!
Затем тысяцкие пошли, чьи полки били под Ростиславлем сводные дружины прочих князей и храбро стояли на Рясском поле против степняков, не давая им прорваться. И снова первым из них стал ростовчанин Лисуня. Козлика, который всего с двумя сотнями устраивал под Ростиславлем лихие набеги на врагов, удостоили ордена «Быстрота и натиск». Такой же достался и викингу по прозвищу Заноза. Доказал тот, что не только языком лясы точить умеет, но еще и свою конную сотню лихо в атаки водит.
А потом… Потом Николка и сам не понял, что получилось, но кто-то его имя выкрикнул, да еще и указал, что, мол, вой сей из особой сотни. Николка даже головой покрутил – кто же его позвал так не вовремя, не давая славное зрелище до конца досмотреть. Не нашел никого и успокоился – видать, послышалось, а если и нет – беда невелика. Надо если, так еще раз позовет. И точно, совсем немного времени прошло, как позвали его во второй раз. В тишине, наступившей на площади, имя его особенно отчетливо прозвучало. Неужто опять послышалось? Но тут уже и товарищи сзади шикать на него начали да вперед выталкивать – иди, мол! Чего стоишь, как пенек?!
А Николка все равно не поймет – куда идти-то ему? Нешто в середку саму, так там лишь князю гоже быть и награждаемому очередному. Лишь потом до него постепенно доходить стало, что это его самого сейчас требуют. Ну, точно. Вон и князь, в его сторону повернувшись, машет приветливо. Мол, поспешай, парень.
Николка бы поспешил, да ноги клятые, как колоды дубовые, совсем слушаться не хотят. Но поднапрягся чуток и заставил их потихоньку переступать. Так что не пошел он к князю – поплелся скорее. Только зачем – непонятно.
А тот уже за цепь златую ухватился. Вот беда так беда. Сейчас глянет в сторону Николки и спросит недоуменно: «А ты чего вышел сюда? Кто тебя звал?» Ох, и позорище будет! И товарищи его хороши – нашли время шутки шутить. Разве так можно со своим-то?
«Ой, а князь уже приближается. Убежать бы, да сызнова ноги одеревенели. Ну, все, попал ты парень, яко кур в ощип… „Доблесть и мужество“ на меня почто надеваешь, княже?! Чего творишь-то, не подумав?! Глаза свои раскрой! Я ж Николка, который, как дурак, половину лета на мягких шкурах телеса наедал в Ростиславле. В этом, что ли, мужество мое?! Одно лишь припомнить можно – как бродили втроем по лесу. Так за такое и этой, как ее, медали не положено давать. Оно и само по себе почет великий. А как беда пришла, так я в первый же миг стрелу себе в грудь схлопотал. Какая же тут заслуга?! В чем она?! Ага! Говорит чего-то князь-батюшка. Ну-ка, ну-ка».
– Этот вой ныне такую честь заслужил, потому что, ежели б не он, не стоять сейчас Ростиславлю. Да и прочие города на земле рязанской пали бы, прежде чем мы с силой собрались. И его немалая заслуга в том, что ратей у ворогов уже на Угре более чем наполовину поубавилось. Лучшие самые с мечом к нам так и не пришли.
Ну вроде бы и русским языком князь говорит, а Николке все одно – темный лес.
«Это как же я так лихо рати вражеские поубавил аж вполовину, что сам только ныне о том узнаю, княже, – хотел спросить Николка, да язык перестал слушаться. – А ну постой-ка, погоди. Да уж не про Мстислава ли Удатного речь зашла? Тогда, конечно. Тогда… все равно не ясно. Я-то тут при чем?! Кто с ним речи вел, кто увещевал его мудрыми словами – я, что ли? Ты же сам все это и проделал с ратями, князь-батюшка! Ты их уполовинил-то! Почто ж ныне грех с себя снимаешь, да на чужие плечи кладешь?! То есть не грех, а как бы даже напротив – заслугу, но все равно не прав ты, княже. Как есть не прав».
Сам-то Николка всего и делов, что до Удатного прогулялся да на встречу его позвал. Так и то ему бояться нечего было. В чем тут доблесть-то? Неужто забыл князь, как сам на своего воя заклятие могучее накладывал и аж упрел весь от трудов тяжких? Кто же его, Николку, после такого заговора тронул бы. И ведь про все успел вспомнить, на все слово наложить, да еще как складно. Почто ж он об этом молчит?! Или если сказать так, то выйдет, что он за сущую пустяковину красоту эту Николке на шею повесил?! И впрямь негоже тогда получится. А как ему, Торопыге, теперь быть?
«Нет, княже, ты себе как хошь, а все едино – не прав. Ой, какой же он блестючий-то! Надобно его снять да назад вернуть. Нынче же. Вот через час малый или через два-три… я его и сниму, – твердо решил парень. – Ну, или к завтрему – это уж край. Сверкает-то как! Будто золото горит! Ах, ну да, он же и есть из золота. И что-то там на нем такое интересное выбито. Слова даже какие-то есть. С грамотой вот не ахти у меня. Разумею малость, но не шибко. Ах, ну да, сам князь его назвал „Доблесть и мужество“. А на обороте что?»
Нет уж, не серчай, княже, но денька три Николка у себя его еще подержит, пока надпись не одолеет. Оно понятно, что не по заслугам, но прочитать-то хочется. Опять же грамотку врученную тоже хотелось бы самому осилить. На все про все седмицу клади – не меньше. А опосля возвернем непременно – нам чужого не надобно.
И еще в гости заехать бы. Есть тут одна остроносенькая. Сама-то худенькая – смотреть не на что, кожа да кости, а вот глянется отчего-то. И имя славное – Радомира. Радуется она, стало быть, миру. А скорее мир ей – уж больно красивая. Словом, правильное у нее имечко. Поп-то ее Ириной нарек, но крестильное имя сердцу ни о чем не говорит, а вот Радомира – самое то. Перед ней бы гоголем пройтись, чтоб ахнула изумленно и порадовалась немножечко за него, Николку.
Опять же по селищу родному тоже прогуляться не помешает, да брату Алешке с матерью дать порадоваться за своего старшого. А то она все расстраивалась да переживала, когда Николка из ополчения вместе со всеми не вернулся, а заместо того в особую сотню при самом воеводе угодил. Хотя что уж тут. Оно и понятно. Матери, они завсегда такие.
А вот про заговор, который на него князь наложил, он ей ни за что не скажет, а не то мигом к попу потащит, дабы тот бесовские слова снял. А по его, Николкиному размышлению, какая там разница – кто именно его на небесах от смерти в бою защитит. Раз они там, наверху, сидят – значит, все боги, то есть светлые. Лишь прозываются по-разному.
Да и про рану ей тоже знать ни к чему. Сызнова плакать учнет. У нее и так после отцовой смерти глаза частенько на мокром месте. А того она не поймет, что шрамы, как воевода сказывал, украшают воина. Да Николка это и без него отлично знал. Сам чуть ли не с первого дня, едва только в сотне очутился, как о боевых рубцах мечтать принялся. Пусть малюсеньких, но на видном месте.






