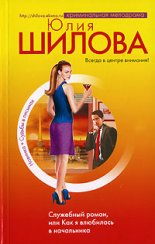Первая женщина Кутерницкий Андрей

Поскорее я развернул записку.
«Пригласи меня сегодня на танец, когда поставят пластинку «Маленький цветок», – было выведено аккуратным наклонным почерком. – А если пригласишь, я потом приглашу тебя на дамское танго. Угадай, кто написал!»
Я угадал сразу. Записка была от Лиды.
Все тревожнее становилось в воздухе. На краю неба над лесом чернота туч уже бледно освещалась зарницами. Где-то далеко начало погромыхивать. Но на западе небо было сплошь чистое и яркое от солнечного света. И лагерь, окруженный черно-фиолетовыми тучами, пронизывали густые горизонтальные лучи. Это было очень торжественно и одновременно зловеще – черно-фиолетовые тучи и огненные лучи вечернего солнца.
Я сидел на скамье возле корпуса, слушал музыку, которая доносилась с танцев.
«Гроза будет как раз, когда мне идти! – размышлял я, уже поглощенный мыслями о предстоящем пути по темному лесу. – Надо ли идти в грозу? Придет ли Вера, если начнется гроза?»
Я опять навестил гаражный дворик.
Он был пуст, ворота заперты на замок.
И вдруг стремительно, как несметное вражеское войско, внезапно кинувшееся в атаку, из-за корпуса общежития выдвинулся клиноподобный край черной тучи. В момент стало темно, как ночью. Все притихло под ее гнетом, прижалось к земле. Тяжелые капли звонко упали рядом со мной, на меня, на мои руки, на мою голову, взрывом огня небосвод разломило надвое, что-то дрогнуло, сместилось во всем пейзаже, с шумом налетел шквальный ветер...
«Началось!» – понял я.
VIII
В десять вечера к отбою барак был полон старшими. Возбужденные грозой и ливнем, они вернулись с танцев, которые пришлось закончить до срока, и теперь, не зная куда деть себя, орали, визжали, кидались подушками. Понизовский кривлялся, Елагин изображал из себя идиота, Горушин демонстрировал силу, одной рукой поднимая с пола стул, взяв его в самом низу за переднюю ножку. Все лампы под потолком были включены, но и в их свете было видно, как от вспышек молний ярко озаряются окна. От пушечных ударов грома стекла в оконных рамах звенели, что вызывало у подростков восторженную матерную ругань.
В разгар этого ликования, с гулко бьющимся сердцем, полным волнения и мучительной, ни на минуту не проходящей тревоги, я незаметно выскользнул из барака и, подавляя желание оглянуться и увидеть, никто ли не смотрит мне вслед, захлебываясь воздухом пошел по аллее против ветра. Уже через десять шагов я промок до нитки. Вода была везде – шумно низвергалась из непроглядной высоты, бежала реками по асфальту, тяжеловесными струями падала с крыш, текла с моих волос по моему лицу. Молнии одна за другой разрывали тьму, освещая пепельный небосвод. Выхваченный из мрака, лагерь в эти моменты делался серебряным. Приподнимались от земли словно отлитые из гладкого металла бараки, вспыхивали лужи, сплошь покрытые пузырями, асфальт аллеи зажигался искривленной дугой и погасал.
«Что ты делаешь! Ты идешь на свидание с чужой женой!» – говорил я себе.
Слово «НЕЛЬЗЯ!» вырастало предо мной из ветра, громадное и страшное.
Но в ту же секунду кто-то кричал мне: «Только бы она пришла! Только бы не обманула! Ибо нет и уже никогда не будет в тебе никакого другого, более сильного желания, чем желания видеть ее».
Все вокруг меня сражалось, кипело, стонало, плакало. Ветер гнул деревья. И мне чудилось, что Кулак отовсюду следит за мной, видит каждое мое движение и даже знает мои мысли. Лишь когда я вошел в лес, я почувствовал себя спокойнее.
Я был уверен, что Вера не придет. Идти в такую грозу – было чистым безумием.
Но я не мог не прийти. Я не мог из-за непогоды, из-за собственной трусости расстаться с моей мечтой о любви к женщине.
И я напролом пробирался сквозь дебри леса. Я не боялся заблудиться. Сколько раз бродил я по этим местам, не зная, кому открыть печаль мою. Но теперь печали не было. В блеске молний ночью лес казался совсем другим, не похожим на дневной, хотя я встречал на пути те же знакомые деревья и те же дороги. Алмазно мерцали извивы ветвей, пятнистой сетью ложились на землю черные тени. Один раз огненная жила взорвалась надо мною так ярко, что, насквозь просвеченный ее белым пламенем, я схватился за ствол дерева и вобрал голову в плечи. Удар грома ошеломил меня.
«Конечно, Вера не придет! Я не приближаюсь к ней. Ее здесь нет!» – думал я нарочно, назло, наперекор своему желанию, чтобы оно непременно сбылось, и шел быстрее.
Я уже почти добрался до места.
Но пуст был бушующий лес. Никто в нем не таился. Никто не дышал.
Я сделал еще несколько неуверенных шагов и замер, озираясь.
Сердце мое громко стучало.
Ее не было.
Ливень все так же шумно и тяжело падал с высоты.
Я сел на ствол поваленного дерева – плевать мне было, что оказался он мокрым, скользким, грязным.
Чувство ужасного разочарования в самом себе охватило меня.
Кто-то крепко взял меня сзади за плечо.
«Кулак!» – вздрогнул я.
И обернулся.
Внимательно и неподвижно Вера глядела на меня.
И вдруг все стало счастьем – лес, гроза, ливень, холод, грохот грома.
Я вскочил на ноги.
Нет, счастье было несравнимо больше, чем это разрываемое молниями небо, чем этот сумасшедший ливень, чем шумящий нескончаемый лес!
– А ты – опасен, – сказала она, продолжая вглядываться в мое лицо. – Я была уверена, что ты не придешь.
И перешагнула ко мне через поваленный ствол.
Жадно, неумело я стал целовать ее губы, глаза, мокрое лицо, мокрые руки, сжимал кисти ее рук в своих пальцах. Головокружительно, безболезненно мы упали, как бы плавно опустились на землю. Не чувствуя бьющего сверху ливня, я ткнулся лицом в ее волосы, скользнул губами по мочке ее уха и ощутил во рту стеклянную сережку...
И через несколько секунд вихрь, сваливший нас наземь, умчался.
Тяжело дыша, мы лежали на мокром мху.
– Пусти! – сказала она, высвобождаясь из моих рук.
Поднялась на ноги, оправляя прилипающее к телу мокрое платье.
– Ну и что ты натворил? – грозно произнесла она. – Посмотри!
Ее платье было выпачкано в земле.
– Какой ураган! Какое нетерпение!
Я лежал на земле и смотрел снизу вверх на нее – светлую, красивую, желанную, любимую. С ее волос текло ручьями.
Она протянула мне руку, подняла меня с земли и, не отпуская моей руки, потащила за собой.
Все дальше пробирались мы в мрачную глубину леса, пока между деревьями на большой поляне не обозначилось что-то еще более черное, чем окружающая нас тьма.
Сверкнула молния, и я увидел, что это – баня.
Баня была бревенчатая, крытая железом и с одним маленьким окошком – она чем-то напоминала лесную избушку из русских народных сказок.
Перед баней Вера остановилась, сняла с себя через голову платье – и в этот раз ничего не было на ней, кроме этого легкого летнего платья, – и стала отстирывать пятна в струях несущейся с крыши воды. Я видел напряженные мышцы ее спины, поджатый живот, голые белые ягодицы. Красивым женским движением обеих рук, изгибаемых в кистях и локтях, она отжала платье и, перекинув его через плечо, толкнула деревянную дверь.
Дверь поехала внутрь, открывая перед нами сплошную тьму.
Мы вошли.
И Вера сразу закрыла дверь изнутри на крюк.
Из предбанника мы проникли в помещение самой бани.
Здесь потолок был низок и пахло угаром и березовыми вениками. От этих запахов, от внезапной тишины, которая ощущалась еще острее из-за частых раскатов грома и шума ливня, бывших теперь снаружи бревенчатых стен, вдруг стало теплее.
– Снимай с себя все! – приказала она.
Крупно вздрагивая, дрожа всем телом, я разделся. Я снял с себя все перед молодой женщиной, не стыдясь своей наготы. Вместо стеснения, которое с раннего детства я всегда чувствовал перед женщинами-врачами и юными медсестрами, делавшими мне прививки, я испытал совсем иное чувство. Самое сладкое в нем и было преодоление стыда.
Короткими движениями ног Вера поочередно скинула со своих ступней промокшие туфли, взяла мою одежду и с силой отжала брюки и рубашку. Я слышал, как водяные струйки прерывисто ударили об пол.
Развесив свое платье и мою рубашку и брюки на перекладине под потолком, она села на нижнюю полку.
Оставшись без одежды, я вдруг ощутил какую-то незащищенность, робость и приник лбом к оконному стеклу.
Я боялся, что он придет сюда.
– Не бойся! – услышал я позади себя ее тихий голос. – Сюда никто не придет. А он уехал на три дня в Саратов. Его послал Меньшенин за холодильной машиной. У нас есть две ночи.
– Я не боюсь, – прошептал я, испытывая смущение оттого, что она угадала мой страх.
Но мне сразу стало легче, как будто я избавился от чего-то тяжелого, мучительного.
– Согрей меня! – сказала она.
Я сел возле нее на полку и, соприкоснувшись с нею плечом и бедром, затих сердцем.
В первый раз в моей жизни рядом со мной сидела нагая женщина, и я, так же как и она, был наг. С трепетным ужасом поглядывал я на свое длинное худое тело – в темноте узко белела поперек него полоска от снятых плавок, потом переводил взгляд на ее стиснутые в ляжках крупные ноги, черный дремучий пах, на ее гладкие плечи и тяжелые груди, тоже белые, не загорелые, темными сосками смотрящие чуть вверх... Как будто всю прожитую мною жизнь я был слепым и лишь сейчас прозрел и увидел, что я вовсе не такой, каким представлял себя прежде. Рядом с нею я был совсем другим. Ее светлое тело не было очерчено, но как бы размывалось в темноту. Теперь мне стало ясно, чего недоставало, чего не было в моих отношениях с Марией. И, глядя на Веру, я понял – с Марией этого никогда и не могло быть.
Зрелая женщина.
Что-то особенное, властное и необычайно влекущее к себе было в ее образе.
Я протянул к ней руку, коснулся пальцами ее шеи, ключицы – мне очень хотелось дотронуться до ее живота, ощутить осязанием, что такое ее груди, понять, чем полны они, отчего они имеют такую удивительную привлекательную форму...
И вдруг сделал совсем другое – прижал ее голову к своему плечу.
И стал гладить и целовать ее волосы.
И я почувствовал к ней такую сильную нежность и такую привязанность, что глазам моим стало жарко.
Так сидели мы очень долго.
И я все не мог насладиться этим новым чувством отдаваемой любви.
Когда вспыхивала молния, маленькое окошко делалось кипящим от сине-сиреневого света, и свет этот озарял внутренность бани – каменку, бочку для воды, полки, развешенные на перекладинах березовые веники и нашу мокрую одежду. И голову Веры у моей груди.
Неожиданно она вырвалась из моих объятий и цепко схватила меня за запястья обеих рук.
– Какой нежный! – жестко, напряженно произнесла она. – Да ты и вправду опасен! Тебя что, никто никогда не любил? Ты и верно так одинок?
– Я не знаю, – нервно вздрагивая, вымолвил я.
– Даже мама не любила?
– Не знаю, – повторил я.
– Откуда же в тебе столько ласки? Отвечай!
Она отстранилась от меня и замерла у стены.
– Бери! – сказала она глухо и властно. – Бери сколько захочешь!
IX
Когда мы вышли из бани и, сплетя руки в пальцах, пошли по ночному лесу, ливень кончился.
Все слабее полыхало небо и отдаленнее гремел гром. Мы шли быстро, как будто спешили уйти от места нашего греха – а сегодня я уже знал, что совершил преступление, потому что знал, что где-то в этот час по ночному шоссе мчится в кабине грузовика человек, которому она, женщина, мною обожаемая, только что изменила вместе со мной как жена. И всю дорогу мы молчали.
Время от времени я вдруг останавливал ее, чуть забегая вперед, обнимал и крепко прижимал к себе, стараясь показать ей свою силу. В эти мгновения, ощущая, как податлива она моей силе, я понимал: она – моя, вся – моя, и только моя! И ощущение совершенного преступления лишь усиливало во мне это чувство. Преступление у нас было общим, одним на двоих. У нас пока ничего не было общего, кроме этого преступления. Я долго, томительно целовал ее, и опять целовал, не отпускал от себя, делая мое преступление еще большим, чтобы оно еще прочнее связало меня с нею. И снова мы шли. Мелкие ветки, ломаясь, хрустели под нашими ногами.
Было темно. Тяжелое от туч небо лежало на вершинах деревьев. Резкими порывами над нами проносился ветер, раскачивал макушки сосен, и вокруг нас, глухо стукаясь о землю, падали шишки. Но дышалось глубоко и сладко. Гроза уходила все дальше.
– Ах, черт! – воскликнула Вера.
– Что с тобой? – спросил я.
– Оцарапала ногу.
Вдруг я понял, что впервые сказал ей «ты». Это было так естественно, что она даже не обратила внимания.
Мы подошли к лагерю.
Из тьмы леса были видны редкие тусклые огни. В корпусах, кроме двухэтажного здания общежития, все окна были погашены. И когда в стекла черных окон попадал свет от уличных фонарей, через каждые пятьдесят метров расставленных на главной аллее и хаотично между корпусами, они агрессивно блестели. У дверей корпусов раскачивались голые горящие лампочки, раскачивая по стенам округлые тени.
Вера положила руки мне на плечи, и я увидел, как она смотрит в глубину моих глаз.
– Ты принес мне сегодня много радости! – прошептала она. – Оденься во все сухое и полезай под одеяло! Чтобы не заболеть. Завтра у нас еще одна ночь.
– Я не заболею, – с трудом произнес я.
Она бесшумно скользнула по аллее, кусты на несколько секунд заслонили ее. Я видел, как она вышла на открытое пространство в мертвый свет фонарей и сразу скрылась, огибая лагерь по краю. Я следил за ее маленькой черной тенью, мелькавшей между деревьями.
Дрожа от холода, стуча зубами, я смотрел на окна общежития. Вот на втором этаже крайнее из них осветилось электрическим огнем. Вера подошла к окну, и мне почудилось – махнула мне рукой. И сейчас же окно погасло.
Я обежал половину лагеря по периметру, вышел из леса рядом со своим корпусом, прошмыгнул под лампочкой, горевшей над входной дверью.
Внутри корпуса было душно.
Я прокрался по проходу до своей кровати, снял с себя мокрое и неожиданно почуял женский запах Веры. Он остался на мне в паху. Я тронул себя за те места, которые хранили его, поднес руку к лицу и вдохнул. Сердце мое взволнованно забилось. Это был совершенно особенный, ни с чем не сравнимый запах. Как он влек меня к ней! Ноздри мои вздрагивали. И все мое тело наполнялось от него какой-то новой, колоссальной силой, о которой я прежде и не подозревал, что она есть во мне. Наконец я взял махровое полотенце, растерся им и надел сухие тренировочные брюки и толстый шерстяной свитер прямо на голое тело. Он кусался, и мне сразу стало тепло, и всего меня охватило острое чувство радости. Это было ощущение, когда человек радуется тому, что он живет.
Некоторое время я сидел на кровати, закрыв глаза и вслушиваясь в эту новую силу.
Нет, мне совсем не хотелось спать.
Меня тянуло прочь из этих стен.
Никакой разумной причины вновь идти на улицу у меня не было. И я решил, что перед сном надо сходить в уборную.
Быстренько добежал я по мокрой траве до широкой черной будки, контрастно освещенной изнутри единственной лампочкой, зашел внутрь и оглядел ряды досок с вбитыми в них гвоздями, на которых висели обрывки газет.
«Как это все странно!» – неожиданно почувствовал я, разглядывая длинные тени от гвоздей на дощатых стенах.
Я прислонился спиной к косяку входной двери и некоторое время стоял и ни о чем не думал, а только ощущал, что жизнь сама по себе очень странна и что я сейчас счастлив именно оттого, что ощущаю эту ее странность.
Сколько времени я так стоял – не знаю, но когда я вышел наружу под открытое небо, то увидел чудо.
Ветер, который так свободно летал высоко в небе и которого уже не было на земле – вершины деревьев стояли черны и неподвижны, – разогнал все тучи, начисто вымел небосвод, изгнав с него даже самые мелкие обрывки облаков, и над лагерем, над моей головой поднялся, вздулся блестящим черным шелком великий небесный купол, полный разноцветных звезд. Звезд было очень много – крупных ярких, и менее ярких, помельче, и совсем мелких, и еще тут и там светились туманности мельчайшей седой пыли! Все небо сверкало и переливалось звездным блеском, так что когда я запрокинул назад голову и обратил к нему лицо, мне даже почудилось, что звездный огонь льется сквозь меня, и я теперь полон этим космическим огнем, и чуть заметно мерцают пальцы моих рук и волосы на голове.
Я находился как бы на самом дне озера, наполненного звездным светом, а берегами озера был непроницаемо черный лес, и, как острова, со дна этого озера поднимались темные бараки. А вокруг лагеря, еще более темные, чем тьма неба, стояли иссиня-черные древние пирамиды с морозно блестящими гранями.
Яркий метеорит прочертил половину неба, оставляя за собой мгновенно тающий след.
Медленно поворачиваясь на одном месте, я разглядывал созвездия. Над лесом горел крупный оранжевый Арктур – я сразу нашел его, прочертив от ручки ковша Большой Медведицы длинную дугу вниз. Млечный Путь лежал широкой дорогой через все пространство неба.
И я вдруг начал говорить со звездами.
Я не говорил вслух. Я не шептал, не шевелил губами. Это вообще были не слова. Но я знаю, что я говорил с ними, а они говорили со мной.
«Звезды! Как я люблю вас! Как вы красивы! – говорил я небу. – В прошлое лето я смотрел на вас, когда ходил поздно вечером на железную дорогу. И вот, прошел год. И я стал мужчиной. И это не сон! Я стал мужчиной! Я стал взрослым! А вы все такие же, как в прошлое лето над железной дорогой. Если бы мне сказали тогда, что всего через год я стану мужчиной и меня ждет такое счастье, я бы не поверил. И все случилось! Я люблю вас, звезды! И я люблю ее! Я преступник, я понимаю это. Ведь она замужем. Но я потом пойду к ее мужу и скажу ему: «Кулак! Прости меня, но я люблю ее. Я не могу без нее жить. Я раньше не думал, что так можно любить! Прости меня, Кулак! Если хочешь, ты можешь избить меня – я уберу руки за спину, я не буду защищаться. Ты можешь убить меня – ведь ты вправе сделать и это. Но я уже не смогу разлюбить ее. Никогда не смогу!»»
Было далеко за полночь, но мне не хотелось идти в корпус. И я все стоял один между темным бараком и черной будкой уборной и смотрел на звезды. И не мог насмотреться на них. Я уже все сказал им, и ничего больше не посылала им моя душа в своем порыве. Но они были так красивы, что я не мог отвести от них глаз!
Наконец я возвратился в помещение корпуса. Все спали. Кто-то похрапывал. Я прошел по проходу к своей кровати, сел на нее и стал стаскивать через голову свитер.
– Я знаю с кем ты был! – услышал я рядом громкий шепот Карьялайнена.
Я замер и почему-то вновь натянул на себя свитер.
– Откуда знаешь? – холодея, спросил я.
– Знаю! – хвастливо ответил он. – Ты был с толстой Лидкой.
От волнения я шумно выдохнул из легких воздух.
– Козлы! – отчетливо прозвучал в темноте голос Горушина. – Заткнитесь!
– Все-все! – услужливо проговорил Карьялайнен. – Заткнулись.
– Поганый лагерь! – громко продолжал Горушин, совершенно не заботясь о том, что он всех разбудит. – Один козел ходит к проститутке Лидочке! Завтра другая проститутка придет поднимать на подъем флага! Мне нужен режим!
В корпусе было темно, но и при этой темноте я почувствовал, как в глазах моих потемнело и перед ними зажглись красные пятна. Я не мог даже вздохнуть.
Я поднялся с кровати, прошел по проходу до кровати Горушина, взялся за нее сбоку обеими руками и перевернул. Горушин вместе с матрацем, одеялом и подушкой слетел на пол.
– Кто это? – заорал он, копошась в одеяле.
Но этой кары мне показалось для него мало. Я обхватил руками тумбочку, которая стояла в головах его кровати, даже не почувствовав, как она тяжела, поднял ее до груди и толкнул в темноту, туда, где на полу валялся, запутавшись в одеяле, Горушин.
Послышался грохот, звон чего-то стеклянного, разбивающегося, и дикий крик Горушина:
– Рука! Руку сломал! Ру-уку!
Разом все проснулись, повскакали в постелях, не понимая со сна что произошло, кто-то треснул по кнопке электрического выключателя, и во всем корпусе ярко вспыхнул свет.
Горушин лежал на полу, схватившись за предплечье, лицо его было искажено от боли, рядом с ним валялась тумбочка, из которой вылетели книги и банки с вареньями. Варенье текло из разбившихся банок по белым простыням и казалось густой страшной кровью. А я в тренировочных брюках и шерстяном свитере на голое тело стоял над ним, отделенный от него поваленной кроватью, и кулаки мои были сжаты.
Так, со сжатыми кулаками, ничего перед собой не видя, я вышел из корпуса в темноту двора.
На земле от окон лежали один за другим параллельные прямоугольники света, и над лагерем низко, как глухая крыша, чернело пустое небо.
Из корпуса доносились стоны Горушина и шум поднявшихся старших, голоса, восклицания.
Я заметил, что все еще держу кулаки сжатыми, разжал их, посмотрел на свои ладони и сунул их в карманы брюк.
Спустя минуту в лагере начался переполох. Сначала примчался Меньшенин и руководитель по физическому воспитанию, и тут же Вера – я видел из темноты, как она в халате и домашних тапочках исчезла внутри корпуса, вдруг появилась в освещенном пролете входной двери и кинулась в темноту, кого-то ища. Я понял – меня.
Я стоял в стороне от корпуса возле кустов.
Но она сразу увидела меня.
– Ты? – спросила, схватила меня за руку и потащила в лес.
– Быстро! – выдохнула она мне прямо в лицо с такой злобой в голосе, что я повиновался.
Когда мы удалились от лагеря метров на сто, она остановилась.
– Что? Говори!
Она едва могла схватить дыхание.
Я молчал. Я не мог сказать ни слова.
– Рассказывай, что случилось! – заорала она. – Ты понимаешь, что ты натворил: ты сломал ему руку!
Я молчал.
Вдруг что-то ослепило меня.
И мгновенно я понял, что она ударила меня по лицу.
Я замер, вытянувшись в струну.
– Со мной это как-то связано? Ну! Имя мое звучало?
Я кивнул.
– Блядь! – глухо простонала она. – Говори все! Соберись! Ты же мужчина!
– Я пришел в корпус и стал надевать свитер, – с трудом разомкнув немоту, выговорил я первые слова.
– Главное! Нет времени!
– А потом пошел на двор.
– Зачем?
Я молчал.
– Зачем пошел?
– Не могу сказать.
– В уборную?
– Да, – еле слышно произнес я.
– Потом?
– Смотрел на звезды. Они были очень красивые...
– Черт с ними!
– Опять вернулся в корпус.
– Вернулся?
– Хотел лечь спать.
– Главное! Откуда взялось мое имя?
– Он оскорбил тебя.
– Горушин?
– Да.
– Как он оскорбил меня?
– Он сказал, что ты... Проститутка.
Она даже не обратила внимания на это ужасное слово.
– Почему он вдруг заговорил обо мне?
– Карьялайнен сказал, когда я пришел в корпус: «Я знаю с кем ты был. Ты ходил к Лидке». А Горушин вдруг закричал: «Козлы! Дайте спать!» И назвал Лиду проституткой.
– Горушин?
– Он сказал: «Ты ходил к проститутке Лидочке».
– Ну, а я причем?
– А потом добавил: «А завтра другая проститутка придет будить на подъем флага. А мне нужен режим».
Некоторое время Вера сосредоточенно молчала, обдумывая какую-то мысль.
Только губы ее чуть слышно произнесли: «Гаденыш!»
– Значит, я правильно поняла, – спросила она, посмотрев мне в глаза, – ты пришел в корпус, и вы с Карьялайненом стали разговаривать?
– Нет, я с ним не разговаривал. Это он сказал: «Я знаю с кем ты был».
– И добавил, что знает, что ты ходил к Лидке.
– Да.
– А Горушину это помешало спать, и он назвал Лидку проституткой.
– Да. Он так всех девочек называет.
– И меня так назвал заодно.
– Да.
– Просто так. Просто назвал. Заодно. Со зла. Но он ничего не знает о том, что было между мной и тобой.
– Нет. Не знает.
– И Карьялайнен не знает?