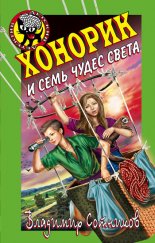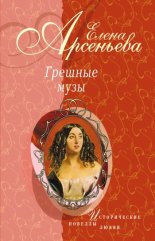Амнезия Чехонадская Светлана
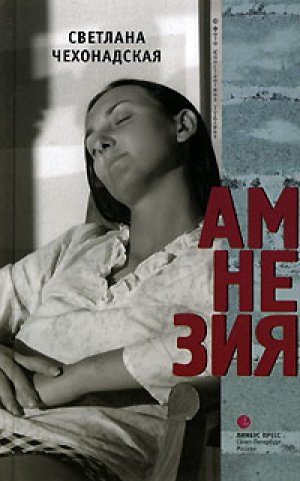
– У вас есть мать, – сказал он. – Она живет в другом городе. Ее зовут Елена, вот ее фотография. Может, вспомните?
Он подошел к кровати, поднес к ее глазам фотографию. На ней Марина увидела немолодую стройную женщину с короткой стрижкой и недовольно надутыми губами. Губы были красивые – полные и ярко накрашенные. У женщины был капризный вид, она как-то странно изогнула шею, словно говорила: «Ой, да отстаньте!» Мало того, что она была совсем не знакома Марине, она ей еще и не понравилась. Сказать ли об этом пожилой?
– А вы кто… какой врач? – спросила она.
– Я психолог. Я здесь, чтобы вам помочь, Марина.
– Эту женщину я не помню. Она красивая, но мне не нравится.
– У вас были не очень теплые отношения, – сказал Иван Григорьевич.
– Почему она не здесь?
– Именно поэтому. Ваши родители были в разводе, и вы жили с отцом.
– Где же отец?
– Он умер два года назад. Он был очень богатым человеком и оставил вам большое состояние. Вы обеспеченная женщина, Марина.
– Покажите мне его фотографию.
Теперь перед ней было лицо худощавого, коротко стриженого мужчины. Он улыбался. Было такое ощущение, что специально. То есть позировал. Увидев его, она ничего не почувствовала.
– Скажите, – повернулась она к пожилой, – а это нормально, что я помню какие-то основные понятия, ну, не знаю… как это объяснить.
– Я поняла, – женщина успокаивающе улыбнулась. – Это нормально. Существуют очень разные стадии комы. Бывает не до основных понятий. В тяжелых случаях организм забывает, как дышать. У вас совершенно другой случай, более легкий. Вы помните буквы, Иван Григорьевич сказал, что вы прочитали надпись на пузырьке с лекарством, вы помните страну и город, примерно помните время, в котором живете. В конце концов, вы помните родной язык!
– А бывает, что не помнят?
– Медицине известен случай, когда после аварии человек забыл родной язык, зато помнил иностранный, который учил в школе. Учил он его очень плохо и сильно пожалел об этом. На долгие годы в его распоряжении было лишь несколько фраз.
– Он восстановился?
– Да. И вы восстановитесь. Завтра мы проведем кое-какие обследования, назначим лекарства, потихоньку начнете подниматься, сидеть, потом вставать. Принесем сюда телевизор, книги, все-все сделаем. Это наша забота. Вы просто живите, не насилуйте себя. Память восстановится сама и в самый неожиданный момент. Вас ждет счастливая жизнь, вам не надо думать о деньгах, все у вас есть, вы молодая, вы… молодец! Все будет хорошо!
«Она хотела сказать «красивая», – подумала Марина. – Но не сказала, запнулась… И еще они не говорят, сколько времени я была без сознания. Наверное, очень долго…»
– Оставьте мне обе фотографии, – попросила она.
Иван Григорьевич посмотрел на женщину, та сказала: «Да-да».
5
Справка.
Отец – Королев Михаил Александрович. Родился в 1960 году в Свердловске. Мать – учительница начальных классов. Отец погиб за неделю до его рождения (утонул).
После окончания школы приехал в Москву, чтобы поступать в Институт стали и сплавов, но не прошел по конкурсу. Устроился работать на завод «Станколит» (специальность: формовщик ручной формовки), через год был призван в Вооруженные силы. Служил на советско-финской границе. После окончания срока службы поступил в Институт нефти и газа…
Иван Григорьевич улыбнулся. Ему почему-то показалось, что человек, составлявший эту справку, ужасно мучился и метался от стиля к стилю. Как составляются такие справки? Что это: рекомендация для приема на работу, материалы для книги, биография будущего депутата? Нет на свете такого жанра, и можно только посочувствовать сотруднику фонда, получившему задание написать для Марины Королевой все, что она должна знать о своем отце.
Главный врач отложил справку в сторону и, упершись подбородком в поставленную локтем на стол руку, задумался.
А что бы он внес в такую же справку, если бы ему надо было составить ее для себя? Предположим, что он, Иван Григорьевич – такой предусмотрительный человек, что предусмотрел собственную ретроградную амнезию. Предположим также, что в эту справку можно внести абсолютно все. Наука сделала это возможным. Кто-то хранит свои стволовые клетки, кто-то – сперму, кто-то замораживает всего себя целиком, а он составляет страховку на случай потери памяти.
Мысль увлекла его. Отобрать самые важные из воспоминаний сорока пяти лет! Коечто можно выбросить. У него уже немало таких стыдных, от которых начинаешь сам с собой разговаривать вслух. Их-то не жалко.
Или жалко?
Об этом он задумался впервые в жизни. Прислушался к себе и поразился: жалко!
«Неужели вписал бы, что в 1980 году в компании интеллигентных ребят, где была такая красивая и утонченная девушка, которая нравилась мне просто до потери пульса, я вдруг начал рассуждать на тему поп-арта, говорил долго и, как мне казалось, убедительно, и только потом, по их взглядам и переглядываниям понял, что я неправильно понимаю это слово, что оно означает не «разврат», а что-то другое. Неужели я бы это оставил?» – подумал он.
В справке, которую он сейчас нафантазировал, все было перемешано и отсутствовала хронологическая последовательность. Там впервые увиденное море стояло впереди впервые поцелованной девушки, а первая женщина совсем забылась, и не было у нее, вопреки всем книгам и журналам, ни имени, ни лица – но кто ж виноват, что она была девочкой-швеей, встреченной в пьяной компании после трудового дня в горячем цеху?.. Может быть, у кого-то по-другому, кто-то хранит в памяти каждый сантиметр тела своей первой женщины, а море ненавидит, и с удовольствием вычеркнет ту волну, которая сбила с ног, набила песка в рот и навсегда отвернула от воды…
И как это нелепо, когда такую вот справку тебе составляет чужой, даже не догадывающийся о том, в каком порядке должны идти твои воспоминания, какая у них иерархия.
«Ну я и увлекся!» – с насмешливым осуждением подумал Иван Григорьевич и снова углубился в чтение.
«… В 1983 году женился на Елене, студентке педагогического института, своей ровеснице, москвичке. Через шесть месяцев родилась дочь – Марина. Жили трудно. У родителей Елены была однокомнатная квартира, и они плохо приняли зятя, считая, что он женился из-за прописки…»
Тут перо неведомого составителя разбежалось и стало до невозможности поэтичным. Понять это было можно. В фонде Елену Королеву сильно не любили, все еще помнили двухлетний судебный процесс, который она затеяла против мужа. Если Марина захочет все узнать – она узнает. Не было в России ни одной газеты, которая бы об этом не писала.
Елена Королева окончила институт первой. Михаил тогда писал диплом, работал маляром на стройках и дворником в детском саду. Этого хватало на жизнь, но она все равно была невыносимой: пять человек в однокомнатной квартире, в которой и один бы не поместился, потому что все квадратные метры были заняты ненавистью. Приличная девушка забеременела (только по неопытности; это он, здоровый провинциал, должен был думать), а потом и привела этого амбала, который будет непонятно кем. Нефтяником, с ума можно сойти от смеха!
У Миши Королева была своя точка зрения на происходящее. В его памяти, наверное, были иные эпизоды: слезы, шантаж, обычные слова о вреде первого аборта. Но он не стал спорить, кто виноват – с точки зрения последствий для собственной жизни, – разумеется, был виноват он. Сам дурак, надо было думать своей башкой, правы новые родственники.
Новинкой для него стала эта ненависть. Ему она казалась неконструктивной. Он не мог понять, зачем нужно отравлять друг другу жизнь, ведь выхода пока нет. Он зарабатывал достаточно, чтобы снимать комнату, он их даже находил: одну, другую, третью, но жена поджимала губы, и он опять не понимал: «Трудно с ребенком без помощи мамы? Не нравится коммуналка? В чем дело?»
Еще хуже стало после окончания института. Они узнали, что он не пошел в аспирантуру, а намерен отправиться в свободное плавание. Тогда это было потрясающее своим безумием решение.
Если бы он защитился, то когда-нибудь смог бы приблизиться к ним по уровню. Теперь же у него шансов не оставалось. Маляр, дворник, нефтяник по образованию – в их глазах это был такой гремучий коктейль, что они чуть не плакали. Впрочем, его тогда многие не поняли. Он ведь закончил с красным дипломом, и сами преподаватели предлагали ему аспирантуру.
«Все! Не видать тебе, дочка, собственной квартиры! – заявила теща. – Это тебе не наш папа. Наш папа разрывался на части, но учебу не бросал. Он хотел стать человеком. И он получил квартиру!»
Он мог бы окинуть шестиметровую кухню презрительным взглядом, но, во-первых, это было не в его характере, а во-вторых, в их кухне взгляду было не разгуляться: он споткнулся бы о развешенные пеленки или об их супружескую кровать, временно превращенную в гладильную доску, споткнулся бы и ушел в него, Мишу.
Королев никогда не посылал мысленно ничего плохого – считал, что броню современного человека не пробить и эмоция вернется обратно.
Он снова предлагал переехать, но она снова отказывалась.
А потом он понял, в чем дело! Елена его настолько возненавидела, что не могла оставаться с ним наедине. Он оказался таким опровержением ее мечтаний о счастливом супружестве, что она, всю жизнь мечтавшая только об этом и ни о чем больше, презирала теперь в его лице мужа, мужчину и даже Бога.
Он не сомневался, что и ребенок ей не нужен. Не сомневался также, что она его сразу не отдаст. Так и получилось. Когда он заявил, что разводится и что согласен забрать дочь с собой, жена, теща и тесть только захохотали.
Он видел, что они растеряны. Они искренне считали, что он добивался этого брака и делал это ради прописки, которую так и не получил, но о которой, несомненно, мечтал.
Он ушел в общежитие, оставив им заработанные в стройотряде сумасшедшие четыреста рублей, и стал ждать.
Уже тогда у Королева обнаружилось хорошее аналитическое мышление и сверхъестественное чутье, он мог предсказывать события словно экстрасенс. Правда, сказать, что он «ждал», будет не совсем правильно. «Ждал» подразумевает чуть ли не «сидел без дела», а сидеть в тот год было некогда. Какое-то непонятное шевеление образовалось тогда в воздухе, словно самые высокие пласты атмосферы, неподвижно висевшие над страной целое тысячелетие, пришли вдруг в движение.
Он хорошо помнил каждый день того года. Он не мог надышаться его ветрами. Новый день приносил новый сюрприз, все его приятели были в ужасе от этого, а он чувствовал себя нечеловечески сильным. Тогда ему впервые стало казаться, что он не такой, как все.
Все говорили: «Как это? Как это делать?! Где это брать?!», а он откуда-то знал, где и как.
«Все было раньше так ясно и просто», – жаловались ему, а он поражался: это сейчас стало ясно и просто, а раньше было тягостно и мутно. У него возникло ощущение, что кто-то неведомый и добрый создал новый мир исключительно для него, и от одной только мысли, что он мог родиться на двадцать лет раньше, Королев покрывался мурашками ужаса.
В конце года появилась Елена. Она была подурневшей, полной и очень тихой. Понятно было, что ей что-то нужно.
Она мирно осмотрела комнату, которую он тогда снимал, и неожиданно похвалила ее. Мол, светло, уютно.
– А у нас такой ужас, – прошептала она. – Папа умер, Мариночка постоянно болеет. Спит на кухне, там сыро, плесень… Спасибо за деньги, Миша. Ты много присылаешь, я покупаю ей фрукты… Вот только плесень в этой кухне.
Можно было потянуть время, поиздеваться хоть немножко, но и это было не в его характере.
– Давай я заберу ее! – сразу предложил он.
– Ну, как это… От матери забрать… Что люди скажут?
– Так я ее маме отправлю. Она на пенсию вышла, у нее садовый участок. Там знаешь какая клубника. И солнце! А людям скажешь, что ей московский климат не подходит.
– Он ей действительно не подходит. У нее крапивница.
– Ну вот. Тем более.
– Я подумаю, – сказала жена.
Оказалось, она беременна. Тот мужик был женат, на жилплощадь не претендовал, правда, и денег не давал. Это он потом уже развелся, когда понял, что за судебный процесс можно затеять. Сразу стал хорошим отцом, хорошим мужем, ходил на все суды, давал интервью в газеты…
Иван Григорьевич вдруг понял, что разукрасил справку собственными предположениями. Он быстро пробежал глазами текст: что ж, это вина составителя. Вот как рассказана была здесь история королевского развода.
«Ушел из-за невыносимой обстановки в семье, платил хорошие алименты, а через год Елена сама отдала ему дочь. Елена была в тот момент беременна от другого мужчины (женатого), с которым зарегистрировалась десять лет спустя. С Мариной мать встречалась не чаще двух раз в год. Девочка до семи лет воспитывалась у бабушки в Свердловске. Отношения с матерью у нее были неприязненные, хотя Михаил Королев ничего плохого о первой жене не рассказывал».
Он, конечно, не рассказывал – рассказывали газеты. Марине тогда было одиннадцать лет, она уже жила в Москве, в неприступном замке – как принцесса. Ее мать Елена сама бы не догадалась подать в суд. Она ведь давно знала, что Королев сильно разбогател: приезжала к дочери, на ее глазах росло их благосостояние, да и суммы, которые Королев ей давал, периодически увеличивались.
В девяносто первом, вскоре после возвращения дочери из Свердловска, она приехала в их новую квартиру на улице 1905 года. Елену поразило, что квартира четырехкомнатная и в ней пластиковые стеклопакеты, – она их много раз открыла и закрыла, удивляясь, что они совсем не пропускают звук. Потом долго стояла на кухне…
Елена молча осмотрела гарнитур, провела пальцем по доске – в направлении плиты, – и палец ни обо что не споткнулся, ничем не испачкался.
– А где холодильник? – спросила она.
– Он тоже встроенный, – сказала няня. – Смотрите, – и открыла деревянную дверь, за которой был холодильник необычного серебряного цвета. – А здесь, внизу, за дверцей посудомоечная машина.
Сейчас забавно вспоминать ту кухню: девять метров максимум, потому-то он и попрятал все эти механизмы за дверцы, но Елена была поражена.
Он приехал, когда она уже уходила, и по ее виду понял, что дела ее неважны. Королев давал ей четыреста долларов в месяц, хотя это она должна была платить алименты дочери – но сейчас ему стало ее жалко.
– Чем ты занимаешься? – спросил он.
– Дома сижу.
– Зря, Лена. Ты закончила пединститут…
– А ты знаешь, какие зарплаты у учителей?! Ты тут живешь и ничего не зна…
– Не обязательно учителем.
– А кем?! Тебе легко советовать! Мама болеет, у меня на руках ребенок, я совсем одна!
Тогда он купил ей туристическую фирму, его знакомый как раз продавал. Оказалось – выброшенные деньги. Елена не стала ничем этим заниматься, она вообще не была создана для работы – она хотела быть женой и матерью в небольшом уютном домике, но как назло именно способностей быть женой и матерью у нее не было. Она не умела следить за собой, уставала от забот, не любила любить, вечно тревожилась, не сели ли ей на шею. Ей бы родиться на двадцать лет раньше, она была бы обеспечена каким-то минимумом, который давала учительская профессия, да и муж, который мог бы составить ее счастье, имел бы в те времена минимум, достаточный для уютной жизни. Так получилось: Михаил Королев совпал со своим временем, а Елена – нет.
Впрочем, отец ее ребенка оказался оборотистым мужиком. Туристическую фирму он неплохо продал. Елена сказала об этом Королеву, когда приехала в следующий раз. Еще не в замок, но уже в загородный дом. В Малаховку. Во дворе там стоял надувной бассейн, дорожки были вымощены тротуарной плиткой, а ворота сами поднимались, скручиваясь в рулон. Дом был куплен готовым и Королеву не нравился. Тогда он уже знал, что переедет…
Из окна кабинета он увидел, как его первая жена остановилась, рассматривая бассейн.
Как получилось, что он, сам себе казавшийся героем эпоса, стал персонажем сказки? Роль золотой рыбки всегда представлялась ему благородной, величественной, но оказалось, она смешная и унизительная. Каждый раз он выполнял очередную просьбу, но каждый новый визит укрупнял требование.
Все закончилось, как у Пушкина: «Хочу быть владычицей морскою!» Вот что посоветовал просить ее новый муж…
Иван Григорьевич не выдержал – потянулся в ящик за сигаретами. Он знал, что не закурит, но ему было приятно потрогать пачку. Он слегка наклонился над ящиком.
Под столом с факсом что-то лежало.
Иван Григорьевич встал, подошел к столу, нагнулся.
Это была старая газета.
«Странно… «Известия» за 1999 год. Девочки не убираются, что ли? Да нет, вроде чисто… Газета открыта на предпоследней полосе. Кто читал это старье?» Тут дыхание его перехватило.
В самом низу страницы он увидел фотографию пожилого, но крепкого мужчины, который поднял руку, словно прощаясь. Под фотографией была подпись: «Утечка мозгов продолжается. Известный нейрохирург И. Турчанинов уехал в США по приглашению одного из американских научных центров. Он утверждает, что временно. Как долго будет продолжаться это время? Время, когда не ценится наука».
– Лена! – крикнул Иван Григорьевич секретарше. – Кто здесь был?
– Где? – по голосу было слышно, что она испугалась.
– В моем кабинете!
– Никого не было, Иван Григорьевич!
– Как это никого, Лена! Откуда здесь эта газета?!
«Неужели Иртеньев принес? – тут же подумал он. – Да нет, не может быть. Он бы мне сразу сказал».
– Я не знаю, Иван Григорьевич! Никого здесь не было! Вы же знаете, у нас охрана, а уж в ваш-то кабинет я вообще никого не пускаю!
«Вот дура! – пробормотал он, тыкая в цифру «3» на мобильном. – Впрочем, какая разница, заметила она кого-то или нет… Главное, что кто-то подбросил эту газету. Специально подбросил, чтобы показать, что он все знает…»
– Да-а, – протянул мужской голос в трубке.
– Ты же обещал мне, что это железно! – не представившись, злым шепотом произнес Иван Григорьевич.
– Что железно?
– Что этот чертов Турчанинов сидит в своей Оклахоме и страдает чуть ли не аутизмом!
– Ты чего разгорячился? – хмыкнул мужчина. – Я сказал, что он сильно болен, но его родственники это скрывают. Поэтому он в России не появится… Они гордые. У него там не пошло, а им это признавать неприятно. Стесняются родины-то.
«Остынь, – сказал себе Иван Григорьевич. – Этот человек ни в чем не виноват. Газета девяносто девятого года. Тот, кто ее нашел, искал специально. Кто же это? Даже Иртеньев не знал Турчанинова в лицо. А этот знал? Может быть, и нет. Он мог просто заподозрить и начать искать. Но как он подбросил газету в мой кабинет? И зачем он это сделал?»
– А что случилось-то? – поинтересовался мужчина.
– Да тут попалась старая газета… Там этот Турчанинов на всю полосу.
– Как ты ее выкопал-то?
– Да выкопал, понимаешь.
– Ну, это ты такой копатель, – успокоил мужчина. – Другие не выкопают, не волнуйся. Его статьи были интересны трем с половиной человекам, уж поверь мне. А в Америке он вообще скукожился. Он никому не нужен и никогда не вернется. Просто не перенесет поездку. Физически.
– Да, извини, пожалуйста… Лена! – крикнул он, нажав на мобильном отбой. – Чтобы завтра был список тех, кто мог зайти в мой кабинет!
– Начиная с какого времени, Иван Григорьевич?
– Давай знаешь с какого? С того, когда очнулась Королева.
6
Наступил июнь. Он оказался невиданно жарким: уже с первых чисел полетел тополиный пух. Стоял такой зной, что даже на городских трассах возникали миражи: казалось, впереди растекаются лужи. В конце каждого дня небо затягивали тучи, и спустя пять минут начиналась сильная гроза. Грохотало очень страшно, но дождь был коротким и теплым. К полуночи все успокаивалось, и даже земля просыхала.
В центре было невыносимо. Везде ремонтировали дороги, на каждом шагу были сужения. Озверевшие водители бросали свои машины, чтобы пройти несколько метров по раскаленной трассе, а затем вернуться, поняв бессмысленность гнева. Другие водители разъяренно сигналили. Как обычно, в местах пробок не было ни одного гаишника.
Клиника реабилитации и восстановительного лечения находилась на севере Москвы, в самом центре заповедника Лосиный остров. Заповедник занимал огромный кусок дорогой столичной земли, но большая его часть стояла заболоченной.
Здесь всегда было сыро; в жару от земли поднимался тяжелый пар. Каждый новый вечерний дождь давал влагу и без того гигантским травам – теперь они были куда выше человеческого роста. Даже самый смелый собачник с самым большим доберманом не рискнул бы этим летом отходить от аллеи в сторону. Очень разросся кустарник; он заполнял все пространство под деревьями на два метра вверх, и уже у обочины начинались непроходимые дебри.
Густая, влажная, почти тропическая зелень осаждала ограду клиники – и разбивалась об нее. Сразу за красным забором зеленый цвет падал вниз, на уровень аккуратных газонов. Кустарник был квадратный или круглый и никакой иной. Ни одна веточка не топорщилась в сторону. Только у главных ворот была оставлена целая рощица разросшейся черемухи. Здесь уже пять лет жила соловьиная семья, и ради ее спокойствия сюда не пускали садовника.
Клиника была хорошо защищена не только от дикой растительности. По верху высокого кирпичного забора тянулись провода сигнализации и стояли камеры. На каждую сторону света выходило по будке охранников, снабженной пятью мониторами. Главные ворота были именно воротами, а не шлагбаумом. Изображение подъехавшей машины долго изучалось по всем экранам и спискам, после чего ворота автоматически разъезжались.
Впрочем, клиника не казалась мрачным заведением. Уже в тридцати метрах от забора начинался веселый солнечный парк, в любое время года ухоженный, чистый.
Для весны здесь были целые поля ранних цветов. Они распускались, когда под соснами еще лежал последний снег. Осенью горели георгины, астры и разные кустарники, посаженные ради буйного пожелтения и покраснения. Зиму украшали ели, можжевельник и куча красивых фонариков. Ну, а уж летом парк цвел такими цветами и красками, что чем ближе к зданию, тем больше захватывало дух.
Клиника была маленькая, в самое загруженное время здесь лежало не больше десяти пациентов, и все они были сотрудниками фонда.
Оборудование было закуплено семь лет назад, но до сих пор, по меркам Москвы, оставалось очень современным. Впрочем, серьезных заболеваний здесь не лечили. Сюда ложились, чтобы провериться, сдать все анализы. В отличие от государственной медицины, здесь не надо было подгадывать под часы приема и брать направления в другой конец города, чтобы сделать компьютерную томографию или суточную кардиограмму – все было под рукой. Лег на два дня, проверился, успокоился, пошел работать дальше.
Персонала тоже было мало. Две медсестры, две врачихи, одна массажистка, один старик-садовник, четыре сотрудника охраны, главврач Иван Григорьевич и его секретарша. Была также повариха и две ее помощницы.
Этого было достаточно. Иногда в клинике находилась только одна пациентка – дочь основателя фонда Марина Королева. У нее было свое отдельное крыло, оборудованное специально для поддержания жизнедеятельности. На входе в крыло сидел пятый охранник – единственный из всех, он имел право на ношение личного оружия.
Кабинет главного врача находился в этом крыле.
Если бы в клинике оказался посторонний человек, он, возможно, удивился бы и охране, и будкам по периметру, и проводам сигнализации. Сотрудники фонда ничего странного в таких мерах не видели.
Марина Королева попала в клинику после покушения. 2 сентября 2000 года ее ударили тяжелым предметом в основание черепа и плеснули в лицо кислотой. Все случилось на территории института, в который она поступила тремя месяцами раньше. Покушение произошло в девять часов вечера, шла дискотека. Марина вышла на задний двор институтского клуба, ее охранник в это время находился у парадного входа, там, где все курили.
Марина не была упрямой девушкой, она редко выражала недовольство по поводу чрезмерной опеки, хотя и не верила, что охранник ей на самом деле нужен. Но она не была легкомысленной. То, что она вышла на задний двор – было странно.
Сразу за клубом начинался парк, который в институте называли «наркоманским». Он был буквально усеян шприцами. Чуть дальше, на асфальтовом пятачке, находилось место продажи наркотиков. Там всегда толклись несколько мутных граждан, мимо которых проходили клиенты. Периодически устраивались облавы, и тогда все падали на землю, а омоновцы со страшным криком бегали над распростертыми телами, вопили: «Ноги раздвинь! Рот открывай, быстро!», шарили по карманам, стаскивали ботинки и носки, залезали в рот, а кого-то увозили, чтобы поискать наркотики в желудке.
Особенно часто такие облавы проходили во время дискотек, но в это время и прибыли были особенно большими. Так что по вечерам в субботу торговый пятачок всегда был заполнен, а парк буквально кишел наркоманами.
За две недели до покушения Марина рассказала отцу об этой особенности института. Он нахмурился, сказал, что лично позвонит ректору, а про себя подумал: «Как же мне повезло с дочерью. Никогда я с ней проблем не знал. Она не бесилась с жиру, не грубила, не теряла интереса к жизни, что часто бывает с детьми моих знакомых. Всегда веселая, всегда старательная, покладистая, немного наивная. За что мне такое счастье? Только один у нее недостаток, – подумал он еще, – она слишком ранимая. Слишком близко к сердцу принимает чужие проблемы. Как это неудобно для жизни!»
Итак, Марина Королева знала о том, к какому парку примыкал задний двор дискотеки. Она вышла туда, когда уже темнело, а в парке, из-за деревьев, было совсем темно.
Потом выяснили, что фонарь над крыльцом не горел. Было непонятно, зачем эта девушка пошла в темноту. Разумеется, найти свидетелей оказалось невозможно. Дискотека грохотала, никто ничего не слышал. Может быть, имелись свидетели на пятачке, но ни один из известных милиции продавцов не признался, что был там в это время.
Вне всякого сомнения, ее собирались убить. Это почти получилось. Охранник мог простоять у парадного входа еще полчаса, и тогда она умерла бы от потери крови и болевого шока. Но охранник что-то почувствовал. Он потом объяснял: «У меня заныло сердце. Что-то ударило в глаза, я словно что-то увидел».
– Что увидел? – спросил следователь.
– Как призрак какой-то промелькнул перед глазами… Мне стало так тоскливо, и я побежал ее искать.
Судя по всему, охранник нашел Марину Королеву минут через десять после покушения. Ее спасло то, что он не стал бегать по всем этажам дискотеки, а остановился в коридоре, прислушиваясь к собственным ощущениям. Они ему подсказывали: «Произошло что-то неприятное… Могло произойти на дискотеке, но тогда был бы какой-нибудь шум. Шума нет, значит, надо искать место опасное, неприятное и к тому же тихое».
Охранник стал набирать номер Марининого мобильного, он не отвечал. На дискотеке она могла просто не услышать звонков, но охранник сделал самое правильное: он убрал собственный телефон от уха, положил его в карман и стал прислушиваться. Ему показалось, что где-то вдалеке, очень слабо, он слышит звонки. И он пошел туда, откуда они могли бы доноситься, потому что их не заглушала музыка, – к заднему ходу, к черному квадрату стекла в конце коридора…
Все действия охранника доказывают, что Королев выбрал достойного. Почему же этот достойный не уберег ее?!
Королев его, конечно, уволил и пообещал наказать, но наказывать не стал, даже заплатил потом двадцать тысяч долларов в качестве единовременного пособия. Марина не должна была выходить на задний двор, и танцевать она должна была напротив своего охранника, а не за две стены от него. Но Королев знал дочь: она считала свою охрану обычной прихотью отца. Да он и сам не думал, что теперь ей что-то может угрожать по-настоящему!
Все ее детство он опасался, что ее похитят. Он ее очень любил, и об этом многие знали. Похищение с целью выкупа – вот был его главный страх. Еще он на разных этапах своей жизни опасался покушений на самого себя, это, как говорится, в порядке вещей, издержки профессии. Но дочь? Зачем?! Зачем убивать? Чтобы отомстить, чтобы принудить его что-то сделать? Но надо было хотя бы напугать сначала, пригрозить, потребовать…
Он был уверен, что она выживет. Кома – это опасно для тех, у кого нет денег. У него же были неограниченные возможности.
Первые полгода, пока закупалось оборудование в его собственную клинику, дочь находилась в государственной. Освободили целый этаж, поставили охрану. Он приезжал через день, и настроение у него было боевое. Дочь жива, борется, она пошла характером в него. Ее мать бы уже сломалась, сдалась. Марина другая. Врачи говорили, что после таких ударов не живут, а она живет, дышит. Сколько раз в жизни ему говорили: и это невозможно, и то невозможно. А он делал! И его дочь сделает невозможное. Они с ней одной человеческой породы.
Через полгода Марину разрешили перевезти. Он думал, это хороший знак. Оказалось, что с медицинской точки зрения это знак плохой. Они считали, что ее перевозят «умирать».
Еще через полгода в его клинику приехали супруги Иртеньевы. Сам Иртеньев был крупным нейрохирургом, он провел подробнейшее обследование Марины, после чего сказал, что операции она не переживет. И что ей осталось три года максимум. Королев предложил ему тридцать тысяч за операцию, но тот все равно не взялся.
Следствие тем временем шло ни шатко ни валко. Он им всем приплачивал, но они ничего не могли сделать. Дошло до того, что стали искать Марининого любовника.
– Любовника моей дочери?! – потрясенно спрашивал он. – Да вы охренели, что ли? Ей семнадцать лет!
– Ох, Михаил Александрович, – говорил следователь. – Что мы знаем о собственных детях? Сейчас уже десятилетние вступают в интимные связи.
– Не судите по своим! – отрезал он. – У моей Марины не было любовников.
– Ну как не было… Она ведь не девушка…
– В смысле?
– Ну, это…
– Было еще и изнасилование?!
– Нет-нет. Раньше была связь…
Это они ему рассказали (и он видел слабое ехидство в их глазах), что у Марины был любовник – хороший приличный мальчик из МГИМО. Он его нашел – тот стоял белый и тощий, похожий на бледную поганку, лепетал, что они собирались пожениться после окончания института. Он дрожал так, что это было заметно на расстоянии в десять метров. Королев, уходя, оглянулся и увидел, как тот дрожит. Мальчик думал, что Королев его убьет? Газеты тогда писали, что он многих убивал, вот этот и обосрался… Муж! До сих пор, наверное, в памперсах ходит. Дипломат сраный, из-за таких нас и не уважают.
Мальчика не подозревали: у него было алиби. Он, впрочем, быстро переехал в Англию, в Оксфорд, родители подсуетились. Королев почти равнодушно думал, что и для них связь сына стала неприятной неожиданностью: эти люди были потомственными дипломатами, и репутация Королева им вряд ли нравилась.
Любовная версия, тем не менее, сильно увлекла следователей.
– Может, за ней ухаживал кто? – спрашивали они. – А девчонка какая-нибудь приревновала. Ведь кислотой в лицо – это-то зачем?
– Вот и выясняйте зачем.
– Непонятно, – вздохнул следователь. – Ее должны были убить. Удар был страшный и нанесен со знанием дела. Зачем кислота? Либо удар, либо кислота. Они бы одной кислотой ей жизнь испортили. Зачем тогда убивать?
Ужасные, душу выворачивающие разговоры. Он их вел, стиснув зубы. Потом поехал к охраннику.
– Что ты увидел? Почему ты встревожился?! Почему ты сказал, что это призрак?
– Я не понял, Михаил Александрович! Что-то ударило по глазам. Что-то не то.
– Как ты стоял?
– Я стоял у входа… Ну, лицом к дороге.
– К проезжей части?
– Ну да.
– Значит, это было связано с машинами? Или это было на другой стороне?
– Я не понял, Михаил Александрович! Так как-то полоснуло по сердцу, тягостно так…
После того как Иртеньев произнес свой страшный приговор, Королев вдруг подумал, что дело, которому он решил посвятить жизнь, может провалиться. Его дочь может не очнуться. Эта мысль буквально поразила его. Он всегда ставил на те дела, в которые верил. Он с детства считал, что даже невозможное возможно. Да, он порой встречался с сильными противниками и даже с ужасными противниками, но теперь он стоял лицом к лицу с врагом, силу которого можно было оценить как неодолимую.
Разумеется, Королев знал, что смертен. О собственной кончине он особенно не задумывался, хотя в его жизни был период, когда его реально могли убить – и не один раз, а пять. Здесь он подстраховался. Он пожертвовал на два храма, и у него был свой батюшка. Королев думал, что много грешил в своей жизни и, в принципе, заслуживает тяжелой смерти. Справедливости и несправедливости были расставлены им по полкам и уравновешены. Он хорошо пожил, он объездил весь мир, повеселился на славу, видел и роскошь, и приключения, и красивых женщин, и самое сладкое на свете – поражение врагов. Для него смерть была не противником, а окончанием насыщенной и интересной жизни.
Теперь перед ним был другой враг. Этот враг поразил совершенно невинного, но за грехи его – Михаила Королева. Этот враг насмешливо дал ему надежду и дал цель – поднять ее, вылечить, восстановить справедливость – но он же мог ее отобрать в любую секунду, оставив за собой такую пустоту, что от одной только мысли об этой пустоте хотелось выть в полный голос.
Он был бессилен. И он это понял.
Михаил Королев был таким человеком, без цели жить не мог. Не надо было слишком уж долго думать, чтобы понять, какую теперь выбрать. Он должен найти того, кто это сделал.
И отомстить.
7
Сегодня был выходной, и Степан Горбачев решил выехать за город.
Всю неделю он промаялся так, что боялся сойти с ума. В общем-то, подружки его так и пугали: «Закончишь белой горячкой»; он думал, это такая общая фраза, а теперь решил, что можно и чокнуться. Почему нет? Десять лет скрытого алкоголизма и пять лет открытого.
Степан вначале съездил на кладбище – к Мише.
Это было не за городом, а почти в центре. Как обычно, бродило много туристов, кто-то спрашивал, как пройти к Высоцкому, злобно сигналили машины, стоявшие в глухой пробке. Трасса шла прямо вдоль кладбища – было шумно, душно, пыльно…
Степану здесь никогда не нравилось. Если бы он был такой богатый, как Королев, он бы завещал похоронить себя в полной тишине, на каком-нибудь островке посреди гигантского озера. Впрочем, может, и Миша хотел того же самого: он не успел оставить никаких распоряжений относительно собственных похорон.
Горбачев сел на лавочку у могилы, прикрыл глаза. Его немного тошнило. Видимо, было высокое давление.
Как непохожи друг на друга человеческие судьбы! Его собственная была ровной. Фактически он не изменился с момента окончания института. Сейчас он занимал то же место, что и двадцать лет назад. Не плохое и не хорошее. Самые низы ему завидуют, а те, что средние и выше – жалеют. Так же было и раньше. Только двадцать лет назад у него были перспективы, а теперь их не было. И еще: двадцать лет назад он был несчастный, а теперь счастливый.
У Королева все было по-другому. Траектория его судьбы шла почти перпендикулярно поверхности земли. Старт на первой космической скорости, как у другого Королева-конструктора. А потом падение на кладбище. Не судьба, а американские горки. Степан никогда не переставал поражаться этим завихрениям.
Первый раз он был удивлен тогда, в девяностом. Он приехал на своих «Жигулях», чтобы утешиться – похвастаться двумя комнатами в общежитии, аспирантурой и всем остальным. Ну, он не собирался хвастаться – хотел, наоборот, пожаловаться, что, мол, не так все идет, как хотелось бы, чтобы кооператор Миша изумился, и вот тогда бы получилось: похвастался. Хитро так, умело похвалился.
Уже у подъезда он понял: что-то не то. У него был адрес, и он несколько раз сверился с бумажкой, потому что по этому адресу был роскошный подъезд с чугунными завитками перил, а у входа стоял охранник с пистолетом и рацией.
– Вы к кому? – спросил охранник.
– К Королеву, – Степан сказал это тоном, заранее извиняющимся за ошибку, но охранник не пожал плечами, а спросил, как его зовут, после чего вежливо проговорил в рацию: «К Михаилу Александровичу пришли. Степан Горбачев», – и еще раз глянул с тщательно запрятанным любопытством: однофамилец? родственник?
Внутри все было отделано импортными пластиковыми панелями, у Мишиного кабинета сидела совершенно роскошная секретарша в короткой юбке. Тут прибежали какие-то люди с бумагами, но секретарша на них не обратила внимания. Увидев Степана, она вскочила, бросилась к кофейнику, стала извиняться, что у Михаила Александровича сейчас заканчиваются важные переговоры и он очень просит старого друга не обижаться, а чуть-чуть подождать.
– Есть коньяк. Вы будете? – спрашивала она.
У Степана голова пошла кругом.
Наконец открылась Мишина дверь, и он вышел из кабинета. Он был в пиджаке с золотыми пуговицами, в галстуке, в ослепительно сиявших ботинках, за ним шли три каких-то узкоглазых типа. Все они посмеивались.
– Степа! – воскликнул Королев и тут же схватил Степана в охапку. – Знакомьтесь, это мой друг, мой однокурсник, замечательный парень, большой ученый. Его фамилия Горбачев!
– Горбатщов? – изумлялись узкоглазые.
– Степан Сергеевич! Брат президента! Родной дядя перестройки! – пояснял, смеясь, Миша, и было непонятно, шутит он или говорит серьезно.
Во всяком случае, узкоглазые жали Степану руки и кивали головами, как китайские болванчики.
– Слушай, кажется, поверили, – весело сказал Королев, когда они остались в кабинете одни.
Секретарша принесла кофе, коньяк, виски, лимон. Когда она наклонилась над столом, Степан увидел все, что у нее было под юбкой. Миша перехватил его взгляд и подмигнул.