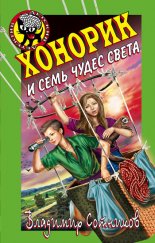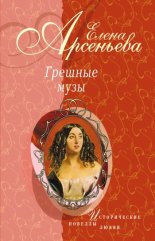Амнезия Чехонадская Светлана
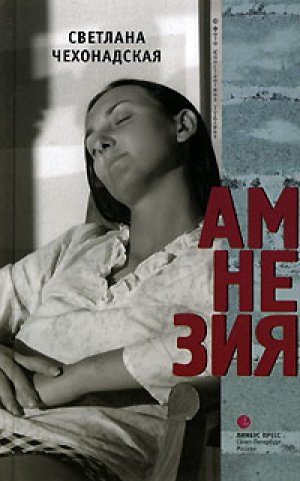
Делу Михаила Королева следователь посвятил несколько лет жизни. Он был лучшим специалистом в своей области, и ему не надо было учиться собирать доказательства: он их собрал много и все неопровержимые. Турчанинов был уверен, что Королев преступник. Верил ли он, что победит?
Это хотел знать и журналист.
– У вас были сигналы, что на развал дела брошены гигантские суммы?
– Мне говорили.
– Вы в это верили?
– Не очень. Дело получило большую огласку, и я думал, что это защитит от коррупции.
– Вы сейчас считаете себя наивным?
– Я верю в торжество добра.
– Кто поможет добру восторжествовать?
– Не понял вопроса.
– Кто сможет наказать Михаила Королева? Новый президент? Люди, обиженные Королевым? Бог, в конце концов?
– Без комментариев.
– Правда, что вам угрожали?
– Правда.
– Это сыграло роль в развале дела?
– Думаю, что Королев решал вопрос сразу многими путями. Один из них привел к победе раньше других. Угрозы просто не успели сработать.
– А если бы все затянулось, они бы сработали?
– Без комментариев.
– Угрожали только вам или вашей семье?
– Угрожали моим детям.
– Смертью?
– Да.
– Как вы думаете, угрозы были бы осуществлены?
– У меня есть доказательства, что раньше в похожих ситуациях они осуществлялись.
– Когда вы поняли, что дело проиграно?
– Когда первые три свидетеля отказались от показаний. Потом уже был настоящий снежный ком. Вещественные доказательства исчезали, задержанных отпускали под подписку о невыезде, и они немедленно скрывались за границей… Однажды из сейфа просто исчезли все бумаги. Вот так – взяли и исчезли.
– А вы были уверены в своих доказательствах?
– Абсолютно.
– Правда, что вы уходите из органов?
– У меня нет другого выхода. Я готов играть трагическую роль… А мою сегодняшнюю роль можно, с большой натяжкой, правда, но все-таки назвать трагической. Если я останусь в милиции после всего, что произошло, то это уже будет фарс. В нем мне играть неинтересно.
«И он улыбнулся. Это была грустная улыбка – мне кажется, следователь жалел нас с вами», – написал автор статьи.
На фотографии Турчанинов как раз улыбался. Марина смотрела на эту улыбку – да, это был главврач.
Всякое может быть в современной России. И свидетелей можно запугать, и любое дело развалить, но чтобы милиционер переквалифицировался в нейрохирурга… Нет, такое невозможно даже в нашей стране.
Но что же он делает в клинике?
Этот человек верит в торжество добра. Что он вкладывает в это понятие? Его жизнь была разрушена Михаилом Королевым, как и множество других жизней. Он считает Михаила Королева исчадием ада. Ведь он уверен, что Королев крал у бедных, приказывал убивать тех, кто стоял на пути, угрожал смертью его собственным детям, и эти угрозы не были пустыми – он осуществил бы их, если бы потребовалось. Но Королев сделал гораздо большее: он превратил правосудие в дешевую комедию, ушел безнаказанным, перевернул мир с ног на голову, утвердил грех как главный принцип мироустройства!..
Следователь потерял любимую профессию. Он хотел играть трагическую роль… А через год на Марину было совершено покушение.
Мог ли этот следователь общаться с ней в двухтысячном году? Как прежняя Марина должна была его воспринимать? И зачем он появился сейчас?! Каков его план?
Она почувствовала страшную усталость. Запах дыма усилился, где-то вдалеке рассмеялись мужчины.
Какая она одинокая! Как ее отец в последний год жизни.
«Может, встать на подоконник, да и упасть головой вниз? Может, его план именно таков?»
… Турчанинов оказался в клинике.
– Сейчас хотите подъехать? – Удивления в его голосе не было. – Да, приезжайте. Конечно, задержусь. Я в общем-то ждал вашего звонка, Марина.
18
Было уже десять часов, но небо оставалось светлым.
Когда въехали в парк, пошел дождь – вначале потихоньку, потом сильнее, сильнее; налетел резкий ветер, над парком встала черная грозовая туча. Сразу наступил глубокий вечер.
Марина узнала то место, в котором ей явилась влюбленная парочка, но сейчас она ничего не увидела. Даже стволов не было – наверное, все-таки упали.
Шины уютно шелестели по мокрому асфальту, шофер вел машину молча. Он чувствовал себя очень уставшим.
Этот человек впервые увидел Марину пятнадцатилетней девушкой. Она выбежала из дверей особняка, был теплый летний день, возможно, те же числа июля, что и сейчас; он подъехал за Михаилом Королевым и стоял у машины, курил.
Ворота в сад были приоткрыты, за ними виднелись газоны, пересекаемые искусственной извилистой речушкой с двумя полукруглыми мостиками и одним небольшим водопадом.
Он и раньше работал у богатых людей, поэтому не удивлялся ни садам, ни дворцам, ни горничным в белых фартучках.
Его собственная дача была в ста двадцати километрах от Москвы. Участок дали жене за беспорочную службу в бухгалтерии завода АЗЛК. Машины у них не было, ездили на электричках, за три года сумели выстроить лишь сарайчик для инструмента и летний душ. Дача была для работы. Они сажали там картошку, огурцы, клубнику, капусту. Сын возмущался, говорил, что с рынка все будет обходиться дешевле, но дело было не только в этих овощах.
Денег на другой летний отдых все равно не было. Старшая дочь еще застала советские времена – он раньше работал в милиции, и ему иногда выдавали путевки в санаторий на Черном море, сын же родился позднее и моря никогда не видел.
Дача позволяла убить лето. Кроме того, она была в красивом месте, там легко дышалось после Москвы. За их сарайчиком открывались бескрайние поля, а на краю горизонта стоял настоящий бор – густой и непроходимый, как в сказках. Там начиналась Калужская область.
Можно было часами идти в даль и не встретить ни одного человека. На пути попадались речки, овраги, поля, рощицы, боры, заколоченные, почерневшие от времени и ушедшие в землю по окна деревянные дома; в лугах стрекотала разная живность, низко носились стрижи, однажды даже промелькнул рыжий хвост лисы – но людей не было. Иногда он выходил на берег озера, садился среди душистых трав и думал: умирает все – его милиция, АЗЛК жены, земля, страна…
Когда он устроился шофером и охранником, стало намного легче. На строительство дома, правда, все равно не хватало, но зато они накопили на доплату и переехали в трехкомнатную квартиру.
Потом стали копить на ремонт.
Через два года начали копить на хороший телевизор и новую мягкую мебель.
Он так жил всегда, постоянно копил на что-то – и так жили его родители. Они тоже не унывали. «В войну было намного хуже», – говорили они. А уж их родители жили в такие страшные времена, что последующим поколениям было грех жаловаться, что бы с ними ни случилось.
В тот год, когда он увидел Марину, его главной головной болью было поступление сына в институт. Эту проблему надо было решить во что бы то ни стало – впереди маячила армия. Для института нужны были деньги, для взятки военкому нужны были деньги – как ни крути, без пяти тысяч долларов ни та, ни другая проблема не решалась. Запасным вариантом был какой-то левый экологический институт – туда никто не шел, и можно было обойтись почти без денег (только нанять репетитора по сорок долларов в час), но сын кричал, что не может себя заставить заниматься нелюбимым делом. Мечтал быть врачом, дурачок…
«В медицинский не пробиться, – грустно думал он, давя ногой окурок. – А ведь пацан бредит медициной, с десяти лет мечтает… Где взять деньги? Вроде платят нормально, а никогда не хватает…»
В роскошном особняке распахнулась дверь, и на порог вышла не очень симпатичная, высокая зеленоглазая девчонка с длинными рыжеватыми волосами.
Мужчина не был ни злопамятным, ни сентиментальным. Воспоминание о первой встрече промелькнуло в его голове просто так – ничего не означая, никак не тревожа. Он просто вспомнил, что она когда-то была пятнадцатилетней и выбегала на крыльцо красивого дома, но время прошло, дом продан, а она повзрослела, и ее лицо покрыто оспинами.
Так уж устроен мир – время никого не щадит. Его сын тоже пострадал: бросил этот экологический, загремел в армию. Хорошо хоть не попал в Чечню, могли убить. Вот только пьет теперь сильно. Слабый парень, как все они – молодые. Стержень, державший его самого, эта терпеливость, унаследованная от родителей и родителей родителей, сломалась, и ничто их теперь не держит. Им все надо сразу, а сразу ничего не бывает. «Бывает! – недавно орал ему сын. – Только у мудаков типа тебя не бывает, а у остальных – очень даже!» Он ему, разумеется, врезал, кулак у него был тяжелый, все еще милицейский…
Он изредка поглядывал на Марину, поражаясь ее работоспособности и даже уже не сердясь за тяжелый день, проведенный в салоне автомобиля. В темноте Маринино лицо разгладилось и казалось ему красивым. Она сидела с закрытыми глазами – наверное, задремала.
Наконец въехали на территорию клиники. Машина остановилась у главного входа.
Дождь лупил по закрывшимся бутонам портулака, вбивал их в землю, они разметались по клумбе, разбросанные кем-то разноцветные пуговицы. Сильно пахло землей и сыростью. К лестнице прибилось несколько мокрых шариков тополиного пуха. У клиники тополя не росли – наверное, пух залетел из парка.
Елена Павловна в темном холле всплеснула руками: «Мариночка! Ничего не случилось? Приехали к Ивану Григорьевичу? А я испугалась – думала, вам плохо. Вы какая-то усталая, не тошнит? А у нас здесь одна пациентка есть! – похвасталась она и сразу же перешла на шепот: – Сделала пластическую операцию, и что-то не так пошло! Теперь приводим ее в порядок. Она будет судиться с той клиникой – вы бы видели, что они с ней сделали! Все лицо словно в оспинах…» – врачиха осеклась и сразу же заторопилась в палату.
Турчанинов сидел за своим столом и что-то писал. Когда Марина вошла в кабинет, он закрыл тетрадь и снял очки.
Она села напротив, достала из кармана вырванные из журнала страницы, разгладила их. Марина боялась, что рука станет дрожать, – но нет, почти ничего не было заметно.
– Я вас видел на Петровке, – мельком посмотрев на страницы и сразу переведя взгляд на нее, сказал Иван Григорьевич. – Вы спрятались за кустами, но я вас успел заметить. Я уже имею представление о вашем характере и вашем уме… Короче, я вас ждал.
Она с трудом откашлялась: звуки из горла нужно было вытягивать силой.
– Вы, оказывается, знали моего отца…
– Знал.
– И не любили, надо полагать.
– Это сложный вопрос.
– Теперь правосудие совершилось? – хрипло спросила она.
– Правосудие? – Он удивленно помолчал и ответил не сразу – Правосудие не совершилось.
– Еще нет?
– Еще нет? – снова переспросил он. – Почему «еще»? Вообще нет. Ваш отец должен был понести наказание за совершенные преступления. Но его не наказали. И теперь уже не накажут.
– А это не наказание? – Она возвысила голос, и его взгляд стал еще более удивленным. – То, что произошло со мной, потом его самоубийство…
– Ни к тому преступлению, ни тем более к правосудию это не имеет никакого отношения.
– Это вы мне звонили домой с угрозами?
– Вам звонили с угрозами?
– Знаете… – Она прикрыла глаза и стала разговаривать так, в темноте. – Я устала. Если это делаете вы, то делайте скорее. Я не покончу с собой, это совершенно точно. Поэтому вам придется принимать решение самому.
– Ах вот в чем дело! – сказал в темноте его голос и вдруг изменил свое положение. Наверное, Турчанинов встал и пошел куда-то. Хлопнула дверца шкафа, стукнул стул. – Вы считаете, что я оказался здесь, чтобы вам отомстить? – спросил он издалека.
– И мне, и отцу. И вы вполне могли совершить на меня покушение. К милиционеру на встречу я бы пришла. Сказали бы, что это важно для отца, – и я бы пришла.
– Теперь все понятно. – Слышно было, что голос вернулся на место: Турчанинов снова сел за стол напротив нее. – К слову, мы с вами раньше никогда не встречались… Открывайте глаза, хватит.
Она послушно открыла глаза. Он сидел и внимательно смотрел на нее. В руках его был какой-то конверт.
– Через месяц после самоубийства вашего отца ко мне приехал адвокат из фонда, – сказал Турчанинов. – Он передал мне это письмо.
– Чье письмо?
– Вашего отца.
Она взяла листок, растерянно посмотрела на Турчанинова, потом взглянула на листок, потом снова на главврача.
– Читайте, читайте, – поторопил он. – Уже поздно.
«Уважаемый Иван Григорьевич! Больше всего на свете я хочу, чтобы вы испытали удовлетворение, когда начнете читать эти строки. Не потому, что я раскаялся, а потому, что удовлетворение – первая плата за то, о чем я вас попрошу. Аванс, так сказать, и, возможно, самое ценное, что я вообще могу вам предложить. То есть я, как обычно, меркантилен, я все считаю и пересчитываю, и даже на краю смерти продолжаю считать и пересчитывать.
Простите меня за сумбурность, мое состояние в последнее время очень тяжелое, я страшно устал.
Уже написав первые предложения, я понял, что не знаю, какой будет ваша реакция. И будет ли в ней присутствовать удовлетворение? Я плохо представляю ваш образ мыслей, и раньше его плохо представлял.
Точнее… Я считал вас недалеким человеком, простите за искренность. Однажды вы меня спросили: мучает ли меня совесть? Это был глупый вопрос. Я сражался в жестоком мире по законам жестокого мира. Совести вообще нет, она придумана для таких, как вы, чтобы вы не мешали таким, как я. То есть, если пользоваться терминами нашей с вами великой литературы, вы тварь дрожащая, а я право имею. Достоевский наказал Раскольникова, но это такой вымученный и нереальный конец истории! Никакого наказания не было, и раскаянья не было, говорю это вам по секрету, как человек, убивший не один десяток старушек-процентщиц. Возможно, наказание и раскаянье приходят после смерти, но я не верю в загробную жизнь.
Вы спросите: а нет ли у меня подозрений, что покушение на мою дочь стало таким наказанием? Клянусь, что никогда не рассматривал его под таким углом зрения! Ни единой секунды я не думал, что Бог решил покарать меня за преступления. Знаете, почему ее хотели убить? Потому что я где-то допустил ошибку, а скорее всего, проявил непростительную мягкость – пощадил врага. И это лучшее доказательство того, что я был прав в своих предыдущих жестокостях, которые вы так фанатично разоблачали.
Теперь вы имеете полную картину моего характера. И вам легче будет принять либо не принять мое предложение.
Дело в том, Иван Григорьевич, что на сегодняшний день вы единственный человек, кому я верю. Вот так! Если я в чем-то и раскаялся, так это только в том, что я бесконечно и бессчетно растлевал людей. Я где-то читал, что царский режим проиграл большевикам потому, что большевики не ставили себе никаких моральных ограничений. Царский режим не мог себе этого позволить – он был уверен, что просуществует века, и не имел права брать в союзники подонков. С развращенными людьми можно победить и некоторое время продержаться, но потом они начинают играть против тебя самого.
Я никому больше не верю! Я увидел, что падение человека не имеет пределов, у низости нет дна. Вы скажете, что я сам и проделывал эти ямы в человеческих душах. Да ладно вам, Иван Григорьевич! Это ваш бог их проделал, это его анатомическое изобретение.
В общем, единственный человек, кто оказался мне не по зубам – это вы. И я думаю: может, вы окажетесь не по зубам тому, кто захочет навредить Марине?
Я ее оставляю. Главврач сказал мне, что лгал все эти годы, что и ему сразу было понятно – Марина не встанет. Я не хочу, чтобы она умерла первой. Первым должен умереть отец.
Но у меня остаются некоторые опасения… Я даже не могу их правильно сформулировать… Короче, Иван Григорьевич, я дал поручение фонду следить за ее состоянием и достойно похоронить ее. Но если что-то им вдруг покажется странным, если у них появятся хоть малейшие подозрения, они должны обратиться к вам за помощью.
Потому что вы хороший следователь. Потому что вы честный.
И потому что у нас с вами была дуэль, которую необходимо закончить.
Простите за высокопарные слова… Прощайте».
Она тихонько перевернула листок, отодвинула вырванное интервью, закрыла лицо рукой.
– Вы оказались не по зубам… Он предлагал вам взятку во время следствия?
– Да.
– Много?
– Очень много.
– И только после того как вы отказались, он начал пугать?
– Не думаю, что угрозы были настоящие. Он предложил мне взятку, когда все остальные уже были куплены. Иногда мне казалось, что он просто хочет моего морального падения, чтобы доказать самому себе: все продается и все покупается. Я предложенной суммы не стоил, на том этапе я мог лишь чуть-чуть помешать, но решать его судьбу уже не был способен.
– Вы отказались от денег, чтобы тоже доказать: не все продается и не все покупается?
– Но это ведь так, Марина? – немного растерянно сказал он. – Это такая очевидная вещь, что даже неудобно говорить о ней! Разве можно купить себе память? Или купить мать? Вы не вернете отца ни за какие деньги. В мире покупается очень ограниченное число вещей. Не понимаю, откуда взялась иллюзия, на которой ваш отец строил свою жизнь. Наш народ при советской власти был излишне романтичным, теперь стесняется своего романтизма и стал излишне циничным. Это пройдет, это как у подростков: стыдно подарить букет любимой девочке, значит, надо дернуть ее за косичку… Ничего, все пройдет… Марина, получив это письмо, я не испытал никакого удовлетворения. Мне тогда было не до писем – у меня началась очень трудная жизнь. Я ведь и его самоубийство воспринял равнодушно, лишь мельком подумал, что это письмо – доказательство именно самоубийства. А два месяца назад меня нашел адвокат фонда, который сказал, что, кажется, наступило то время, о котором писал Королев. Главврач Сергеев стал беспричинно увольнять всех сотрудников и заменять их совершенно новыми людьми. На все вопросы он давал путаные объяснения, заявлял, например, что вас, Марина, могут убить. Это в фонде никому не понравилось. Сергеева решили на всякий случай заменить, а поскольку любая угрожающая вам опасность была предусмотрена завещанием Королева – заменить мной. Мне предложили очень приличный аванс и хорошую зарплату. Я должен был просто понаблюдать, что к чему. Разумеется, я согласился, в основном из-за денег. Я даже не предполагал, свидетелем чего стану! Вы внезапно очнулись. Мне кажется, среди всех ошеломленных я был самым ошеломленным! Кстати, это могут подтвердить в фонде. Это все были их решения, единственная моя самодеятельность – не очень удачная, если откровенно, – это попытка выдавать себя за нейрохирурга Турчанинова. У него однажды консультировался мой бывший коллега с Петровки, он и предложил воспользоваться тем, что мы однофамильцы. В общем, и Иртеньевы, и сотрудники клиники считали, что я нейрохирург Турчанинов. На самом деле, тот врач уехал из России в Америку шесть лет назад, он старше меня, и зовут его Игорь.
– Дождь закончился, – сказала она и вдруг улыбнулась. – Простите меня, пожалуйста.
Турчанинов молчал и глядел на Марину очень печально – у нее сердце сдавила тоска от этого взгляда.
– Да мы квиты, вообще-то, – произнес он после паузы. – Я ведь вас тоже подозреваю.
– Подозреваете меня? В чем?
– Да в том же самом, Марина.
Внезапно замигал свет – видимо, упало напряжение. В коридоре послышались шаги, снова застучал по откосам дождь. «А накапало сколько! – воскликнул голос Елены Павловны. – Что ж вы окна-то не закрыли, штора вся мокрая. Вы знаете, сколько она стоит?» – «Я, между прочим, охранник! – пробурчал мужской голос. – Ругайте своих медсестер, а ко мне не лезьте! Сейчас я тут буду с пистолетом корячиться, шторы ваши задвигать!» – «Нахал!»
– В чем вы меня подозреваете? – спросила Марина. – Я не понимаю.
– Сегодня на Петровке мне сказали, что бывший главврач Сергеев был в Испании с двадцать второго по двадцать девятое апреля. Тогда же там находилась ваша мачеха Лола, и в те же дни была убита ваша мать. Более того, полиция Марбеллы нашла свидетеля – уборщицу, которая утверждает, что двадцать восьмого апреля Елена Королева сказала ей, что вечером к ней приедет гость из России. «Это главный врач клиники, в которой лежит моя дочь», – добавила Елена, а потом спохватилась: «Он просил никому не говорить!» – произнесла она по-русски. Уборщица понимает простые русские фразы, поняла и эту. Сергеев – врач, он сделает любой укол. Елена могла подставить ему руку не под героин. Например, успокаивающее? Или укол от головной боли – она жаловалась уборщице, что у нее страшно болит голова, а таблетки не помогают. Ей вообще таблетки уже не помогали, несколько раз за последний год к ней приезжала медсестра из клиники, чтобы вколоть обезболивающее от мигрени. Ампулы с этим лекарством лежали у нее в кухонном шкафу. Так что Сергеев мог вызваться сам, а потом подменить лекарство. Есть и еще одна неприятная информация – ее мне на днях сообщили коллеги с Петровки. Сергеев и Лола – любовники. Давние любовники. Сергеев стал главным врачом по ее протекции, это она перетащила его из медицинского института, где он закончил аспирантуру и преподавал.
– Моего медицинского института?
– Да.
– Но зачем им было убивать мою мать?
– Да только для одного, Марина… – Он помолчал, глядя куда-то вниз. Ему не очень хотелось продолжать. – Елена – ваш последний родственник. Она умерла, ее кремировали. Если бы кому-то надо было провести генетическую экспертизу с целью определить, являетесь ли вы ее дочерью, то теперь у него этой возможности нет.
– А зачем ему эта возможность? – Она вдруг закашлялась и неожиданно закричала в полный голос: – Зачем ему эта возможность?!
– Да разве известно, кто вы на самом деле? – спокойно спросил он. – С чего это вы вдруг очнулись?
– Вы… что вы имеете в виду? – Ей показалось, что из нее выкачивают воздух: живот словно втянуло изнутри.
– Успокойтесь, пожалуйста…
(Дышать нечем!)
– Что вы имеете в виду?!
– Марина, успокойтесь.
(Как не хотелось при нем расплакаться! Как болела голова!)
– Марина, успокойтесь.
– Это вы успокойтесь, вы, придурок! Что вы тут несете, вы думаете, я не найду на вас управу? Не смейте следить за мной и моими родственниками, вы, маленький обиженный мент! Продолжаете ненавидеть моего отца?! Он в могиле, слышите вы?! Немедленно покиньте мою клинику и мою жизнь!
– Это не ваша клиника.
– Я сказала – вон! Я позову охранника!
– Хорошо, – сказал он и встал.
– Что-то случилось? – В дверь просунулось лицо больничного охранника, за ним маячила Елена Павловна, тоже, видимо, встревоженная криками.
– Все нормально, – сказал Турчанинов. Он махнул рукой, и они скрылись. Потом он достал из-под стола спортивную сумку. Она была потертая, старая. – Я ухожу, Марина, успокойтесь.
Он начал собирать вещи: плащ и пиджак из шкафа, какие-то тетради и книги из ящиков стола – Марина смотрела на него, тяжело дыша.
Потом он постоял немного, соображая, наверное, не забыл ли чего, снова залез в стол, достал оттуда пачку сигарет, сунул в карман. Ни слова не говоря, двинулся к дверям.
– Стойте! – Она вскочила и вцепилась в его рукав. – Я вас не отпущу! Объясняйте!
– Уже поздно, Марина, у меня семья.
– Я вас не отпущу, сказала же! С чего вам вообще пришла в голову такая бредовая идея?! Вы должны провериться у Иртеньевой в институте Сербского, слышите? Есть же отпечатки пальцев!
– Ваши? Откуда? Вы же не задерживались милицией… Как и Лола.
– Группа крови!
– Ваша была вторая, резус положительный. Отпустите мою руку, мне больно, вы прищемили кожу…
– А сейчас какая у меня группа?
– И сейчас вторая… Марина, мне больно! У Лолы была такая же группа.
– Тело! Волосы! Все остальное!
– Что остальное, Марина? Пять лет вас никто не видел, кроме врача Сергеева. Кто знает про остальное? Все бумаги исчезли! Кто вообще мог бы этим заняться, кроме меня и фонда? А в фонде не будут. Они уже не рады, что наняли меня! Если настоящая Марина Королева в конце апреля умерла, как и должна была по мнению всех без исключения врачей, то кого заботит подмена? Если на Маринино место легла другая молодая женщина, если она, бедняга, сделала себе пластическую операцию – навела эти оспины – то, черт возьми, может, у нее есть оправдания? Она все теряла в случае Мари-ниной смерти. Разве это справедливо? Что это за иезуитская жестокость вашего отца? Что за безумная страсть искушать людей?! Кем он выглядел в собственных глазах – дьяволом, богом?
– Он хотел, чтобы она поддерживала во мне жизнь как можно дольше, – прошептала Марина: теперь она не держала его руку, а держалась за нее. – И я очнулась! Отец рассчитал правильно! – Она уже плакала, размазывая слезы рукой.
– Не трите! Нельзя, чтобы попала грязь!
– Скажите, что вы ошибаетесь, прошу вас!
– Неделю назад я нашел маленькую косметологическую клинику в Семеновском переулке. Про нее и раньше была информация, что там занимаются всякими незаконными вещами. В ее компьютере есть имя Лолы Королевой. Она записалась на прием тринадцатого апреля. Потом пришла еще раз – четырнадцатого. Я туда съездил. Вначале они утверждали, что она приходила по поводу омоложения, потом стали лепить какую-то чушь, мол, она хотела сделать пластическую операцию, но передумала. Потом совсем запутались. Они страшно испугались моего визита! Через своих ребят из налоговой я проверил все их счета. Захватил и личные. По кредитной карточке Лолы Королевой хозяину клиники было заплачено пять тысяч долларов. Я спросил: «За консультацию? Не многовато ли?» Они стали говорить: предоплата. О’кей, за что? Почему не на счет клиники, а на личный счет? В ответ опять всякая муть. Если они изменили человеку лицо, то в документах этой операции не будет. А вот след денег остался. Но они будут молчать, как бы на них ни давили. Это уголовное дело. О таких случаях нужно обязательно сообщать в милицию.
– Пожалуйста, скажите, что вы врете, пожалуйста!
– Марина, я не уверен, что Лолу нужно разоблачать, – вот что я лучше скажу. Все устали от этой бесконечной истории. Империя Королева развалилась, умирает и фонд. Скоро умрет клиника. Его дочь оставалась никому не нужным напоминанием из прошлого, все ждали ее смерти. Если она умерла, то все рады, если очнулась, то все тоже рады. Но нет ни одного, кто бы радовался больше других или больше других огорчался. Любой исход воспринимается одинаково. В последних числах апреля, после возвращения из Испании, мачеха Марины исчезла. Ее нигде нет! Если это она очнулась в клинике, то пусть будет так. Большинство людей – девятьсот девяносто девять из тысячи – не против и такого исхода.
– А тысячный?
– А тысячный – я. У меня есть это письмо от Михаила Королева, и мне решать, как поступить. Хотелось бы только заметить, что лучшая месть Королеву, если бы я хотел мстить, – это примкнуть к девятистам девяноста девяти. А может, и он бы к ним примкнул? Если Марина умерла, то какая разница, кому достанутся эти ошметки былого состояния? Ведь дело-то только в них – в наследстве.
– А если ее убили? – Она не выдержала, зарыдала в полный голос. – И кто мне звонил с угрозами?
– Никто вам не звонил, перестаньте. Я подозреваю, что вы все помните на самом деле…
– Я не помню, не помню, не помню!!! Дверь распахнулась.
– Да вы что, Иван Григорьевич! Не ожидала от вас! – завопила Елена Павловна, врываясь в кабинет, как ураган. – Это же истерика!
Тут же прибежала медсестра, промелькнул Маринин шофер… Она все видела, как в тумане, ее вели под руки: вот она, милая белая палата, уснуть бы навсегда – в вену ткнулся шприц – «последняя картинка, которую видела мама… мама? или не мама? как хорошо ничего не помнить, ничего не знать…»
Ей приснились синие железные ворота. Словно она смотрит на них, а сердце ее бьется в два раза быстрее, чем обычно. Под воротами утоптанная земля, торчит морда лежащей на земле собаки…
Марина глубоко дышит, чтобы успокоить сердце.
Она смотрит вперед – справа от ворот табличка с адресом.
«Улица летчика Ивана Порываева, дом 17».
Она медленно подходит и нажимает кнопку звонка. Собака изумленно поднимает глаза – видны красные полукружья век. Стучит собачий хвост, поднимая пыль с земли. Где-то далеко раздается звонок…
«Ну вот и все, – говорит голос внутри нее. – История начинается. Отныне ты сама принимаешь решения».
19
Турчанинов не обманывал, когда говорил, что в фонде не рады его активности. Ему об этом сказали даже не намеками – а прямо. Это произошло за два дня до встречи с Мариной.
В клинику позвонил адвокат Крючков, и уже по тому как он покашливал, приглашая Ивана Григорьевича приехать, стало понятно, о чем пойдет разговор.
В холле Турчанинова встретила симпатичная девушка в мини-юбке, эта девушка повела его за собой.
Они миновали выщербленные мозаичные круги, чугунные скамейки, мраморные скульптуры – он смотрел, как весело девушка виляет загорелыми бедрами, и ему тоже стало весело: и от девушки, и от этой Римской империи времен упадка, и, главное, ото всей этой нелепой истории, участником которой он стал.
«Да-а, Иван Григорьевич, – думал он, заходя за девушкой в лифт, – никогда не надо бросаться словами. Заявил ты в том злополучном интервью, что не желаешь быть героем фарса – с тех пор только в комедиях и играешь».
Уход из милиции дался ему тяжело. Вначале, пока приезжали все эти корреспонденты, пока звонило начальство, оставался хоть какой-то кураж. Ему казалось, что он в центре истории, он – трагический персонаж, несущий послание развращенному миру. Но интерес к нему быстро пропал, его заслонили сотни других персонажей, и вокруг него воцарилась пустота.
Начитанный, образованный и вдумчивый человек, он вдруг впервые в жизни стал размышлять о смысле вечных историй. Он начал понимать, что не сам жест является испытанием, а то, что происходит после – долгие-долгие годы после. Никакой гарантии, что твой жест оценят или хотя бы заметят, – так и живи с этими постоянными сомнениями.
Его друг – самый близкий, всегда под цифрой «3» на мобильном телефоне – говорил ему: «Не зря христиане считают гордыню страшным грехом. Впал ты в этот грех, Иван! Разве может полководец уходить из армии из-за одного, пусть даже крупного, поражения?»
«Да не одного! – горячился он. – Не одного, понимаешь?! Что это за война такая: собственные солдаты играют на стороне противника, генералы сообщают ему планы операций! Эта игра – поддавки?»
«И уныние – грех!» – грозил тот пальцем.
Отсидевшись полгода в образовавшейся тишине, он устроился в коммерческие структуры. Стал начальником службы безопасности большого частного подмосковного санатория.
Турчанинов ожидал, что здесь, в рыночном мире, ему будет очень сложно найти свое место. Всю предыдущую жизнь он посвятил службе государству и о свободном рынке думал с некоторым ужасом.
Оказалось, что законы здесь намного проще, а правила – намного ясней. Бизнес мог существовать в очень узких рамках целесообразности – они сами выстраивали его и не давали отклоняться в стороны.
Государственная машина, которой Турчанинов отдал столько лет жизни, была устроена намного хуже. Она была неповоротливой, жадной, требовала постоянного всеобъемлющего надзора, и этот надзор надстраивался все новыми и новыми этажами – казалось, процесс не закончится никогда.
Воспринимал ли он себя дезертиром? Да. Но эта мысль не очень беспокоила его.
Оказавшись на другом берегу, он яснее разглядел, с каким врагом боролся. Развращенность была всеобщей, и теперь стало понятно, что победить Королева он бы не смог никогда.
Михаил Королев выиграл дело потому, что абсолютно все, от кого это дело зависело, поддались тому или иному искушению. Пять лет назад Турчанинов думал, что искушение исходило от Королева, что этот человек был главным искусителем, почти уже не человеком – дьяволом. Но постепенно бывший следователь остыл. Для себя он решил, что не Королев был здесь главным действующим лицом. Все девяностые годы российская история играла какие-то мощные партии, и не то что Королев – президенты были пешками. Покончивший с собой богач был не хуже других убийц и воров, а Турчанинов видел всяких и некоторых даже жалел. Пожалел он и этого запутавшегося человека.
И перестал о нем думать – тогда казалось, что навсегда.
«Человек предполагает, а Бог располагает… Что же мне теперь делать?» – вот о чем он размышлял, подходя к кабинету адвоката.
Крючков сразу повел Ивана Григорьевича в ресторан, но не в общий зал, а в сигарную.
Пока им на столик ставили тарелки с салатом (новомодным, состоящим из одних листьев – Турчанинов такие не любил) и бифштексом, пока разливали красное вино по бокалам, он оглядывался по сторонам.
Комната была обита деревянными панелями почти до потолка. Вдоль стен стояли темные стеллажи. Почти все они были заставлены полированными ящиками для сигар. В центре комнаты зеленые кожаные кресла образовали несколько кругов с низкими столиками посередине.
Они с Крючковым сели у стены – за ширмой. Здесь стол был не низкий, а обеденный, и стояли не кресла, а стулья, впрочем, тоже кожаные. «Для конфиденциальных разговоров», – добродушно подумал Турчанинов. Настроение улучшалось с каждой минутой. Он был уверен, что через полчаса освободится от этого мутного дела.
Официант поставил на стол третий прибор.
– Кто-то еще подойдет?