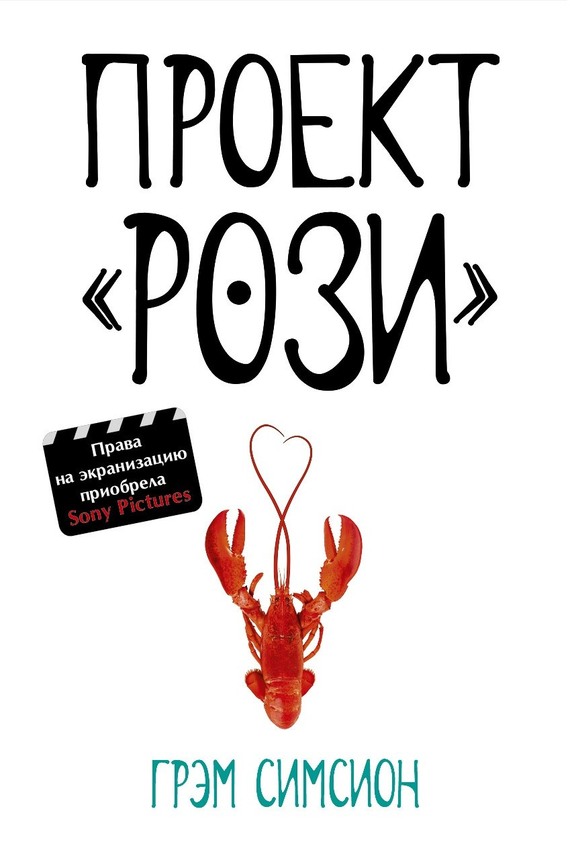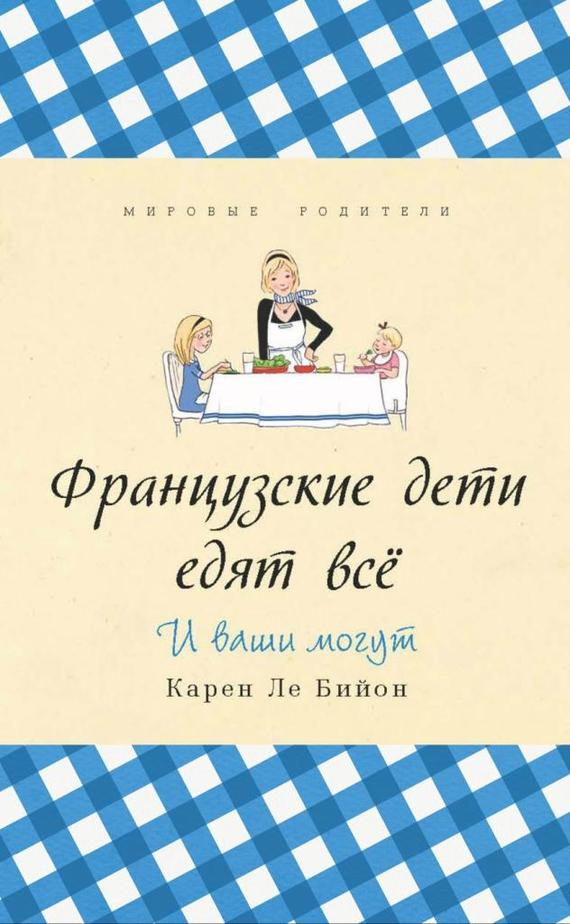Гиллеспи и я Харрис Джейн

Сегодня Сара, как всегда, принесла мне чай в гостиную, но вопреки обыкновению я не отпустила ее, а жестом пригласила сесть в кресло напротив. Сара посмотрела на кресло, потом на меня — как мне показалось, с некоторой тревогой. Я поспешила ее успокоить:
— Не волнуйтесь! Я очень довольна вашей работой. Просто хотела немного поговорить.
— О! — Она села очень прямо, сложив руки вместе. — Скажите, а это долго?
— Нет-нет, — рассмеялась я. — Совсем недолго. Может, чаю? Возьмите себе чашку, если хотите.
— Нет, спасибо. — Сара не то чтобы хмурилась, но немного насупила брови. Несмотря на жару, она была в кардигане с длинными рукавами, застегнутом на все пуговицы. На верхней губе блестели бисеринки пота — видимо, после хлопот на кухне.
— Я просто хотела узнать, как вам у нас живется.
— Вполне хорошо.
— Вы довольны комнатой? Там не слишком душно? Матрас не жесткий?
— Нет, все нормально.
— А как ваши обязанности — они вам по силам?
— Более-менее.
— Не перетруждаетесь?
— Да вроде бы нет.
— Ну, слава богу.
Мы замолчали. Я улыбнулась Саре, хотя чувствовала себя неуютно. Несмотря на отсутствие жалоб, что-то заставляло меня усомниться в ее благополучии. Кроме того, возникало ощущение, будто мои расспросы — излишняя суета. Но все же я не сдалась.
— Сара, быть может, вы хотели бы меня о чем-то попросить?
Она безучастно уставилась на меня и, помолчав, сказала:
— Пожалуй, нет. Разве что… ведь уже пора поменять птичкам воду? Я хотела успеть до того, как примусь за ужин.
— Ах да, конечно. Пожалуйста.
Сара встала и, тяжело ступая, вышла из гостиной. Кажется, под непроницаемой маской бурлят неведомые страсти, но полагаю, мне следует поверить ей на слово. Порой от нее прямо-таки веет неприязнью. Подозреваю, она не вела бы себя столь любезно, будь я помоложе. Однако у нее нет выхода: в свои почти восемьдесят я заслужила дипломатическую неприкосновенность.
Глава 2
Июнь — август 1888 года
Глазго
5
Быть может, сейчас вполне подходящий момент, чтобы рассказать о детстве и юности Неда Гиллеспи. Историю его юных лет я узнала, ближе познакомившись с семьей. Художник родился в тысяча восемьсот пятьдесят шестом году и вырос в скромной лачуге в деревушке Мэрихилл. Его детство было омрачено финансовыми трудностями отца, сына фермера-арендатора по имени Сесил: тот держал на Грейт-Уэстерн-роуд магазин «Шерсть и чулки Гиллеспи» и годами не мог расплатиться с кредиторами. Мальчишкой Нед жил в тесной каморке вместе с братом и сестрой. Несмотря на явные наклонности к рисованию, ему не на что было учиться живописи или даже пойти подмастерьем в студию. Подозреваю, в те времена это было немыслимо: его родители, простые люди, придерживались традиционных взглядов на выбор занятия для сына. Итак, в пятнадцать лет Нед начал работать помощником в отцовском магазине. Когда Сесил наконец-то рассчитался с долгами, он перевез семью из лачуги (которая к тому времени подлежала сносу) в многоэтажный дом на Стэнли-стрит.
Впервые обзаведясь собственной комнатой, пусть и в тусклом полуподвале, Нед усердно принялся рисовать, отдавая любимому делу каждую свободную минуту, и в двадцать один год поступил в Художественную школу, на утренний курс, организованный специально для тех, кто днем работал. Шесть дней в неделю Нед мужественно вставал до зари и шел на занятия, а потом до вечера трудился, не покладая рук: таскал ящики, продавал игольницы и чулки. Спустя несколько лет на уроке живописи он познакомился с Энни: девушка осиротела в шестнадцать лет и была вынуждена работать натурщицей. Когда они поженились, Неду было двадцать пять, а ей — восемнадцать.
Энни бросила работу, и пара поселилась в доме номер одиннадцать, через дорогу от родителей Неда. Через год родилась Сибил, а еще год спустя умер Сесил Гиллеспи. К тому времени Кеннет работал в лавке вместе с Недом. После смерти отца братья решили разнообразить ассортимент товаров: кроме пряжи и чулочных изделий они стали продавать галантерею, мелкий инструмент и кое-какой садовый инвентарь.
Тем временем Нед писал картины и работал, работал и писал картины. Наконец в середине восьмидесятых — примерно тогда же родилась Роуз — его карьера художника пошла в гору: несколько полотен попали на местные выставки, а одно-два даже были проданы. Сделав скромные сбережения, Нед передал дела своей помощнице, мисс Макхаффи, и ушел из лавки, хотя и продолжал управлять финансами. Когда мы познакомились, он уже около года посвящал живописи все время.
Несмотря на совершенно разное прошлое, у нас с Недом было невероятно много общего — например, в вопросах вкуса и эстетики или взглядов на устройство мира. Мы были почти ровесниками, с разницей в пару лет; вдобавок я родилась двадцатого апреля, а он — двадцать первого мая. Мне всегда нравилось это совпадение: я видела некий знак в том, что и день, и месяц нашего рождения отличались ровно на единицу.
Поначалу о Неде и его семье мне рассказывали Элспет и Мейбл, поскольку Энни была менее общительной. Начиная позировать для нее, я искренне пыталась завязать разговор, но ее односложные ответы и явное нежелание что-либо обсуждать вскоре остудили мой пыл.
Решив задержаться в Глазго, я сделала кое-какие распоряжения: открыла счет в Национальном банке Шотландии и продлила аренду жилья еще на три месяца, с правом дальнейшего увеличения срока. Так сложилось, что тем летом я проводила у Гиллеспи много времени — позировала для портрета раз или два в неделю, когда Энни позволяли прочие дела. Мы устроили импровизированную студию в гостиной — у окон было довольно светло. Муж Энни обычно работал наверху — готовил картины для Комитета, присуждающего право выполнить королевский заказ. Каждый художник должен был представить на конкурс три полотна, затем Комитет должен был провести закрытое рассмотрение и объявить победителя в августе. Нед сосредоточился на масштабном полотне с изображением Восточного дворца, надеясь успеть к конкурсу. Меня грела мысль, что он стоит у холста совсем рядом, а Энни делает первые наброски к моему портрету, и вместе мы — словно небольшая художественная артель. Правда, я всегда чувствовала себя немного скованной — отчасти из-за того, что Энни работала молча, нахмурив брови, и ее уголек сердито царапал бумагу.
Художник то и дело звал жену к себе в мастерскую, чтобы обсудить какие-то нюансы работы, а порой — на пути домой или из дому — просовывал голову в дверь и что-то спрашивал или сообщал, когда вернется, и неизменно находил добрые слова о моем портрете. Он встречал меня радостным приветствием и часто задерживался в гостиной поболтать с нами или с кем-то из домочадцев. Со временем я выучила некоторые его привычки: тихонько шмыгать носом (он вечно забывал платок), смеяться во все горло, совершенно не заботиться о внешности. Думаю, у него не осталось ни единого чистого манжета — он делал на них зарисовки, когда забывал блокнот; Нед всегда был весь в краске, а девочки запросто хватали его липкими руками за одежду, оставляя разнообразные следы и пятна.
Подозреваю, что Нед вообще бы не брился и не подстригал усы, а может, даже и не ел бы без напоминания кого-нибудь из многочисленных родственниц. Подобные мирские заботы мало занимали его. Как большинство мужчин, он обладал завидной способностью целиком погружаться в работу, не видя ничего вокруг, и, увлекшись, забывал о времени и постоянно опаздывал. По рассеянности он выходил из дому в момент, когда пора было быть на месте, и всегда удивлялся, что опоздал.
В доме номер одиннадцать неизменно бурлила жизнь, и нас с Энни редко оставляли в покое. Ключи от входной двери кочевали из кармана в карман, а родственники из дома напротив сновали туда и обратно без предупреждения. Судя по всему, Элспет считала квартиру сына продолжением собственной гостиной и обрушивалась на нас, беспрерывно тараторя, после церковных собраний или по дороге в тюрьму на Дьюк-стрит, куда она ходила как член Попечительского комитета. Мейбл тоже была частым гостем у брата. Тем летом она, неприкаянная и несчастная, мучительно переживала разрыв помолвки, и Нед — чуткий и благодарный слушатель — откладывал работу и позволял ей излить душу. Кеннет навещал брата по пути из лавки — как будто нарочно, чтобы девочки разыгрались перед сном, — а Уолтер Педен заглядывал после обеда; он так зачастил в мастерскую, что проще было устроить ему пристанище в бельевом шкафу.
Разумеется, Энни иногда приходилось принимать посетителей в гостиной, а порой — откладывать кисть и подавать напитки, если горничная, как водится, куда-то исчезала. Вернувшись, Кристина клялась, что «всего лишь бегала за продуктами». Правда, по манере девушки держаться было ясно, что ей не свойственно «бегать». Напротив, она постоянно слонялась без дела, болтая с приятельницами на улице, а еще я не раз видела ее — хоть и не выдала Энни — на пороге дешевого трактира на Сент-Джордж-роуд. Полагаю, Энни побаивалась Кристину и потому не делала ей замечаний и не увольняла.
Неудивительно, что при такой нерадивой горничной и большой, требующей внимания семье работа над портретом шла крайне медленно. В первые несколько недель Энни сделала лишь несколько эскизов со мной в разных позах, пока не выбрала наиболее удачную. Только тогда она постепенно перешла к холсту и краскам. К счастью, мы часто делали перерывы, да и позу поддерживать было нетрудно: я сидела, опершись локтями на подлокотники кресла и сложив руки на коленях. Энни располагалась так, чтобы писать портрет с поворотом в три четверти. Она просила меня не улыбаться и по возможности ни о чем не думать. Конечно, у меня всегда — и по сей день! — был живой ум. Но я изо всех сил старалась, чтобы мои мысли не отражались на лице, и, пожалуй, вполне преуспела. Энни охотно показывала свою работу, и я находила очень увлекательным наблюдать рождение портрета: от набросков угольком и размытых пятен краски до узнаваемого силуэта, возникающего из теней.
Хотя Энни никогда бы не призналась в этом, я уверена, что она мечтала стать хорошим художником. Она расстраивалась, если пропускала урок рисования из-за домашних нужд, и, полагаю, ходила бы на занятия гораздо чаще, не будь она так загружена бытом. Я всегда была на стороне женщин, которые стремятся чего-то достичь, и всей душой сочувствовала амбициям Энни как художника. Тем не менее не постесняюсь заметить, что она бывала резка со мной, не говоря уж о вечно хмуром лице и манере наотмашь бить кистью по холсту. Одно время я ломала голову в поисках причины ее холодности: может, я была слишком трудным объектом для изображения? Но в конце концов я пришла к выводу, что Энни предпочитала работать молча, оставила попытки ее разговорить и довольствовалась наблюдением за домочадцами.
На первый взгляд семья Гиллеспи казалась вполне благополучной. Однако, присмотревшись внимательнее, я поняла, что далеко не все в семействе было гладко — особенно это касалось Сибил.
Едва ли неожиданно, что главными возмутителями спокойствия в семье были дети. Если после обеда Элспет или Мейбл не приходили на помощь и не забирали девочек, присматривать за ними во время сеансов позирования приходилось нам с Энни. Думаю, Энни с радостью бы отправляла дочерей гулять, как поступали родители всех ребятишек в округе, да и ее собственные. Порой у нее все же иссякало терпение, и она выгоняла девочек на улицу. Стыдно признаться — особенно после дальнейших трагических событий, — но я всегда была ей за это благодарна. Зато Неду не нравилось, когда девочки оставались без присмотра. Он предпочитал, чтобы любая прогулка — в палисадник или в любимый скверик за углом на Квинс-Кресент, где я жила, — проходила в сопровождении матери или другого взрослого. Энни не всегда могла отложить домашнюю работу ради возни с детьми, и желание ее мужа исполнялось редко.
Вдобавок девочки отличались неуемным любопытством и вечно крутились под ногами, боясь пропустить что-нибудь интересное. Энни обычно уговаривала их поиграть в другой комнате или просила Кристину приглядеть за ними, но это не помогало. Рано или поздно Сибил бочком протискивалась в дверь гостиной, и, не скрою, стоило ей вскочить на табурет у пианино, у меня сразу портилось настроение. Минуту-другую она делала вид, что задумчиво бренчит по клавишам, однако это была лишь разминка перед длительным сеансом самолюбования. Увы, в надежде поразить американского пастора Элспет постоянно отыскивала новые спиричуэлсы, и во время позирования, прикованная к креслу в нескольких футах от пианино, я поневоле слушала бесконечные гимны и прочие песнопения, например «Вот бы стать ангелом» и «Где же теперь пророк Даниил?». Даже не знаю, что внушало мне больший ужас: мрачные взгляды, которые Сибил бросала через плечо в мою сторону, или необходимость на все лады расхваливать ее музыкальный талант.
Иногда Роуз топала в гостиную вслед за сестрой, и — поскольку, находясь в одной комнате, девочки не могли не сцепиться — вскоре между ними начиналась склока. Хотя Сибил была старшей, зачинщицей обычно выступала именно она. Постепенно я поняла, что Роуз была милым и покладистым ребенком. К сожалению, солнечный характер сестренки провоцировал Сибил на новые выходки.
Старшая дочь Гиллеспи всегда была трудным ребенком, но со временем стала неуправляемой. Первые тревожные признаки появились уже в мае — например, история с разбитым вазоном. Затем Энни как-то забыла положить на место свою соломенную шляпу и наутро обнаружила ее в ведерке для угля, изорванной в клочья. Спустя несколько дней под диваном в гостиной нашли осколки игрушечного чайного сервиза Роуз. Еще через неделю, когда забился туалет, оказалось, что сливное отверстие заткнуто передником Энни.
Бедные родители, которым достался такой строптивый ребенок! Что характерно, бесчинства Сибил были направлены исключительно против женщин, и — хотя Роуз и Кристине тоже доставалось — основной удар приходился на Энни. Возможно, причина крылась в некоем женском подобии Эдипова комплекса. Без сомнения, Сибил завидовала отношениям матери с ее обожаемым папой: мама спала в его постели, исполняла все женские обязанности, приносила ему тапочки, общалась с ним с утра до вечера — неудивительно, что девочка сходила с ума от ревности.
В июле, когда школа Сибил закрылась на лето, а ее преподаватели, сестры Уокиншоу, уехали в ежегодное путешествие во Флоренцию, проблемы усугубились. Сидя дома с утра до вечера, девочка принялась пакостить с новой силой. Не прошло и недели, как на стенах квартиры стали появляться грубо нацарапанные рисунки. Однажды утром Энни обнаружила в ботиночках Роуз горсть булавок из коробки для шитья: к счастью, малышка еще не умела обуваться сама, иначе она бы непременно поранилась.
На следующий день, явившись с очередным визитом к сыну, Элспет заметила на улице несколько закрытых тюбиков краски. Рассудив, что они принадлежат Неду, она собрала тюбики и взяла с собой. По ее словам, краски были рассыпаны на тротуаре у дома, как будто кто-то в припадке ярости вышвырнул их в окно гостиной. Я как раз присутствовала, когда Энни посадила Сибил на табурет у пианино, требуя объяснений. В ответ на обвинения девочка только сузила глаза. Не скрою, от ее жуткой гримасы мне стало не по себе. Сибил втянула голову в плечи, сжала челюсти и посмотрела на бедную мать с такой злобой, что я не на шутку рассердилась.
— Прошу тебя, милая, скажи правду, — умоляла Энни. — Расскажи мне все без утайки. Ты выбросила краски из окна?
Сибил отпиралась изо всех сил, краснея от злости, и бросилась на пол с душераздирающим воплем.
Спустя несколько дней настенные рисунки начали меняться. Поначалу это были обычные детские каракули, однако со временем они становились все более зловещими. Мелки могла взять любая из девочек, однако все указывало на Сибил — ведь она была главной проказницей в доме, да и Роуз еще толком не умела рисовать. Помнится, однажды Энни пошла за чем-то в кухню и вдруг громко ахнула. Вернувшись в гостиную, она призналась, что увидела на стене нечто ужасное. Должно быть, она немедленно все стерла: через минуту я относила чашки в раковину и заметила только влажное пятно на штукатурке. Оставалось только гадать, что там было.
Ближе к концу месяца во время очередного сеанса позирования я все же увидела один такой рисунок. Несколько дней было сыро и прохладно, и мы, растопив камин, уютно устроились в гостиной. Нед трудился у себя в мастерской над «Восточным дворцом» в надежде вовремя предоставить полотно конкурсному комитету. Работа над моим портретом успешно продвигалась: Энни как раз принялась за сложные складки на моей юбке. Перейдя на масляные краски, она стала сосредоточеннее и увереннее в себе, но при этом выглядела изможденной, наверное, из-за Сибил. День выдался унылый и пасмурный. Помню, что мы только что вернулись к работе после перерыва, и Энни мерила шагами комнату, посматривая на меня и проверяя, красиво ли лежит юбка. Внезапно выглянуло солнце, в гостиную пробился луч света. Энни вытирала кисть и вдруг застыла с искаженным лицом, глядя поверх моей головы, в угол у окна. Она определенно была очень встревожена.
Я обернулась, чтобы узнать, что же привлекло ее внимание, но Энни торопливо проскочила мимо моего стула и, присев на корточки у плинтуса, стала тереть стену подолом платья.
— Что там? — спросила я.
— Ничего, — резко ответила Энни. — Просто пятно на стене.
«Пятно», как она его назвала, было нацарапано черной и красной пастелью. Видимо, чтобы не шокировать меня, Энни попыталась его загородить, но я успела мельком заглянуть ей через плечо. То, что я увидела, можно назвать одним словом — непристойность. Примитивный рисунок, размером с небольшой кабачок, был выполнен уверенной, но явно детской рукой. Я похолодела от мысли, что столь непристойное изображение принадлежит маленькой девочке.
Пожалуй, до того случая я не осознавала, как печально обстояли дела. Хотя Элспет и Мейбл обсуждали при мне новую привычку Сибил пачкать стены, я не догадывалась, что сюжет окажется похабным. Однако теперь я убедилась, что девочку нужно как можно скорее образумить.
Я подозревала, что Мейбл воспитывала бы Сибил строже, чем родители: она весьма выразительно кривилась, когда племянница плохо себя вела — и, кстати, когда Энни кормила Роуз грудью, — и единственная настаивала, что девочкам не место в мастерской. Правда, сама Мейбл почти постоянно сидела там, болтая с братом. Несколько раз, когда мы оказывались в гостиной наедине, она принималась откровенничать о себе, о разорванной помолвке и своей семье. Сначала я настороженно относилась к сестре Неда, уж слишком много в ней было противоречий: доброжелательная — и в то же время заядлая спорщица; самоуверенная — и в то же время доверчивая. Несмотря на некоторую резкость, Мейбл подкупала своей прямотой. Вскоре я пришла к выводу, что ее апломб происходил от некоторой заброшенности в детстве. Элспет, как свойственно матерям, больше любила сыновей и каждую минуту своей жизни посвящала ожиданию Царства Божия на земле, благотворительности и разнообразным бродягам и экзотическим личностям из разных уголков мира. Особенно ее увлекали евреи, которых она считала первыми обращенными в христианство; именно поэтому она так заинтересовалась мною, приняв меня за еврейку. Представляю, каково было Мейбл в детстве: всегда позади братьев, всеми покинутая, с матерью, собирающей в доме пеструю компанию негритянских евангелистов, бледных польских евреев, темнокожих раджей, смуглых мусульман и всевозможных западных миссионеров. На мой взгляд, Мейбл изнемогала от недостатка внимания, мечтала, чтобы ее слушали и воспринимали всерьез. Я взяла за обыкновение спрашивать ее совета по любому поводу. Мы обсуждали, где продаются самые изысканные продукты и как мне лучше закалывать волосы. Поначалу она реагировала настороженно, но честолюбие взяло верх, и Мейбл охотно делилась своей мудростью. Я безотлагательно выполняла все рекомендации, не забывая похвалить ее отменный вкус или здравомыслие, и постепенно наши отношения потеплели.
Однажды она зашла ко мне на чашку кофе, который я начала пить по ее совету. Хотя мы с Мейбл часто общались и раньше, в тот раз мы впервые договорились встретиться вдвоем — знаменательный этап в развитии женской дружбы, на котором еще можно все потерять, если не достичь гармоничного, хотя и трудно определяемого, сочетания взаимной симпатии и уважения. К сожалению, в тот день мне не раз пришлось прибегнуть к помощи чувства юмора, поскольку Мейбл явилась в особенно спесивом настроении и даже не пыталась казаться любезной. Прямо с порога она раскритиковала шторы в моей гостиной, потом заявила, что вид из окна мог бы быть и приятнее, осудила мой выбор кофейных зерен, а за столом устроила целую сцену, выбирая печенье, к которому, придирчиво повертев его в руках, так и не притронулась.
Я попыталась растопить лед.
— Я смотрю, вы не такая сластена, как Элспет. И вы гораздо стройнее. В жизни бы не заподозрила, что вы ее дочь.
— Неужели?
— Честное слово. И вообще, вы с ней такие разные.
— Правда?
Лицо Мейбл разгладилось и посветлело: словно солнце заглянуло в чулан, и горшки и кастрюли разом заблестели.
— Не то слово! — воскликнула я, чувствуя, что иду верным путем. (Разумеется, бедняжка любила маму, только, как бывает у дочерей, к этой любви примешивалось тайное желание как можно сильнее от нее отличаться.) — Судя по всему, в отличие от нее, вы не склонны набирать вес, а что касается характера — в некотором смысле вы далеки друг от друга, как день и ночь!
— О, я легко поправляюсь. — Мейбл была не в силах не противоречить. — Если тщательно не слежу за питанием. Но мне и впрямь кажется, что у нас с мамой разные характеры.
— Именно! А ведь это скорее исключение! Взять, к примеру, Энни и Сибил…
— Ох, Сибил! — Мейбл подняла глаза к потолку.
— Да уж, она — сущее наказание, — согласилась я. — Эти ужасные рисунки…
Мейбл с отвращением тряхнула головой. Как позднее выяснилось, она считала нужным пойти в школу к Сибил и разобраться, не попала ли та под чье-то влияние. Девочка училась в смешанном классе, куда набрали, по мнению Мейбл, весьма неотесанных мальчишек. Правда, поскольку летом учителя и ученики разъехались, с проверкой пришлось подождать.
— И как только Нед ухитряется сосредоточиться на работе? — спросила я. — С тех пор как начались каникулы, Сибил часами сидит у него в мастерской.
— Да, я знаю! Мы пытаемся ее выставлять, особенно я.
— Когда я была маленькой, то не смела и шагу ступить в кабинет отчима.
— Само собой! Для работы мужчине необходима тишина.
— Помню, однажды, примерно в возрасте Сибил, я пробралась туда, пока отчим с матерью были наверху. У него была коллекция калейдоскопов, и мне до смерти хотелось взглянуть. Я на цыпочках подкралась к полке и взяла калейдоскоп, и тут внезапно услышала шаги: отчим спускался в кабинет.
— О господи, — выдохнула Мейбл.
— Да, у меня душа в пятки ушла! Я с грохотом уронила калейдоскоп, и у него откололся кусочек эмали. Когда отчим вбежал в кабинет и увидел, что я натворила, он размахнулся и ударил меня кулаком в живот, совсем как взрослого мужчину. Удар был такой сильный, что я взлетела в воздух и врезалась в окно. Должно быть, смешно это выглядело.
— Боже правый!
— К счастью, стекло не разбилось. Я приземлилась на обе ноги и что есть духу бросилась прочь из кабинета.
Мы рассмеялись.
— Вот такая история, — продолжала я. — Я не держу на отчима зла, да и много лет не вспоминала о том происшествии, так что вряд ли оно мне повредило. Но, сами понимаете, я больше никогда не приближалась к его кабинету. Отчим мог курить сигары в тишине и предаваться великим мыслям о делах, и ему никто не мешал.
— И правильно.
— Кстати, о курении… — Я вынула из пачки сигарету и прикурила. Мейбл, которая никогда раньше не видела меня курящей, натужно расхохоталась. Гордость не позволяла ей показать изумление и растерянность, и она изобразила бурное веселье.
— Гарриет, вы курите?!
— Да, уже много лет. А недавно обнаружила, что сигарета отлично сочетается с кофе. И, кстати, она притупляет чувство голода, так что можно не обедать.
— Вот как, — отозвалась Мейбл и с удвоенным интересом посмотрела на пачку.
Я выпустила длинную струйку дыма.
— Конечно, я ни в коем случае не предлагаю надрать Сибил уши, но, быть может, ее нужно урезонить более твердо.
— Совершенно верно, — согласилась Мейбл. — Я всегда считала, что ей нужна твердая рука. Кто-то должен поставить ее на место.
В отличие от Мейбл, мать Неда, которая, без сомнения, наслаждалась ролью бабушки, была склонна баловать детей. Разумеется, сама Элспет жить не могла без внимания, но ей нравилось демонстрировать, как она обожает девочек, и особенно Сибил, которая — как первенец и, пожалуй, более красивый ребенок — была ее любимицей. Возможно, Элспет чувствовала вину за то, что уделяла мало времени собственным детям, и потому чрезмерно потакала внучкам. Она постоянно хлопотала над Сибил — обнимала, целовала, восторженно вскрикивала, — понимая, что умилительная картина «бабушка с внучкой» непременно вызовет всеобщее восхищение. Конечно, восторженные взгляды были в основном обращены на девочку, но Элспет хватало «отраженного сияния». И само собой, она никогда не бранила Сибил и делала все возможное, чтобы угодить внучке.
Энни же, напротив, пыталась быть твердой с дочерью, но той достаточно было закатить долгую безобразную истерику, чтобы добиться своего. Нед чаще жены шел у Сибил на поводу, и, к сожалению, родители нередко противоречили друг другу. Например, Энни могла весь день запрещать Сибил сладости, а потом Нед угощал дочь конфетами, чтобы унять слезы. Энни прилагала все усилия, чтобы выдворить девочку из мастерской, но художник поддавался мольбам и впускал Сибил; она тут же принималась скакать по комнате, как блоха, донимая отца. Неудивительно, что, хотя Нед прекрасно умел сосредоточиться, Сибил с легкостью отвлекала его от работы.
Брат Неда, Кеннет, похоже, пребывал в блаженном неведении относительно Сибил. В его присутствии она становилась совершенно неуправляемой — подозреваю, девочка испытывала к дяде детскую влюбленность. Когда он приходил в гости, Сибил буйствовала, а если он, на свою беду, заговаривал с кем-то другим, она начинала лихорадочно прыгать вверх-вниз, выкрикивая «Кеннет! Дядя Кеннет! Кеннет!», пока не добивалась его внимания. Она всегда с нетерпением ждала встречи с ним, однако брат Неда не отличался обязательностью. После работы он шатался по кафе и барам в парке и частенько не выполнял обещания навестить племянницу. Весь вечер она проводила в мучительном ожидании, а сообразив, что он не явится, впадала в уныние. Затем начинала капризничать и хныкать по любому поводу и вскоре устраивала очередную мерзкую выходку.
Если бы мы могли хоть на миг представить, что ждет нас в будущем, то, вероятно, успели бы принять меры вовремя. После нашего разговора за чашкой кофе Мейбл пыталась убедить Энни держаться с Сибил пожестче и даже предложила показать девочку какому-нибудь специалисту по нервным болезням. Однако Энни, судя по всему, испугалась подобной перспективы и попросила невестку больше ничего не говорить на эту тему, особенно Неду — чтобы не отвлекать его от работы над картиной для Комитета изящных искусств. Таким образом, вопрос о перевоспитании Сибил временно отложили.
Я же, в силу недавнего знакомства с семьей, считала неуместным советовать Гиллеспи, как обращаться с дочерью, и потому держала свои мысли при себе, но, по-моему, самое дурное влияние на Сибил оказывал Кеннет. Он с таким упоением приводил девочку в перевозбужденное состояние, что порой я задумывалась, не он ли научил ее рисовать гадости на стенах.
6
Мой интерес к Кеннету зародился в один прекрасный день, когда я позировала в гостиной. Нед по-прежнему работал над «Восточным дворцом» у себя в мастерской, а Энни отправила девочек поиграть в сквер за углом, на Квинс-Кресент. Портрет был близок к завершению: закончив юбки, Энни приступила к самому сложному — мелким деталям лица и рук. Работа шла в полной и такой непривычной для меня тишине, как вдруг в дверь позвонили. Горничная Кристина, которая каким-то чудом оказалась дома, впустила гостя — Уолтера Педена, явившегося навестить Неда. Прежде чем подняться в мастерскую, он по обыкновению задержался в гостиной и поделился неожиданной новостью.
Карикатурист Мунго Финдли собирался изобразить Неда. На протяжении всей Выставки Финдли публиковал серию шаржей на местных художников в еженедельнике «Тисл». В основном карикатуры были довольно безобидными, однако несимпатичных ему персонажей он высмеивал особенно зло. Например, с Лавери Финдли обошелся весьма жестоко — и дело даже не в нарочитом искажении лица, а в глумлении над его напыщенностью. По словам Педена, карикатура на Неда была пока не закончена; ее собирались напечатать в середине августа. С одной стороны, попасть в «Тисл» — честь для художника, признание определенных заслуг на поприще шотландского искусства. Сам факт, что Нед оказался достойным шаржа, уже был немалым достижением. Тем не менее многое зависело от благосклонности карикатуриста. Едва ли август был выбран случайно: спустя несколько дней после выхода еженедельника Комитету предстояло назвать имя королевского портретиста, и Нед мог пострадать, если Финдли изобразил бы его в невыгодном свете.
Педен узнал новость от друга, который приятельствовал с Мунго Финдли — или «стариной Финдли-Биндли». Насколько мне известно, они в жизни не встречались, однако Уолтер всегда сочинял забавные прозвища для едва знакомых людей, как бы подчеркивая, что он с ними на короткой ноге. Например, меня он упорно называл «Хетти».
— Нед на рисунке не один, — заявил Педен. — Там еще Кеннет.
— Кеннет?! — воскликнула Энни. — Я думала, это карикатуры на художников.
— В этот раз не совсем — на художника и его брата.
Энни нахмурилась.
— А подпись есть? Какая?
Подозреваю, что Педен затанцевал бы вокруг нее, если бы не лежал, вытянувшись на диване, куда рухнул, едва переступив порог. Вместо этого он повел плечами и многозначительно постучал себя по носу, откровенно упиваясь ролью гонца, приносящего важные вести.
— Как же! Старина Финдли-Биндли держит ее в строжайшем секрете.
— Но при чем тут Кеннет?
Настойчивость Энни ни к чему не привела: Педен был недостаточно осведомлен. Его друг не видел карикатуры, только слышал, как Финдли хвалился и делал туманные намеки, будто присутствие Кеннета на рисунке прольет свет на некую скандальную историю. Интересно, в чем замешан брат Неда? Мысленно я перебирала возможные варианты: роман — быть может, даже с замужней дамой? Рулетка? Опиум?
Похоже, Энни тоже была обеспокоена.
— Можно увидеть рисунок до выхода газеты?
— Сомневаюсь. Обычно Финдли не любит ничего показывать до публикации. Нужно собраться с силами и подождать, миссис Ги. В следующем месяце все узнаем.
— Какая таинственность… — произнесла я.
— Вы правы, Хетти! Ну, таков уж Финдли-Биндли. Никогда не угадаешь, что еще выкинет этот старый плут.
Энни вздохнула и закусила губу. И без того измученная проделками Сибил, она была выбита из колеи глупыми загадками. Надо было Педену держать язык за зубами!
— Верно ли я понимаю, Уолтер, — обратилась я к нему, — что обычно, когда нет Выставки, вы уезжаете из Глазго на все лето и возвращаетесь только зимой?
— Совершенно верно. Я привык проводить лето в Кокбернспате или Киркубри. А почему вы спрашиваете?
— Просто так, — беззаботно отозвалась я.
Без сомнения, Педен сходил с ума от скуки и потому стал еще более назойливым пустозвоном. Мне приходило в голову, что ему следовало бы жениться, но Уолтер был до того неловок с женщинами, что едва ли мог рассчитывать на семейное счастье. Наконец он отправился наверх, к Неду. Энни все еще хмурила лоб — с тех самых пор, как прозвучало имя Кеннета. Взяв кисть, она принялась водить ею вверх-вниз, притворяясь, что наносит краску на холст.
Получше узнав семью, я заметила, что Энни довольно близка с деверем. В отличие от мужа, Кеннет был ей ровесником — всего на три месяца старше, — и они вечно вели себя, как заговорщики: то обменивались многозначительными взглядами, то хихикали в кулак каким-то шуткам, ведомым только им одним. Новости о Кеннете и карикатуре явно расстроили Энни. Но почему? Что такого ей известно, чего не знают остальные?
В надежде растормошить ее я сообщила, что недавно видела Кеннета на Выставке в дурном расположении духа. Я немного покривила душой — на самом деле он шел по тропе вдоль реки и с безмятежным видом швырял в воду камешки. Просто мне хотелось разговорить Энни.
— Так странно, — сказала я. — Прошел мимо и даже не глянул на меня. Похоже, он был глубоко погружен в раздумья. Интересно, о чем?
— Наверное, не заметил вас, — отозвалась Энни.
— Он казался почти испуганным. Ему свойственны перепады настроения?
— Вроде бы нет.
— Кеннет зашел в «Какао-хаус» — он часто туда заглядывает, поболтать с официантками.
Энни пожала плечами.
— Боже правый! — воскликнула я. — Уж не в этом ли его секрет?!
Она опешила.
— Что вы имеете в виду?
— Тайный роман — с одной из девушек в «Какао-хаусе»!
Энни рассмеялась и, чуть порозовев, наклонилась к холсту так, что он закрыл ее лицо. Я не отставала.
— Что, если они были слишком беспечны, и теперь она беременна…
— По-моему, нас это не касается, — сказала Энни и внезапно закончила сеанс, сославшись на усталость.
На следующий день мы с Элспет отправились в закусочную «Генерал Гордон». Там она угостила меня обедом с индийским карри, которым угрожала накормить с того самого дня, как я спасла ее от удушения собственной челюстью. За чередой жгучих и пряных блюд я осторожно попыталась заговорить о Кеннете и его образе жизни; однако в тот день мать Неда интересовала лишь одна тема — государственный визит и портрет королевы. Элспет где-то слышала, что, по замыслу заказчиков, кроме ее величества на полотне будут присутствовать еще двести пятьдесят местных сановников, среди которых, без сомнения, почетное место займут сами члены Комитета изящных искусств. Вдова Гиллеспи обожала о чем-нибудь переживать, а более подходящего повода было не найти.
— Две с лишним сотни лиц, Герриет! И всех нужно изобразить точно.
— Да, немало, — согласилась я. — Если Нед получит заказ, может, Кеннет его выручит? Кеннет умеет рисовать? Или у него другие таланты? Прошу вас, расскажите о нем.
— Кеннет? Да ну, какой из него художник? Нет, Неду придется все делать самому, он и на смертном одре никому не уступит свою работу. Разумеется, писать портрет ее величества — это честь, но двести пятьдесят пар усов, все при полном параде и мечтают попасть на картину!
Мы обе согласились, что такие масштабные полотна часто представляют интерес с точки зрения истории, а не великого Искусства. Тем не менее заказом от королевской семьи нельзя пренебрегать, ведь кто угодно — от жены мясника до баронета — заплатит бешеные деньги, чтобы его физиономию запечатлел портретист ее величества; даже полдюжины таких полотен в год позволят Неду жить безбедно и в остальное время работать для души. Здравый смысл подсказывал Элспет, что подобный заказ может стать переломным моментом в карьере ее сына, и она с жаром болела за него. Правда, совершенно не разбираясь в мире искусства, она рассуждала о способах достижения цели весьма странным образом.
— Ему нужно получить рекомендацию от своего банковского управляющего. Или пусть за него похлопочет кто-то более высокопоставленный — лорд-провост Глазго! Сэр Джеймс Кинг… нет, я придумала. Не лорд-провост, а сама королева. — Элспет стукнула кулаком по столу. — Нед должен показать королеве свои картины, и она лично порекомендует его для портрета.
— Да, — сказала я. — Но, пожалуй, встречу с королевой непросто устроить. А Кеннет? У него есть связи в высших кругах — например, среди клиентов лавки?
Элспет покачала головой.
— Ох, у Кеннета нет связей. Нет, думаю, Неду следует написать вежливое и изысканное письмо королеве. Или нет. Может, нужно, чтобы лорд-провост написал королеве от имени Неда. Точно.
И так до бесконечности — несмотря на все мои ухищрения, о Кеннете ничего выпытать не удалось.
Закончив обед, Элспет немедленно умчалась, а я — поскольку мне некуда было спешить — вдруг решила заняться вязанием. В поисках принадлежностей для своего нового увлечения я заглянула в «Шерсть и чулки» на Грейт-Уэстерн-роуд. Разумеется, это была лавка Гиллеспи, где работал брат Неда, и, несмотря на искреннее желание взяться за спицы, признаюсь, что в моем решении присутствовал и другой тайный мотив. Я хотела увидеть Кеннета на его территории, вне семейного круга. К несчастью, не обнаружив его в лавке, я была вынуждена пуститься в длинное обсуждение спиц и пряжи с его напарницей, мисс Макхаффи — невыносимо услужливой пожилой дамой. Я надеялась на внезапное появление Кеннета, однако он так и не явился. Решив, что у него выходной, я сделала покупки и попрощалась.
Впрочем, мне пришло в голову, что, понаблюдав за братом Неда пристальнее, я узнаю, где он бывает, и, возможно, раскрою его тайну. Как говорится, praemonitus, praemunitus[3].
Итак, в последующие несколько дней я не спускала глаз с Кеннета, впрочем, не нарушая привычного образа жизни. Распорядок его был весьма однообразен: в половине девятого он шел на работу и открывал лавку в девять; обедал в половине третьего, как правило, в кафе «Бачелорс» в парке; ровно в шесть закрывал лавку и возвращался на Стэнли-стрит, иногда заглядывая в квартиру номер одиннадцать поиграть с Сибил и Роуз, затем шел ужинать к матери; потом он чаще всего возвращался в парк выпить в баре. Похоже, он подружился с работниками Выставки, и, как только парк закрывался на ночь, Кеннет исчезал в таверне «Каледониан» с компанией разнообразных приятелей. На мой взгляд, в его поведении не было ничего подозрительного. Он пропадал в питейных заведениях, а не в притонах, где курят опиум. Выпивал, но не более, чем свойственно людям его возраста и происхождения. Наконец я задумалась, не кроется ли тайна Кеннета в прошлом. Однако, как вскоре выяснилось, развязка не заставила себя долго ждать.
В субботу вечером, проведя несколько приятных часов на Выставке, я направилась к дому. Мне хотелось прогуляться вдоль реки к северу, перейти мост Принца Уэльского, подняться к живописному кольцу домов, павильонов, башен и шпилей Вудленд-Хилла — настоящему королевскому венцу Глазго, откуда открывалась великолепная панорама города, — и, наконец, спуститься в Квинс-Кресент, который на фоне Вудленд-Хилла выглядел скромной тиарой. Сгущались сумерки, но благодаря чуду электричества все было отлично видно. В огромных окнах Восточного дворца горел яркий свет, к востоку и западу простирались мерцающие огни города, заводов и верфей. В воздухе витал запах дыма из Павильона технических новинок, слышался рокот динамо-машин, бесперебойно работающих до закрытия Выставки. До этого дня было еще далеко, и публика, как обычно, стекалась к Волшебному фонтану, радужные струи которого сверкали в небе и затейливо отражались в реке.
Подходя к центральному мосту, я заметила Кеннета Гиллеспи. Удивительное совпадение — я как раз думала, нет ли его в парке. Кеннет выходил из курильни «Хауэллс» в сопровождении высокого типа в черной широкополой шляпе, в котором я узнала младшего из гондольеров. Они стояли совсем близко, и я запросто могла окликнуть Кеннета, но было поздно, я устала и потому сделала вид, будто смотрю в окно курильни, чтобы остаться незамеченной. Приятели наверняка направлялись в «Каледониан». Они прошли по тропе к реке, болтая, на минуту задержались у киоска с шоколадом, но я была слишком далеко и не слышала слов. Судя по всему, гондольер почти не говорил по-английски. Интересно, как он объяснялся с местными?
Поблизости вспыхнула спичка — полный мужчина остановился прикурить сигару на пороге «Хауэллс», затем двинулся через мост, оставляя за собой манящий кисловатый шлейф дыма. Я и сама мечтала о сигарете, но сейчас было не до того. А пока я любовалась через окно курильни на уставленные товаром полки и узорчатые зеркала. Внутри было нарядно и уютно, и, казалось, запах табака через стекло сочился мне навстречу. Из зала спустились две служанки, очень хорошенькие, в накрахмаленных передниках и белых чепчиках. Какой-то джентльмен, опершись локтем на стойку, флиртовал с девушкой. Я снова вспомнила о гондольере. Местные прозвали двух венецианцев «синьоры Ваниль и Карамель», поскольку для жителя Глазго любой итальянец непременно ассоциируется с мороженым и сладостями. Нед неоднократно рисовал гондольеров. Я находила эти картины весьма вычурными, но Педен все время подначивал его продавать их как сувениры с Выставки. Я была невысокого мнения о взглядах Уолтера на искусство и про себя придумала о нем скороговорку (Педен — педант, портретист попугаев, прилипала, позер и попрыгун) и надеялась, что Нед не поддастся его влиянию.
Словом, мои мысли рассеянно блуждали. Спустя несколько мгновений я вновь отвернулась от окна и с удивлением обнаружила, что Кеннет с гондольером исчезли. Я посмотрела по сторонам. Никого. Я отправилась на то место, где они только что стояли, и вгляделась в кусты — снова никого. Беспокоясь, не приключилась ли с ними беда — ведь уже совсем стемнело, — я рискнула пойти к реке. Кое-где берег круто обрывался вниз, и приходилось шагать крайне осторожно. Убедившись, что на восточной стороне пусто, я направилась к первому мосту, надеясь, что они спустились к реке побросать камешки, покурить или еще по каким-то мужским нуждам.
Можете ли вы представить, что за зрелище открылось мне в тени под невысоким мостиком? Во-первых, я и сама не сразу поняла, как его расценивать. Во-первых, мужчины дрались. Синьор Карамель, по-видимому, напал сзади и хитростью одолел противника: улегшись на Кеннета, он обхватил его рукой за шею и прижимал его к земле так, что тот глухо стонал. Почуяв опасность, я собиралась было закричать, как вдруг осознала, что на самом деле между молодыми людьми происходит вовсе не ожесточенная борьба, а некий акт совершенно иной природы; итальянский лодочник, как теперь говорят, «катался с Кеннетом на качелях».
Поймите меня правильно: я не слишком трепетна и ничего не имею против актов любви, древних греков и тому подобного. Я беспокоилась тогда лишь о своем новом друге, художнике Неде Гиллеспи. Его брата интересовали вовсе не девушки из «Какао-хауса»; Кеннет избрал себе иную стезю. Если именно эту скандальную новость «старина Финдли-Биндли» собирался отразить в своей карикатуре, нам грозила настоящая катастрофа. Видите ли, добропорядочные граждане Глазго никогда не отличались толерантностью, особенно по отношению к «голубым», «содомитам» или первертам (или как их там называют в современной терминологии). Страшно было представить, что станет с репутацией Неда, его будущим и шансами на победу в конкурсе портретистов, если безрассудное и неподобающее поведение его брата разоблачат в номере «Тисла».
На следующий день, явившись на Стэнли-стрит позировать, я обнаружила распахнутую входную дверь, а на лестнице встретила Неда с мольбертом под мышкой. Как выяснилось, Комитет изящных искусств наконец объявил дату приема полотен. После краткого закрытого просмотра члены Комитета удалятся из зала, чтобы выбрать будущего автора портрета королевы. Просмотр был назначен на пятнадцатое августа — спустя лишь несколько дней после выхода газеты с карикатурой Финдли. Мысль о том, какой непристойный образ возникнет в голове у критиков при виде работы Гиллеспи, наполняла меня ужасом.
— Не уверен, что успею закончить «Восточный дворец», — произнес Нед, опустив мольберт на пол. — Наверное, я представлю на конкурс одну из картин с гондольерами.
— С гондольерами? Нет, ваш «Восточный дворец» гораздо больше подходит для конкурса. — Я улыбнулась, пряча тревогу. — Когда напечатают этот жалкий вздор?
Нед непонимающе уставился на меня.
— Вы о чем?
— Ну как же — о карикатуре Финдли в «Тисле».
— А, это, — рассмеялся он. — Понятия не имею.
— Вы хоть что-нибудь разузнали о ней?
— Нет, ничего. — Он с улыбкой покачал головой. — Педен говорит, я там с Кеннетом — любопытно.
По его беззаботному тону было ясно, что он не имеет ни малейшего представления о наклонностях брата.
— Вам нужно сосредоточиться на конкурсе, — сказала я. — Если Комитет увидит ваш «Восточный дворец», держу пари, за вами будут гоняться с чеком прежде, чем подогреют херес. Это чудесная картина, как раз для такого случая — монументальное здание, фигуры, волшебные цвета — все указывает на то, что именно вы должны писать королевский портрет.
Нед озадаченно хихикнул.
— Но, простите, Гарриет, вы же не видели картину.
— Верно, не видела, но слышала от Энни, что это — одна из лучших ваших работ.
— Ну, не знаю…
— Конечно, «Гондольеры» неплохи, хотя и не раскрывают всю глубину вашего таланта.
— Что ж, посмотрим. Ладно, я сейчас иду в парк — сделать несколько эскизов.
— У вас эскизов хватает. Вы закончите «Восточный дворец» за пару дней, если серьезно возьметесь за дело.
Нед с сомнением взглянул на меня и тихонько засмеялся. На верхней площадке появилась Энни — видимо, услышала наши голоса на лестнице. Перегнувшись через перила, она хмуро посмотрела вниз.
— А, это вы, Гарриет. Я вас заждалась.
— Бегу, — сказала я. — Мы с Недом обсуждали его картины.
— Пора перейти к нашей, вы не находите? Вас, наверное, обрадует, что мы почти закончили.
— Правда? Я думала, осталось еще много, например руки…
— Нет, — коротко сказала Энни. — Думаю, я почти готова. Еще несколько сеансов, и все. — Она посмотрела на Неда, задумчиво стоящего рядом со мной. — Дорогой, ты идешь?
Художник замялся.
— Не знаю… Вообще-то, я передумал. Пожалуй, вернусь в мастерскую. — С этими словами он взял мольберт и кивнул мне. — Спасибо, Гарриет. Уверен, вы правы. Наверное, мне стоит взяться за дело и хотя бы попробовать закончить «Восточный дворец». Прошу.
Нед подал мне руку и повел по лестнице перед собой. Признаюсь, я была польщена, что он последовал моему совету.
Тем не менее вопрос с карикатурой оставался нерешенным. Я чувствовала, что из этой кошмарной истории есть выход, но пока не могла ничего придумать. У Гиллеспи и так было туго с деньгами. Если после публикации сомнительного шаржа Нед лишится заказов, семья пострадает еще сильнее. Я попыталась отогнать жуткое видение: Нед с детьми, одетые в лохмотья и просящие милостыню на Бьюкенен-стрит. Конечно, я надеялась, что до этого не дойдет. Но как остановить Мунго Финдли?
Проведя ночь в бесплодных раздумьях, я решила, что должна увидеть карикатуру своими глазами. Я написала Финдли письмо с пометкой «срочно», притворившись, будто хочу заказать у него портрет, и в воскресенье утром лично доставила конверт в новое, в итальянском стиле здание на Уэст-Джордж-стрит, где располагалась редакция «Тисла». В ответ я надеялась получить приглашение в мастерскую, правда, еще не решила, что буду делать дальше. Почему-то я представляла Финдли неряхой, повсюду бросающим свои работы, и предполагала, что рисунок с Недом и Кеннетом может валяться на виду. Мне хватило бы и беглого взгляда, чтобы оценить, насколько он опасен, и при необходимости я была готова задействовать весь свой дар убеждения, чтобы оградить друзей от скандала.
Судя по всему, Финдли зачем-то заходил в редакцию в воскресенье, потому что ответ я получила в понедельник утром. Он сообщал свой адрес и приглашал к себе домой во вторник, в три часа. Конечно, я предпочла бы встретиться раньше — во вторник после обеда меня ждал сеанс с Энни. Вдобавок, неизвестно, почему Финдли явился в редакцию в выходной. А вдруг он оставил там законченную карикатуру? Не желая казаться торопливой, я написала, что принимаю приглашение, и приготовилась ждать.
Нет нужды подробно описывать встречу со «стариной Финдли-Биндли». В его доме на Смит-стрит-саут, хоть и довольно просторном, было грязно, сыро и затхло, неопрятный красноносый слуга выглядел так, будто несколько дней провалялся пьяным в канаве, да и сам художник оказался весьма неприятным типом. Мастерская находилась в глубине дома, в комнате с большими окнами. Там было на удивление пустынно: папка на столе, дюжина полотен у стены и ничего похожего на карикатуру. Боюсь, я плохо скрывала нетерпение, пока Финдли расставлял картины — в основном бездарные натюрморты с фруктами и тушками фазанов, годные разве что для росписи чайных подносов.
Таким образом, завладеть карикатурой оказалось не так-то просто. Чтобы убедить Финдли покинуть мастерскую, мне пришлось сделать вид, будто я слышала грохот в коридоре. Недоверчиво хмыкнув, он вышел, и я бросилась к портфолио. Понимая, что времени в обрез, я потянула за тесемки и распахнула папку. По счастью, на самом верху стопки рисунков лежала пресловутая карикатура.
Полагаю, спустя столько лет я могу позволить себе привести описание. Финдли изобразил братьев Гиллеспи в мастерской. Нед стоял у мольберта рядом с картиной «У пруда». Он выглядел весьма несчастным, быть может, из-за соседства с братом, одетым в нижние юбки и капор. Щеки Кеннета были нарумянены, над губой красовалась мушка. В одной руке он держал платье, а другой дергал Неда за полу куртки. Рисунок назывался «Вонючка и брат», а ниже, в рифму с заголовком, располагалось восклицание Кеннета: «Недди, милый, как тебе наряд?»
Достойный завершающий штрих, что и говорить.
Вернувшись, Финдли всем своим видом демонстрировал недовольство.
— Мэм, похоже, вам послышалось. Я ничего не… — Он осекся, заметив открытую папку и карикатуру, которую я не потрудилась спрятать — зачем, если я пришла поговорить о ней? Унылое выражение на его лице сменилось яростью. — Простите! Какого дьявола?..
Превозмогая отвращение, я принялась умолять его не публиковать столь оскорбительный сюжет. На мой вопрос, не боится ли он клеветой повредить собственной репутации, Финдли заявил, что готов к любым последствиям. Когда я заметила, что рисунок чересчур фривольный для «Тисла», он сообщил, что уже договорился с редактором и что карикатура почти готова и будет напечатана тринадцатого августа — «к несчастью для Вонючки». Далее, ввиду безразличия Финдли, мне пришлось взывать к его совести, ссылаясь на бедных детей Неда, которых будет нечем кормить, но, увы, он оставался глух. Более того, убедившись, что я не собиралась заказывать портрет, он обвинил меня в незаконном проникновении в дом и пригрозил полицией (полная нелепость, учитывая соотношение сил). Я поступила так, как надлежит поступать другу, любой ценой намереваясь спасти Неда от публичного унижения. По некоторым признакам я догадалась, что Финдли был беден и ни за что не желал лишиться дохода от своих карикатур. По-видимому, единственный путь к его сердцу лежал через денежное возмещение. Так и случилось: в результате долгих переговоров карикатурист согласился уничтожить проклятый рисунок. В моем присутствии он бросил листок в камин, и я лично видела, как он сгорел дотла.
Как говорится, «деньги — универсальный довод».
Полагаю, старина Финдли не был законченным негодяем. Несмотря на свои недостойные замашки, спустя годы, отвечая на вопросы «журналиста» Брюса Кемпа, он не сказал обо мне ничего дурного, только назвал «любопытной заразой», а ведь мог наговорить выдуманных гадостей (как другие!). Пожалуй, в чем-то мне следует быть ему благодарной, и все же я никогда не прощу ему попыток насолить Неду и его семье.
Старина Финдли-Биндли.
Если вдуматься, он ведь наверняка давно умер. Иногда я невольно чувствую себя последним кряжистым деревом в древнем лесу; собратья послабее рассыпались в труху и сгинули в зловонной трясине, а оно упрямо возвышается над всеми, бросая вызов смерти.
Я не видела причины посвящать в эту историю знакомых. В моем понимании вопрос был закрыт. Впрочем, в последующие две недели меня ни на миг не покидала смутная тревога; из головы не шло, что Финдли каким-то образом сжульничал. Что касается Неда, похоже, он не принимал всерьез перспективу быть осмеянным в «Тисле», лишь немного стеснялся пристального внимания к своей персоне. Он целиком и полностью сосредоточился на том, чтобы закончить «Восточный дворец» в срок. Зато Энни нервничала и, подозреваю, с ужасом ждала выхода карикатуры, хотя за все время ни разу не заговорила о ней. Я бы с радостью успокоила бедняжку, но тогда пришлось бы сознаться, что я случайно открыла тайну Кеннета, а подобная тема едва ли годилась для вежливой беседы.
Помимо карикатуры Финдли, Энни угнетала необходимость следить за детьми с утра до вечера. Сибил недавно испортила берлинскую вышивку, которой очень дорожила Мейбл, и, видимо, эта гадкая выходка стала последней каплей для Энни. Ее волосы были заколоты еще небрежнее, а во взгляде появилась какая-то обреченность, покорное ожидание новой катастрофы.
Поскольку портрет был почти готов, во время наших сеансов Энни наносила последние штрихи на руки и лицо, но постоянно делала ошибки и вынуждена была их исправлять. Казалось, ее мысли блуждают где-то далеко. По правде говоря, меня радовала рассеянность Энни, ведь в результате завершение работы все время откладывалось. Я полюбила бывать у Гиллеспи и понимала, что скоро мне будет не хватать сеансов позирования.
Тринадцатого августа я проснулась до рассвета от сильного сердцебиения. Не помню, снились ли мне кошмары, но наяву я содрогнулась от ужаса: а вдруг Финдли нарисовал новую карикатуру на Неда и Кеннета, точную копию первой? Он вполне мог сдать ее редактору, как и планировал. Пугающая картина вырисовывалась в моем мозгу все отчетливее, и, когда в комнату стали проникать рассветные лучи, я окончательно уверилась, что Финдли заранее готовил этот обман. Да, по моей просьбе он уничтожил рисунок — точнее, разыграл фарс, чтобы избавиться от меня. Я буквально видела, как он хихикает себе под нос, воспроизводя карикатуру в мельчайших подробностях!
Свежий «Тисл» должен был поступить в продажу этим утром. Рассудив, что раньше всего газета попадет в лавки по соседству с редакцией, я решила прогуляться в город. Толком не зная, в котором часу доставляют прессу, я с трудом дождалась десяти часов и направилась по Сакихолл-стрит, чтобы в случае чего дойти до Центрального вокзала. К счастью, я вскоре набрела на кондитерскую, где продавались газеты, и сквозь тусклое окошко увидела на прилавке небольшую стопку «Тисла». Купив газету, я выскочила на улицу и дрожащими пальцами стала листать страницы.
Конечно, многим безразлична провинциальная напыщенность «Нашего брюзгливого критика», однако я все же заглянула в колонку «Изящные искусства» (слава богу, ни слова о Неде или Кеннете) и наконец открыла девятую страницу, где обычно печатали карикатуры Финдли. И вот она, еженедельная иллюстрация: мистер Кроухолл в образе тощего угрюмого пугала, окруженного голубями и воронами. Я пролистала газету вдоль и поперек, не в силах поверить, что Финдли сдержал свое слово, но нигде не нашла ни шаржей, ни упоминания о Неде Гиллеспи и его брате.
Наверное, следовало испытать облегчение, но вместо этого я мгновенно изобрела новую опасность: а вдруг карикатуру опубликуют в одном из будущих номеров «Тисла» или в другой газете? Кроме того, если Финдли знает тайну Кеннета, о ней вполне могли слышать и другие.
После обеда я обещала позировать Энни, однако раздумывала, не отменить ли встречу. Неважно, видели ли Гиллеспи свежий «Тисл», кто-то может заговорить о карикатуре, а я боялась покраснеть и выдать себя. Однако отменять встречу в последний момент было неловко, поэтому, набравшись решимости не вступать в разговоры о Финдли, в условленные два часа я отправилась за угол, в дом номер одиннадцать. День выдался теплый и солнечный, на небе не было ни облачка. Я застала Энни одну с детьми. Нед ушел в Художественный клуб руководить размещением своих работ на просмотре, назначенном на этой неделе, а горничная Кристина выпросила выходной, чтобы навестить якобы захворавшую мать.
В тот день нездоровилось еще кое-кому. Когда я пришла, Роуз спала наверху, а Сибил лежала на диване в гостиной, укрытая одеялом. Неподалеку стояла пустая миска. Девочка была одета в тонкую сорочку, а в руке держала зеркальце. Она была еще бледнее обычного, под глазами легли лиловые тени. Когда я вошла, Сибил недобро взглянула на меня исподлобья и вновь отвернулась.
— Бедняжка, — сказала Энни. — Ее опять тошнит.