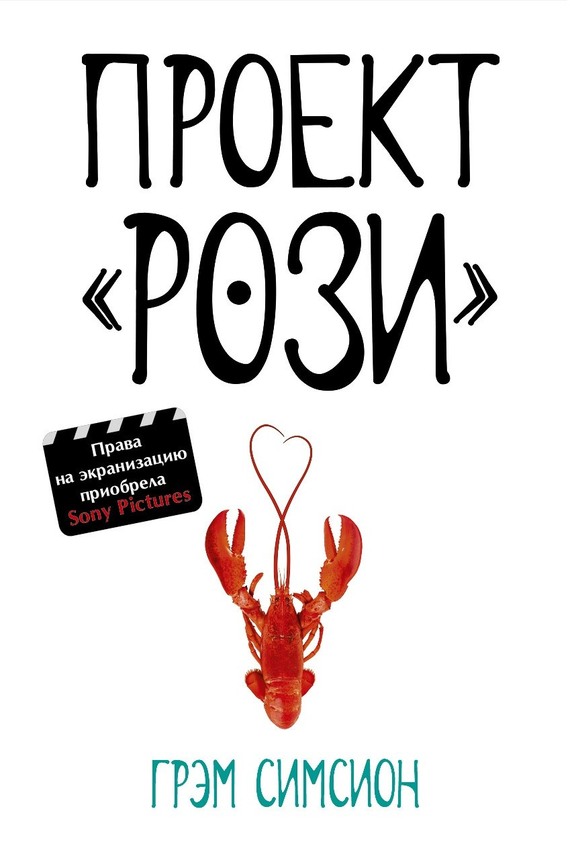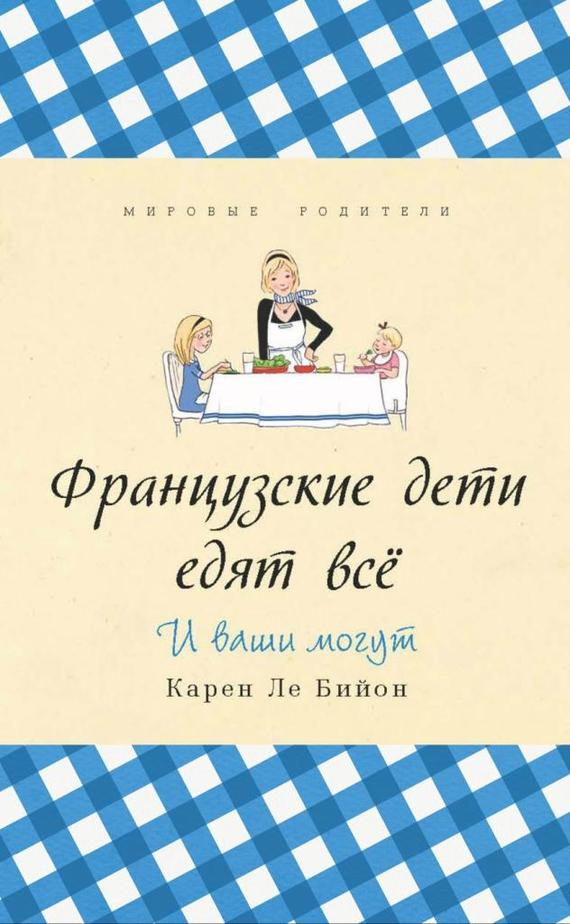Гиллеспи и я Харрис Джейн

— Вы меня утешили.
Тем не менее родство со свиньями, кошками и крысами стало для меня более чем неприятным сюрпризом. Деррет же, напротив, воодушевился.
— Имейте в виду, — мечтательно проговорил он, — несколько столетий назад вас бы наверняка сожгли на костре.
— О!
— Родинки — признак ведьмы. — Он потрогал одну «родинку» пальцем и начал обеими руками мять мой живот. — Теперь посмотрим, что с пищеварением… расслабьтесь…
Признаюсь, его комментарии совершенно не помогали расслабиться. Напротив, я не на шутку рассердилась. Вдобавок он совсем не ласково тыкал мне в живот и вообще выглядел крайне самодовольным. В завершение Деррет заявил:
— Я возьму у вас кровь на анализ, но несварение в вашем возрасте — обычное дело. Вам повезло, что вы вообще способны есть — что у вас есть зубы. И я обнаружил небольшое вздутие живота.
Это была последняя капля.
— Глупости, — возмутилась я. — На завтрак я съела сдобную булочку. От сдобы я всегда раздуваюсь, как футбольный мяч.
Деррет почему-то запрещает мне пить и курить, но он не думает, что это за жизнь — без сигарет и лишнего тирамису? Вдобавок я не могу уснуть без стаканчика виски и веронала (трехмесячный запас которого я только что получила у Деррета). По его словам, мои ноги ноют из-за артрита, и поэтому мне показана физическая активность. Измученная приемом, я решила не идти в музей и отправиться домой. Лифт в современных домах — ненадежное изобретение: тесное, как гроб, и тоже с дубовыми стенами, меня туда не заманишь. Я решила подняться пешком — всего пять этажей, не какой-нибудь небоскреб, можно переводить дух на лестничных площадках. К тому же Деррет велел мне больше двигаться.
Во время восхождения по лестнице я услышала где-то наверху мелодичные переливы: играли на пианино. Дойдя до пятого этажа, я с удивлением обнаружила, что звуки доносятся из холла моей собственной квартиры. Тембр старенького «бехштейна» я узнаю из тысячи — он всегда был довольно резким, с тех пор как моль съела войлок на молоточках. Сомнений быть не могло — у пианино сидела Сара, исполняя не кого-нибудь, а самого Баха. Раньше она никогда не касалась инструмента, но ведь ей и не приходилось оставаться одной в квартире. Надо сказать, играла она вполне прилично.
Поскольку я счастливо избежала лифта — этого кошмарного лязганья подъемного механизма и скрипа металлических створок, — то приблизилась относительно тихо. Однако стоило мне вставить ключ в дверь, как музыка прекратилась, послышался торопливый топот. Войдя, я увидела спину своей компаньонки: Сара бежала в кухню с такой поспешностью, что врезалась в дверной косяк. Я решила не беспокоить ее по горячим следам, повернулась и без единого слова вышла. Ближайшие полчаса я просидела на скамейке в палисаднике, наблюдая за прохожими и думая о Саре.
Она ни разу не обмолвилась, что играет на пианино. Чем больше я размышляла об этом, тем более странным или, по меньшей мере, таинственным казалось ее поведение. Любой нормальный человек хоть раз да возьмет пару аккордов, проходя мимо инструмента? Сара смахивала с него пыль раз или два в неделю, когда мы затевали уборку, — неужто ей ни разу не захотелось коснуться клавиш? Видимо, нет, пока я не ушла из дома. Что ей мешало продемонстрировать свои способности — только ли простая застенчивость?
На скамейке под деревьями было тепло, и постепенно меня разморило. Очнулась я от того, что кто-то хлопал меня по плечу. Надо мной склонились двое парней в комбинезонах. Их лица казались мне смутно знакомыми — кажется, ребята работали в новом гараже за домом. Я множество раз наблюдала из окна спальни, как они моют машины на заднем дворе. У одного из них были карие глаза навыкате, похожие на ириски. Второй, с кудрявой шевелюрой, носил пушистые усы. Видя, что я пришла в себя, пучеглазый хмыкнул.
— Да она как огурчик, — пробормотал он. — Я же говорил.
Его приятель кивнул и приветливо улыбнулся мне.
— Простите, мэм. Мы уж перепугались — вы сидели так неподвижно, с открытым ртом, будто отошли в мир иной.
Одарив их своим самым величественным взглядом, я провозгласила:
— Никуда я не намерена отходить.
Как я и ожидала, они рассмеялись и побрели назад, во двор, лениво пихая друг друга локтями.
Когда я вернулась домой, Сара подала ужин. Она выглядела смущенной, однако не заговаривала о случившемся. Я тоже молчала, но вся эта история с пианино почему-то не шла у меня из головы.
Наверное, я трясусь из-за пустяков, как полоумная старуха. Возраст — ужасная вещь. Мой вам совет, дорогой читатель, — не доживайте до глубокой старости.
Глава 3
Сентябрь 1888 года — март 1889 года
Глазго
7
Как вы, наверное, знаете, несмотря на все старания, Неду не посчастливилось стать королевским портретистом. После закрытого просмотра уважаемые члены Комитета изящных искусств сочли Джона Лавери достойным писать портрет ее величества. Поделом им, олухам! Выбрали мошенника, копирующего фотографии, — хотите верьте, хотите нет, но я лично видела доказательство. В день инаугурации, когда большой зал ратуши вслед за ее величеством покидали вельможи и сановники, я просунула голову в дверь, чтобы взглянуть на трон, и заметила Лавери. Пригнувшись, он выбирался из алькова, занавешенного портьерой, и, что бы вы думали, он прихватил с собой? Блокнот для эскизов? Краски? Отнюдь! За Лавери шел мрачный лысеющий тип, которого легко можно было принять за гробовщика, не тащи он с собой фотоаппарат и треногу. «Великий мастер» нанял вместо себя фотографа.
Однако оставим этого чурбана Лавери, о нем и так написано немало.
Конечно, Неда огорчила неудача, но в известной мере он вздохнул с облегчением — ведь изображение высочайшей особы изменило бы всю его жизнь. Между тем известность Неда заметно возросла: Комитет отдельно отметил «Восточный дворец» и, по слухам, присудил автору неофициальную серебряную медаль. Мне чрезвычайно польстило, когда спустя несколько дней в гостиной дома Гиллеспи Нед внезапно спросил моего совета о том, как извлечь пользу из своей маленькой победы. Поразмыслив, я пришла к выводу, что лучше всего попытаться получить пару-тройку выгодных заказов на портреты. Разумеется, после триумфа Лавери состоятельные глазвегианцы прежде всего мечтали, чтобы их увековечил на холсте сам Великий мастер. Однако для этого надо было ждать, пока Лавери закончит монарший портрет — спустя месяцы или даже годы. Тем временем Нед мог заполучить несколько клиентов и со спокойной душой посвятить остальное время реализации своих сокровенных замыслов. Итак, по моему совету он объявил, что планирует написать небольшую коллекцию портретов. Не прошло и месяца, как на него посыпались заказы, в частности от миссис Юфимии Уркварт, которая жила поблизости, в грандиозном особняке на Вудсайд-Кресент. Жена выдающегося хирурга и профессора университета, миссис Уркварт обладала властными манерами, соответствующими высокому положению, и не уступала самой королеве в величии и монументальности. Между собой мы прозвали ее «герцогиней».
* * *
Полагаю, Энни уязвило, что Нед обратился за советом ко мне, но даже если так, она оставила свои чувства при себе, особенно когда поняла, что заказы обеспечат семью на долгие месяцы. В целом теперь она относилась ко мне совершенно иначе, с тех пор как узнала о моем участии в судьбе карикатуры Финдли. Энни стала гораздо дружелюбнее и уже не так спешила закончить портрет, на который в итоге ушло еще четыре сеанса. После этого она часто зазывала меня в гости, поэтому я взяла за обыкновение проведывать Гиллеспи несколько раз в неделю, порой без приглашения. Узнав Энни поближе, я поняла, что после тяжелого детства в бедной семье ей было трудно доверять новым знакомым. Со временем она начала относиться ко мне сердечно и преданно, как к старому проверенному другу. Для Гиллеспи я стала настолько желанной гостьей, что они потратили часть гонорара за мой портрет на новое кресло в гостиной — «кресло Гарриет», — которое держали специально для меня.
Впрочем, у нас оставалось не так много времени для досуга. Поскольку Нед считал свежий воздух и движение лучшим лекарством от «нервов» Сибил, мы с Энни стали вместе водить девочек на прогулку, чтобы они как следует умаялись. Отличная зарядка, я вам скажу. Местная поговорка гласит, что река Клайд — единственная ровная дорога в Глазго. Например, из-за того, что Уэст-Энд построен на череде холмов-друмлинов, получается любопытный эффект: неважно, в каком направлении пойти, такое ощущение, что всегда поднимаешься вверх по склону. В погожие летние деньки такие прогулки вполне приятны, но с наступлением осени совсем не радостно тащиться по улицам Кельвинсайда под косым дождем.
Понимая, что Энни жаждет учиться живописи, я старалась при первой же возможности помогать ей по дому, чтобы она могла посвятить искусству больше времени. Лично я не обладаю никакими талантами. Рисовать я не умею и, несмотря на ежеутренние гаммы и этюды в детстве, посредственно играю на пианино, зато домашнюю работу осилит любой дурак. Поэтому я взяла на себя штопку и шитье, результатом чего стал порядок в бельевом шкафу в мансарде и новые шторы в столовой, взамен старых, в которых загадочным образом возникали дыры и порезы. Энни не сильна в арифметике, я же обожаю складывать и умножать, располагать цифры в столбики, находить одно-единственное верное решение, и, увидев однажды, как она мучается со счетами, я без колебаний предложила свою помощь. Нед и Энни остались так довольны моей работой, что уговорили меня и дальше вести семейные счета — что я с радостью и делала еще несколько месяцев.
Да и помимо счетов в доме номер одиннадцать хватало работы, поскольку Кристина, хоть и числилась горничной, не горела желанием хлопотать по хозяйству. Энни понимала, что стоит избавиться от девушки, но не могла набраться храбрости. Однако чаша ее терпения переполнилась в октябре, когда Кристина попросила отгул до вечера, а вернулась лишь на следующий день. На этот раз она явилась совсем пьяной и, ничем не объяснив опоздание, уснула в кресле на кухне. Наконец Энни рассчитала ее — к возмущению Кристины, которая ушла с видом оскорбленной невинности (впрочем, мы еще услышим о ней). Новая горничная, Джесси, оказалась полной противоположностью нерадивой предшественницы: Кристина была взбалмошной и хорошенькой, а Джесси — скучной дурнушкой. К сожалению, и у нее были свои изъяны, которые проявились со временем.
* * *
Что касается карикатуры, я следила за каждым номером «Тисла», пока Финдли не завершил серию в конце ноября, но сомнительный шарж на Неда и Кеннета так и не был напечатан. Сегодня в связи с этой темой невольно вспоминается Оскар Уайльд (великолепный писатель, но невыносимый позер). Конечно, описываемые события происходили за несколько лет до процесса Уайльда, но случались и другие скандалы с участием известных особ, и Кеннет Гиллеспи едва ли питал иллюзии о возможных последствиях своего разоблачения.
Его венецианский друг все так же работал на реке, неизменно занимая место на корме гондолы и с важным видом задавая курс, а его старший напарник смеялся и пел, налегая на весло. К счастью, после истории с Финдли Кеннет стал вести себя скромнее: реже бывал в парке, обедал в лавке или в кафе по соседству. По вечерам он оставался дома у матери или заходил в квартиру номер одиннадцать к племянницам. По словам Энни, в последнее время Кеннет выглядел весьма подавленным — вероятно, обвинял себя в том, что Нед не одержал победу над Лавери. Хотя карикатура Финдли не увидела свет, Кеннет был уверен, что до Комитета изящных искусств дошли определенные слухи.
Однажды, спустя две недели с того дня, как мистер Кроухолл появился на страницах «Тисла» в образе пугала, я шла по Грейт-Уэстерн-роуд и вдруг сообразила, что «Шерсть и чулки» где-то рядом. Я давно не видела Кеннета и, желая узнать, как он себя чувствует после чудесного избавления, решила наведаться в лавку. Я задумала притвориться, будто остановилась у витрины, случайно проходя мимо, и поэтому бодрым шагом подошла ближе и принялась внимательно разглядывать сначала пирамиду катушек с хлопковой нитью, а затем садовую лейку. Подняв глаза, я внезапно обнаружила, что в упор смотрю на Кеннета, который слонялся по лавке взад-вперед, рассеянно глядя на улицу. На миг мы оба смущенно застыли, разделенные тонким стеклом. Брат Неда вздрогнул, словно нашкодивший кот, но, опомнившись, коротко кивнул. При других обстоятельствах я могла бы зайти поздороваться, но теперь, желая избежать неловкости, весело помахала ему рукой и зашагала прочь. Кеннет отвернулся от окна и на негнущихся ногах побрел к прилавку. Вид у него был совершенно жалкий.
Впоследствии мы были исключительно вежливы друг с другом при встрече, но Кеннет всегда отводил глаза, не решаясь смотреть мне в лицо. Он выглядел несчастным и подавленным; видимо, Энни была права, и он бесконечно казнил себя за то, что якобы стал причиной неудачи брата.
Увы, ближе к осени — и вопреки мольбам Энни — Кеннет взялся за старое. Движимый отчаянной тоской, он вновь предался сладострастным забавам с гондольером, теперь выбирая более рискованные места: ночью на пустой сцене, в сумерках за гробницей на кладбище, а однажды (по словам Энни, а ей нет резона сочинять) средь бела дня — на верхней площадке полупустого трамвайного вагона. Нед и его родные пребывали в неведении, но было ясно, что рано или поздно Кеннет попадется.
Но даже тогда мы не представляли, что случится в ноябре.
* * *
Выставка закрывалась десятого числа: участники паковали экспонаты и разъезжались; многие сооружения начали разбирать, а по реке Кельвин перестали сновать прогулочные лодки. Через несколько дней Мейбл заглянула в спальню Кеннета, чтобы позвать его на завтрак, и обнаружила пустую кровать и записку под подушкой. Судя по всему, ночью он собрал свои пожитки и тайком выбрался из дому. В записке, адресованной матери, он сообщал о решении покинуть Глазго. Он не указал, куда направляется, но умолял Элспет не волноваться и обещал написать, «когда устроится».
Нед на несколько дней прервал работу над очередным портретом и обратился в полицию с просьбой расследовать исчезновение брата, однако в розыске ему было отказано. В конце концов, Кеннет оставил письмо; он был старше двадцати одного года и уехал по собственной воле. Не сумев заручиться поддержкой полиции, Нед предпринял попытки найти Кеннета самостоятельно: дал объявления в газеты, к югу и к северу от границы, опросил знакомых брата, но так ничего и не выяснил.
Конечно, Неда огорчило, что брат сбежал втайне от него. Вдобавок теперь ему самому нужно было работать в лавке два дня в неделю, пока не найдется замена Кеннету. Художник принял удар судьбы с мужеством, достойным восхищения. Ради матери он постоянно бодрился и уверял нас, что Кеннет отправился на поиски новой жизни, и мы непременно услышим о его достижениях. Не зная тайны брата, Гиллеспи рассматривал случившееся просто: в его глазах Кеннет уехал из города, чтобы вырваться из однообразия и не прозябать вечно продавцом в лавке.
Энни же придерживалась иной версии исчезновения деверя, которую она не спешила озвучивать. Едва ли совпадение, что он сбежал через несколько дней после закрытия Выставки. Работы для гондольеров больше не было, и, вероятно, они вернулись на родину.
Однажды, в редкий для ноября погожий день, мы стояли у входа в Ботанический сад, покупая билеты.
— Думаю, он уехал в Венецию, с Кармином, — поделилась Энни. — Или вместе, или вслед за ним.
— В самом деле? — удивилась я. — Кеннет не очень-то похож на любителя приключений такого рода. Например, отправиться в Италию одному. Он ведь не говорит по-итальянски?
— Знает несколько слов от Кармина. Но если они поехали вместе… Сибил! Стой!
Девочка с такой скоростью неслась вперед, что уже почти скрылась из виду за дворцом Киббл. Роуз, которая сначала потопала за ней, вернулась к нам, однако непослушную Сибил пришлось звать несколько раз. Наконец она неохотно остановилась и стала с несчастным видом ковырять носком траву. Ей до сих пор не рассказали, что обожаемый дядя Кеннет покинул город. Нед все еще надеялся, что брат передумает и вернется домой, и никто не хотел расстраивать Сибил напрасно.
Энни вздохнула, пряча кошелек.
— У него деньги есть? — спросила я.
Она покачала головой.
— Нет… По-моему, он справится. Здесь ему все равно хуже. Может, Кармин устроит его гондольером.
Я живо представила себе Кеннета, бороздящего венецианские каналы с веслом, и чуть не рассмеялась, до того нелепой вышла картина. Не скажу, чтобы меня обрадовало загадочное исчезновение брата Неда, но, пожалуй, оно принесло мне — да и Энни тоже — некоторое облегчение. Вдобавок мы могли утешать друг друга, и мысль о том, что Кеннет укрылся со своим другом-гондольером где-то вдали от Глазго, вселяла некоторую надежду.
Побег Кеннета все восприняли по-разному. Мейбл, несмотря на свою чрезмерную впечатлительность, порой умела с необычайным самообладанием реагировать на самые серьезные потрясения. Так было и в случае с Кеннетом.
— Он взрослый мужчина, — заявила она однажды. — И вполне способен позаботиться о себе. Наверняка сбежал за девушкой.
Быть может, отчасти на Мейбл повлияли перемены в ее собственной жизни: между ней и Уолтером Педеном неожиданно возникло взаимное притяжение. Хотя их роман только начинался, вместо того чтобы хандрить дома или докучать Неду в мастерской, как в прошлом году, Мейбл всю осень проводила с Уолтером и его многочисленными друзьями из Художественной школы, где он вел вечерние занятия. Разношерстная компания состояла из бедных художников и преподавателей живописи, как мужчин, так и женщин, любителей дешевых развлечений — поужинать у кого-нибудь в гостях или посмотреть спектакль на галерке. Красота Мейбл послужила ей пропуском в этот круг эстетов. Благодаря Педену, который поставил себе цель развеселить девушку, та все меньше переживала из-за Кеннета.
К несчастью, Элспет не могла похвалиться подобным хладнокровием. Чем дольше от сына не было ни вестей, ни писем, тем сильнее она тосковала. Разумеется, она не догадывалась о его двойной жизни, и мы с Энни не могли поделиться с ней своими предположениями. Полагаю, открытие, что Кеннет предпочитает мужчин, встревожило бы ее куда серьезнее, чем его побег. Бедняжка Элспет! Как бы мы ни пытались ее успокоить, разлука с сыном причиняла ей немалые страдания.
Впрочем, тяжелее всех отсутствие Кеннета переносила Сибил. Настал миг, когда ей пришлось сказать правду: дядя уехал и неизвестно, когда вернется. От этой новости девочка совершенно утратила покой и весь ноябрь провела в мрачном расположении духа. Она все чаще жаловалась на мигрени и несварения желудка, стала плохо спать и ночью нередко слонялась по квартире. Все эти симптомы проявлялись ярче всего, когда Сибил бранили за злонамеренные выходки. На стенах по-прежнему возникали гнусные рисунки, и вдобавок у девочки появились новые дурные привычки. Например, она взяла моду менять местами предметы в комнате — украдкой, словно маленький шкодливый призрак, — и, хотя вреда это не причиняло, домашним было неудобно и неприятно. Гораздо более зловещим выглядело ее новое пристрастие к спичкам: коробок часто пропадал из гостиной или кухни и неизменно обнаруживался у Сибил в кармане. Как-то раз на полу нашли обугленную берлинскую вышивку Мейбл, а позже — деревянную лошадку Роуз.
В конце концов терпение лопнуло даже у матери Неда. Тридцатого ноября в камине обнаружили сожженную подшивку ее церковных газет «Да восстанет Бог». Элспет была шокирована варварским поступком девочки. Понимая, что на этот раз дочь перешла все границы, Энни отругала ее и в наказание заперла в своей комнате, чем вызвала у Сибил неудержимый приступ ярости.
* * *
Как-то утром, когда мы с Энни мирно шили в гостиной, из прачечной примчалась новая горничная Джесси и, запыхавшись, предъявила нам нечто, напоминающее влажный обгоревший мешок или лоскут, который она нашла в куче золы во дворе. Поначалу мы не поняли, что ее так взволновало, ведь в каминную золу вечно попадает всякий мусор.
Однако когда Джесси развернула перед нами обрывок ткани, мы увидели, что с одной стороны он покрыт масляными красками, и с ужасом поняли, что это вовсе не грязный лоскут, а картина. Кто-то аккуратно вырезал холст из рамы, а затем искромсал ножом или бритвой и опалил почти до неузнаваемости. Впрочем, Энни сразу узнала полотно, поскольку это был ее собственный портрет на голубом фоне, обычно стоявший в мастерской у стены, среди прочих непроданных работ. Теперь же он был безнадежно испорчен.
— Я и решила, что картина хозяйская, — сказала Джесси. — Только не поняла, мистер Гиллеспи ее сам выкинул или как.
В ту пору было немыслимо, чтобы Нед уничтожил полотно — иногда он использовал холсты повторно, нанося краски поверх. Неизвестно, как долго портрет Энни пролежал в яме для золы — возможно, несколько дней. Поскольку Нед не хватился портрета, вряд ли он его высоко ценил. Картина была довольно старой и не годилась на продажу. Тем не менее сам факт варварского уничтожения и возможная угроза для других, более ценных полотен потрясли нас до глубины души. Энни рассказала, что вечером, увидев истерзанный портрет, Нед был крайне огорчен. Не в силах бросить холст в камин, он отнес его в палисадник, вновь закопал в яме для золы и минут десять стоял, молча глядя на кучу пепла, прежде чем вернуться в дом.
Когда Нед и Энни обыскали комнату Сибил, худшие опасения подтвердились. Под кроватью обнаружилась бритва Неда и рама от картины с голубыми обрезками холста по краям — неоспоримое доказательство. Насколько мне известно, Сибил присутствовала при обыске и закатила истерику, когда Нед заглянул под кровать.
С того дня девочке запретили входить в мастерскую. В качестве наказания Гиллеспи обещали отменить празднование Хогманая — главное событие для шотландских детей, которые с нетерпением ждали его целый год, ведь в этот день им разрешалось не ложиться допоздна. Угроза лишиться заветного праздника была для Сибил единственным настоящим наказанием, и потому девочка пообещала вести себя хорошо.
* * *
После этих событий Энни начала терзаться мыслями, что из нее вышла плохая мать. Когда Мейбл вновь предложила показать Сибил специалисту по нервным болезням, Энни отмахнулась, зная, что Нед придет в ужас от мысли, будто у Сибил не все в порядке с головой. Видимо, от отчаяния она прониклась идеей, что причина плохого поведения дочери кроется в городской жизни.
— Это же вредно для нее, Гарриет, — повторяла Энни. — Дым, копоть, сидение в четырех стенах всю зиму… — Она стала рассуждать о том, чтобы увезти дочерей на побережье, в надежде, что морской воздух вдали от Глазго исцелит девочку. — Нужно забрать ее из города.
Так сложилось, что Уолтер Педен унаследовал домик в Кокбернспате и пригласил Гиллеспи пожить у него несколько недель, включая Рождество. Неду, Энни и детям предназначалась единственная полноценная спальня, а Мейбл (которую тоже пригласили) — смежная с ней комнатушка, где раньше держали гусей. Сам же Педен утверждал, что будет счастлив приютиться на матрасе у камина, в крохотной гостиной.
К сожалению, для меня места не нашлось. Когда зашла речь о поездке, Нед предложил, чтобы мы с Мейбл поселились в бывшем птичнике вместе, но после того, как Педен описал его крошечные размеры, несостоятельную идею отвергли. Пожалуй, при желании я бы могла снять комнату в ближайшем пансионе, но мне было неплохо и в Глазго. Моя хозяйка квартиры и ее дочери пригласили меня к себе на Рождество, а вечером я собиралась навестить Элспет, которая ничего не праздновала, считая обычай языческим.
Стоило мне определиться с планами, как вдруг — шестнадцатого декабря, через несколько дней после отъезда Педена и Гиллеспи — неожиданно объявился отчим и пригласил меня на рождественский обед в «Гранд-отель». Учитывая отвращение Рэмзи к переписке, письмо было подвигом с его стороны. Я же обрадовалась, что он не только помнил обо мне, но и хотел провести со мной Рождество. Чем ближе был назначенный день, тем с большей радостью я предвкушала нашу встречу и, возможно, немного нервничала.
Утро двадцать пятого декабря выдалось морозным и ярким. Столик в «Гранд-отеле» был заказан на дневное время, и Рэмзи предложил встретиться в час в чайной комнате, прежде чем мы поднимемся на обед. Тщательно продумав наряд, я пришла значительно раньше, и мне указали наше место у окна. Просидев там с полчаса, я забеспокоилась, не забыл ли отчим о встрече, но выяснилось, что мы не поняли друг друга, и он нетерпеливо дожидался меня наверху, в ресторане. Неудачное начало испортило Рэмзи настроение: он грубил официантам и брюзжал на меня; вино было слишком холодным, а говядина — чересчур жилистой. Только к десерту он немного смягчился и предложил отвезти меня домой в своем экипаже.
— Вы очень любезны, сэр. Буду премного благодарна.
Мне вдруг пришла в голову идея показать отчиму свои комнаты, если у него найдется свободный час. В Квинс-Кресент было довольно мило — чудесный сад с каменным фонтаном; хозяйка, миссис Александер, содержала дом в чистоте; в мою гостиную заглядывали утренние лучи; я сама сшила шторы и украсила каминный экран аппликациями и сухими цветами. Возможно, моя обитель и была скромна, но в ней я начала самостоятельное существование и считала ее домом. Сейчас мне кажется, что я жаждала родительского одобрения. Точнее, даже не одобрения — просто надеялась, что Рэмзи интересуется мной и захочет посмотреть, как я живу.
Экипаж примчал нас на Квинс-Кресент в считаные минуты. В порыве гостеприимства я упустила из головы, что Рэмзи хорошо знает Глазго, и увлеченно показывала ему местные достопримечательности. Когда, забыв о его презрении к «сладенькому», я махнула рукой в сторону шоколадной фабрики, он покосился на фасад здания и процедил: «Угу» — единственное слово за всю дорогу, — в которое вложил весь свой западношотландский скептицизм.
Вскоре мы оказались совсем близко от моих комнат. День угасал, и я начала волноваться, не откажется ли отчим зайти. Впрочем, не успела я и рта раскрыть, как он вышел из экипажа и подал мне руку. Пока я спускалась, он критически оглядел полукруглый ряд домов за спиной.
— Это здесь? Послушай, Гарриет, у меня есть дом в Бардоуи — он сейчас пустует. Можешь там поселиться — это чудная усадьба у озера, называется Мерлинсфилд. Рядом живет пожилая пара — Дьюкерс с женой, они присматривают за домом и помогут тебе освоиться.
Я опешила: предложение свалилось внезапно, как гром среди ясного неба.
— Я… очень мило с вашей стороны, сэр. Не знаю, что и сказать. А где это — Бардоуи?
— О, всего шесть миль от города. Сколько ты платишь за жилье?
Услышав ответ, он нахмурился.
— За весь дом?
— Нет, только две комнаты в мансарде.
Рэмзи потрясенно вскинул брови.
— Боже правый! А так ты сможешь распоряжаться Мерлинсфилдом — это немаленький особняк, и учти, со своей землей. Что касается платы… — Он усмехнулся. — Уверен, мы договоримся.
Его слова смутили меня и немного обескуражили: получается, отчим предлагает мне снимать усадьбу? Или это была неуклюжая попытка пошутить?
— Ты собираешься к себе на юг?
По правде говоря, я еще всерьез не думала, когда вернусь в Лондон — и вернусь ли вообще. Ничто не торопило меня покинуть Шотландию, и пока что мне было там хорошо.
— Нет. Я пока не…
Кивнув, он продолжал:
— Да, еще вот что: в Мерлинсфилде один тип чинит мне крышу и еще по мелочи. Пригляди за ним, если не трудно — что-то долго он там возится. Работы немного, течет всего в паре комнат. Я уж начал подозревать, что он жулик, а у старого Дьюкерса силы уже не те — вряд ли он сможет повлиять. Мне бы кого-нибудь помоложе, чтобы приструнил этого типа… Есть еще парочка дел, если у тебя найдется время. — Рэмзи задрал голову и посмотрел на меня сверху вниз — этот взгляд мне был хорошо знаком с детства. — Как по-твоему, ты справишься?
— Я… не знаю, сэр. Мне кажется, вам скорее нужен управляющий.
Он рассмеялся.
— Управляющий, вот как? Да ты представляешь, какие это деньжищи? Нет-нет, мне нужен свой человек. — Порывшись в кармане, он достал несколько сложенных листов бумаги и протянул мне. — Вот список дел. Покрасить стены, починить мебель и шторы и тому подобное. Кое-что подождет до окончания ремонта крыши, но до этого можно приступить к мелочам. Думаю, они тебе по силам, но можешь нанять маляра, только дешевого и с моего одобрения.
Я пришла в замешательство. Конечно, желание отчима доверить мне усадьбу было весьма лестно, и я хотела доказать ему, что способна справиться с рабочими и так далее. Но с другой стороны, я сомневалась, что хочу поселиться в шести милях от новых друзей.
— Сэр, вы очень добры, но я бы предпочла остаться в городе. Если не возражаете, я бы хотела все обдумать и дать ответ через день-два…
— Ладно, думай, — сухо сказал он. — Дай знать, когда решишь.
— Непременно — и еще раз спасибо за щедрое предложение. Не хотите ли вы зайти — на чай? Прошу, зайдите, зайдите ко мне на чай!
Я мысленно отругала себя за то, что повторяю одни и те же слова, но Рэмзи сосредоточенно изучал свои часы и не заметил моего лепета.
— Нет-нет, — резко сказал он. — Мне пора. Всего хорошего, Гарриет.
В голосе Рэмзи прозвучала нотка недовольства, словно из-за своей нерешительности я упала в его глазах. Он пожал мне руку и сел в экипаж.
— Всего хорошего, сэр! — крикнула я вслед. — Я непременно обдумаю ваше предложение и дам знать как можно скорее — спасибо.
Рэмзи в это время отдавал распоряжения кучеру и не слышал меня. Щелкнули вожжи, и кони умчали экипаж прочь.
Войдя в дом, я услышала, как Александеры играют в фанты и шарады. Хотя они звали меня к себе, по возвращении из ресторана настроение у меня пропало, и я поднялась наверх. В моей комнате царило безмолвие. Я заперлась и стала вспоминать события последних часов. Разочарованная внезапным уходом Рэмзи, я уговаривала себя, что он просто спешил вернуться домой до ночи, но легче не становилось. Похоже, отчим не испытывал ко мне и толики интереса.
К тому же, хотя его предложение очень любезно, наверняка это я окажу ему услугу, если соглашусь. В Мерлинсфилде течет крыша, нужно следить за ленивым рабочим. И не исключено, что мне же еще и придется платить ренту, уж не говоря о сорока семи мелких ремонтах, требующих внимания (Рэмзи пронумеровал строчки в списке). Идея вроде бы родилась у него стихийно — а между тем случайно ли список работ оказался у него в кармане в Рождество?
Настроение у меня вконец испортилось. Оглядевшись, я внезапно увидела свою гостиную глазами отчима — бедной и ободранной. Из-за праздника дочь миссис Александер Лили не приходила убирать, и все было так, как я оставила утром: немытые чашка с блюдцем на столе, платье, висящее на спинке стула, пятно на линолеуме в кухонном уголке — видимо, за завтраком я случайно пролила кофе.
Однако я снова напрасно заболталась о Рэмзи, как пьяный дворецкий, который вечно ошибается дверью.
8
Спустя неделю, вечером тридцать первого декабря, я пожелала миссис Александер и ее дочерям счастливого Нового года и вышла в ночь. В воздухе пахло серой. С утра лил дождь, но к обеду небо прояснилось, и пришло резкое похолодание. Тротуары сковала льдистая корка, дома укутала морозная мгла — такая густая, что сквер в центре Квинс-Кресент почти исчез из виду. Впрочем, таинственность тумана была мне по душе. Нед и Энни недавно вернулись из Кокбернспата. Последние несколько недель Сибил была на удивление послушной, и Гиллеспи решили не отменять празднование Нового года. Я с радостным волнением предвкушала первый настоящий Хогманай в их компании.
Наверное, на самом деле туман был предвестником беды. Переходя Уэст-Принцес-стрит, я обогнала медленно ползущий кэб. Кучер с горящим факелом вел коня под уздцы, предупреждая о своем приближении. Чуть дальше какой-то мальчуган, рыдая, цеплялся за ограду Академии: видимо, потерялся — наверное, в двух шагах от дома. Я присела рядом, чтобы предложить помощь, как вдруг рядом возникла остроносая девчушка на несколько лет постарше мальчика.
— Вот ты где! — Она сгребла малыша в охапку и уволокла в метель, приговаривая: — Хорош реветь, я уже тут!
В начале Стэнли-стрит под тусклым желтоватым фонарем беседовали какие-то рабочие, покуривая трубки. Какой-то прохожий крикнул им по пути:
— Как жизнь, парни?
Один из рабочих, сплюнув в сточную канаву, безразлично обронил:
— Понедельник…
По пути к дому Гиллеспи мое пальто насквозь пропиталось влагой, а ноги и лицо совсем занемели, несмотря на теплую одежду, сапоги и перчатки.
К двери подъезда спустилась горничная Джесси. Она служила у Гиллеспи уже несколько недель и производила впечатление прилежной. Я считала ее несколько грубоватой, но по пути наверх попыталась поддержать разговор.
— Ну что, Джесси, хорошо отпраздновала Рождество?
— У нас Рождество — не такой важный праздник, мисс Бакстер, как у вас на юге.
Ах да, «у вас на юге». По мнению Джесси, «этим южанам» нельзя доверять.
— Разумеется, — ответила я. — Тогда с Новым годом тебя!
— Еще даже восемь не пробило.
С этими словами горничная скрылась в глубине коридора. Видимо, помимо англосаксонского происхождения, в ее глазах я совершила еще один грех — поспешности.
Я вошла в пустой коридор: судя по грохоту стульев, Джесси хлопотала в столовой. Из кухни показалась Энни в переднике, растрепанная и перемазанная мукой. Вид у нее был взволнованный, но счастливый.
— Гарриет! — вскричала она и бережно, стараясь не запачкать мою одежду мукой, обняла меня и поцеловала в щеку.
К полуночи должны были прийти лишь несколько ближайших родственников и друзей. Большинство гостей ожидалось после того, как пробьет двенадцать: местные художники, младшие учителя из Художественной школы, некоторые соседи, продавцы из лавки, парочка бродяг из компании Элспет и несколько ценных клиентов «Шерсти и чулок» («но не чересчур солидных», по словам Энни). Вешая мое пальто, она объяснила, что детей забрала соседка снизу, миссис Колтроп, чтобы мы могли заняться подготовкой к празднику.
— Правда, они вот-вот вернутся, — добавила она.
В кухне царила суматоха. Везде стояли всевозможные блюда на разных этапах приготовления, все вокруг покрывал тонкий слой муки. Я принялась освобождать место на столе, чтобы заняться печеньем.
— Как ваша поездка? — спросила я.
— Прекрасно! Сибил просто преобразилась, да и всем нам отдых пошел на пользу. Мы много гуляли, а Нед рисовал эскизы. Морской воздух, ни капли этого тошнотворного дыма! Вот бы пожить там немного.
— Наверное, в Кокбернспате очень красиво — порт и тому подобное.
— Да. — Энни смутилась. — Вам надо — непременно надо поехать с нами в следующий раз. Просто домик такой крошечный…
— Боже мой, это так мило с вашей стороны!
Неожиданно мне стало жарко. Конечно, в кухне была парилка, но меня озадачило смущение Энни. Мне и в голову не приходило, что им следовало пригласить меня вместо Мейбл. Она ведь член семьи — и вдобавок у нее только начинался роман с Педеном.
— Вы скоро туда вернетесь? — быстро спросила я.
— Ох, Нед охотно переехал бы насовсем — но у него масса дел тут, и портрет «герцогини» еще не закончен.
— Ах да — ее светлость. Как идет работа? Надеюсь, вскоре Нед сможет писать для себя.
Не успела она ответить, как в дверь постучали. Энни вздохнула и заторопилась в коридор, крикнув:
— Джесси, я открою. Наверное, это девочки.
Итак, миру и спокойствию в квартире пришел конец. Энни задержалась в дверях поговорить с миссис Колтроп. Тем временем Сибил проскользнула в кухню. Не глядя на меня, он направилась прямо к коробке с тортом и дернула за завязки.
— Что это?
— Это торт, дорогая, для твоей мамы. Тебе понравилась поездка?
Девочка бросила на меня злобный взгляд. Может, она немного и поправилась в Кокбернспате, но лицо осталось таким же землисто-серым.
— Можно посмотреть на торт?
— Не сейчас.
Сибил умоляюще заломила руки, лихорадочно сверкая глазами.
— Ну пожалуйста! Гарриет, можно я открою, пожалуйста?!
— Нет, дорогая, — твердо сказала я. — Сначала откроет мама, это же ее торт.
— А он шоколадный?
— Нет.
— Вишневый?
— Нет.
— С коринкой?
Так могло продолжаться до бесконечности, но в эту минуту пришли Энни с Роуз, и я отвернулась от Сибил. Я знала, что Энни не наряжает елку, но не успела выяснить, как они с Недом относятся к обмену подарками.
— Энни, надеюсь, вы не против, что я принесла вам рождественские подарки.
— Ура! — Сибил принялась скакать вверх и вниз, выкрикивая какую-то тарабарщину, и Роуз, которая всегда подражала сестре, последовала ее примеру.
— Как мило, — сказала Энни. — Не беспокойтесь, в этом году мы обменивались подарками. Я даже украшала камин остролистом — только не говорите Элспет. — Она притворилась испуганной, как нашалившая школьница, и мы дружно рассмеялись. — У нас тоже для вас кое-что есть.
— Великолепно! А Нед дома? Может, откроем подарки вместе?
Она мотнула головой.
— Он будет позже, тогда и откроем.
Чтобы девочки не проказничали, пока мы работаем, я выдала им миску с водой и немного муки, и они какое-то время готовили кашицу, правда, без особого рвения. Энни варила пунш — вино с апельсинами, сахаром и специями. В воздухе разливался аромат гвоздики и корицы, и, хотя в кухне было еще не прибрано, я подумала, что Неду понравится эта уютная домашняя сцена. Вскоре Энни закончила варить пунш и принялась начинять волованы. Я раскатывала тесто для печенья, а Сибил, бросив миску с мучной кашицей, стояла у стола и зачарованно таращилась на утыканные гвоздикой апельсины, поблескивающие в кастрюле с красным вином.
Уже в который раз я невольно задалась вопросом, что происходит в ее странной маленькой головке. Вот и сейчас Сибил протянула руку к кастрюле и уже собиралась потрогать апельсин, но я демонстративно кашлянула и притворно нахмурилась. В ответ она захихикала и ускакала в коридор. В тот же миг открылась входная дверь, раздался крик Сибил «папа!» и кряхтение — видимо, Нед подхватил ее на руки.
— Моя ты девочка, — ласково сказал он.
Затем все стихло. Хотя дверь к Сибил была приоткрыта, со своего места я ее не видела; в коридоре по-прежнему была полная тишина, и мне стало любопытно, что там происходит. Я взглянула в сторону печи. Энни сидела и с отсутствующим выражением лица смотрела на огонь, а Роуз играла у ее ног. Из-за двери кухни не доносилось ни звука. Быть может, Нед пролистывал почту у вешалки, но почему тогда не было слышно шуршания бумаги или треска открываемых писем? В любом случае, пора было ставить печенье в духовку. Обходя стол, я бросила взгляд в коридор и тут увидела их. Нед замер, держа Сибил на руках. Она обхватила его ногами за туловище и положила голову ему на плечо; он ласково покачивал ее из стороны в сторону. Не замечая меня, оба умиротворенно смотрели куда-то вдаль. Это был сокровенный миг — миг нежности между отцом и дочерью. Я чувствовала себя свидетелем чего-то очень интимного и необычного, что нельзя описать словами. Опасаясь, что меня заметят, я бросилась ставить фигурные печенья на огонь. В лицо мне дохнуло жаром из духовки — раскаленной, словно кузнечный горн. Я с лязгом захлопнула металлическую дверцу, а когда обернулась, Энни подняла младшую дочь на ноги и сказала:
— Роуз, покажи Гарриет свой рождественский подарок.
Девочка смутилась, как всегда, когда оказывалась в центре внимания. Поскольку Сибил считалась в семье «паршивой овцой», Роуз доставалось больше ласки и похвал. Она всегда была любимицей матери, а в последнее время и Элспет, которая все еще оплакивала свою подшивку газет и вместо Сибил отдавала всю нерастраченную нежность ее сестре.
Наверное, чтобы не поссорить девочек, им вручили абсолютно одинаковые подарки: серебряные цепочки с изящной перламутровой подвеской. Если не считать естественных выпуклостей на перламутре, кулоны ничем не отличались друг от друга, и, чтобы различать их, на серебряной подложке выгравировали имена сестер. Поддавшись на уговоры, Роуз трогательно задрала подбородок и протянула мне подвеску.
— Смотри, там мое имя, — пролепетала она.
— Повезло тебе, правда?
Малышка кивнула и улыбнулась пухлыми розовыми губами, гордо глядя на обновку. Как сейчас помню игру света на кусочке перламутра, голубые, розовые и зеленые блики на пальчиках Роуз и мягкий пушок на щечках.
Я не в силах продолжать; воспоминания растравили мне душу.
* * *
По мнению Элспет, рождественские подарки были символом предосудительного стяжательства и невоздержанности. К несчастью, в тот вечер она застала нас за распаковыванием подарков друг для друга. Я купила девочкам книги, Энни — перчатки, а Неду — мягкий шарф; Гиллеспи вручили мне подушечку для булавок. Стоило мне начать ее разворачивать, как открылась входная дверь и вошла Элспет, восклицая что-то об ужасном холоде.
Услышав голос матери, Нед беззлобно выругался себе под нос, запихал шарф под диванную подушку и велел девочкам отойти с книгами в угол. Мы с Энни схватили упаковочную бумагу и бросили в огонь, надеясь избежать неловких объяснений.
— Спасибо вам большое, — пробормотала я, пряча игольницу в сумочку.
Элспет возникла на пороге со свойственным ей визгливым смехом. Я заглянула в огонь: бумага еще не сгорела, но, к счастью, мать Неда ничего не заметила, увлеченно описывая туман на улице.
— Не видно собственную руку, даже если подносишь ее к лицу! А мороз! Подумать только, бедный Кеннет тоже где-то мерзнет!
— Вряд ли он мерзнет, — рассудительно заметил Нед.
— Но где он? — продолжала Элспет. — И почему до сих пор не написал? В Лондоне эти ужасные убийства… А он небось скитается по улицам Уайтчепела[6], один, не зная дороги.
— Мама, у нас нет резона подозревать, что Кеннет в Лондоне, — возразил Нед. — Он точно так же мог поехать и в Тимбукту. Где бы он ни был, уверен, с ним все хорошо.
— Что нам остается, кроме надежды. — Элспет молитвенно возвела руки к потолку.
— В самом деле, — сказала я. — А даже если он в Лондоне, не стоит переживать из-за этих убийств. Ведь известно, что все жертвы — женского пола. Кеннету ничего не угрожает — если только он не начал носить юбки.
Глупая шутка вырвалась у меня прежде, чем я успела подумать. Возможно, я вспомнила Кеннета на рисунке Финдли — нарумяненного и в нижней юбке. Я встретилась глазами с Энни — она выглядела немного встревоженной, — и между нами как будто состоялся безмолвный разговор. Конечно, Энни знала карикатуру только с моих слов, но, вероятно, представила себе ту же картину. Она подняла бровь и втянула щеки, словно ее что-то развеселило. К счастью, наш обмен взглядами остался незамеченным, но я тоже едва сдержала смех и, чтобы перевести дух, взяла чайник и отправилась в кухню за кипятком.
Проходя мимо столовой, я увидела Роуз — уцепившись за завязки передника горничной, она раскачивалась из стороны в сторону, а Джесси пыталась протирать бокалы. Дверь в кухню была полуприкрыта, и, так как руки у меня были заняты чайником, я толкнула ее спиной, а обернувшись, застала Сибил: девочка с виноватым выражением лица отскочила от стола, уставленного аппетитными блюдами.
— Кыш, — сказала я, и она, опустив голову, выбежала из кухни.
Не знаю, действительно ли я видела, как Сибил прячет что-то в карман передника, или старость сыграла с памятью злую шутку. Как бы то ни было, тогда я не придала этому случаю никакого значения.
* * *
В половине десятого прибежала Мейбл, раскрасневшаяся — как мне сначала показалось, от мороза. Когда через минуту раздался звонок в дверь и Джесси впустила Уолтера Педена, я заподозрила, что для румянца Мейбл есть другие причины. Похоже, они с Уолтером пришли вместе, но условились зайти по отдельности. Вероятно, в Кокбернспате события развивались успешно. Правда, по словам Энни, Элспет еще не знала о романе дочери.
До полуночи к нам присоединились еще несколько человек. Помимо парочки флегматичных типов из Художественной школы (разумеется, настоящая богема опаздывала), большинство гостей пригласила мать Неда. Несколько евреев поначалу растерялись, но, заметив шахматную доску Неда, оживились и устроили мини-турнир за обеденным столом. Преподобный Джонсон — американский пастор Элспет — всю ночь просидел при ней, отлучаясь только за едой и напитками. Элспет всегда чрезвычайно воодушевляло его общество, и они все время громко гоготали по малейшему поводу, так что содрогались стены и звенело в ушах, а гости вынужденно разбредались из столовой.
Пожалуй, было только к лучшему, что остальных ждали после двенадцати: Нед и Энни отправились в спальню переодеться и не возвращались целый час, предоставив нам присматривать за детьми и накрывать на стол. Никто не руководил праздником, однако к тому времени я уже знала, что у Гиллеспи заведено не утруждать себя условностями. Я помогала Джесси расставлять закуски, Мейбл читала девочкам подаренные мной книги («Волшебная лавка» для Роуз и «Неряха Питер» для Сибил), а Педен любезно вызвался развлекать Элспет и пастора беседой при условии, что ему будут регулярно подавать пунш.
Наконец вышел принарядившийся Нед — в любимом твидовом пиджаке и рубашке с низким воротом вместо ненавистной вечерней одежды — и тут же взялся готовить «горячую пинту»[7] для тех, кто, подобно ему, не выносил вина. Вскоре появилась Энни в светло-зеленом платье; на шее у нее красовался подарок мужа — серебряная брошь с кулоном в форме сердечка, инкрустированным жемчугом, зелеными стразами и турмалинами. (Тогда я удивилась, что Нед позволил себе такую трату, но позднее, занимаясь счетами семьи, обнаружила, что профессор Уркварт заплатил за портрет жены вперед.) Мейбл выглядела очень элегантно в приталенном черном платье с пышными рукавами. Она похудела, возможно, отчасти благодаря роману с Педеном, но еще и потому, что пристрастилась к курению — еще одна тайна от матери. Лично я подозреваю, что она могла выкурить всю пачку перед носом у Элспет, и та бы ничего не заметила. Однако пятьдесят лет назад, как вы помните, немногие женщины смели курить на публике. К тому же Мейбл побаивалась матери и жаждала ее похвалы, поэтому всегда старательно заглушала запах табака одеколоном и мятными леденцами.
К радости детей, им разрешили лечь позже обычного. Сибил дала фортепианный концерт, во время которого сыграла несколько слащавых гимнов и спиричуэлсов. Полагаю, она пыталась помириться с бабушкой. Вдова громко аплодировала вместе с нами, однако ее похвалы звучали менее восторженно, чем раньше, и Сибил была разочарована. Затем Элспет устроилась на стуле у буфетной стойки и принялась болтать без умолку, не забывая подкладывать себе закуски.
Где-то после одиннадцати, когда старый год все никак не уходил (единственный час в году, который почему-то всегда длится вечность), девочек наконец отправили спать. Поначалу Сибил жалобно протестовала, но — помню, мне показалось это странным, — когда Энни велела ей вести себя хорошо, резво побежала наверх, загадочно хихикая. Нед отправился следом, чтобы почитать дочкам новые книги на ночь.
Выскользнув из столовой, я заглянула в пустую гостиную и опустилась на диван, наслаждаясь минутами одиночества. Можно было под вежливым предлогом уйти домой, но я еще надеялась улучить момент для разговора с Недом. В столовой на это рассчитывать не приходилось, а сидя на диване, я могла бы окликнуть его по дороге из мансарды. Увы, почти сразу в гостиную вприпрыжку ворвался Уолтер Педен. За последние месяцы я в чем-то прониклась к нему симпатией. Он был ужасно самодоволен (впрочем, как и Мейбл), но вполне безобиден при всей своей несуразности. К моему удивлению и восторгу, Уолтер по секрету сообщил, что сегодня сделал Мейбл предложение, и она согласилась. Он собирался объявить о помолвке после полуночи.
— Примите мои самые искренние поздравления, — сказала я. — Я так рада за вас обоих.
— Спасибо, Хетти. Мейбл уже продумала, как рассаживать гостей на свадебном завтраке, — конечно, вы будете за главным столом. Она хочет пригласить полгорода — и волнуется, поместимся ли мы все в столовой дома номер четырнадцать. — Осушив бокал, он вскочил на ноги — бледный, с испариной на лбу. — Вы сделали доброе дело, Гарриет, очень доброе.
Похоже, он вбил себе в голову, будто это я свела их с Мейбл — какое преувеличение! Я всего лишь однажды договорилась с ними обоими о встрече в «день открытых дверей» в Ботаническом саду, а затем не смогла прийти. В результате Уолтер и Мейбл оказались наедине во влажной и плодородной теплице.
— Позвольте принести вам что-нибудь выпить, — сказал Педен. — Пунш весьма хорош.
На мой вкус, пунш был горьковат, и я ограничилась одним бокалом.
— Нет, спасибо, я уже выпила предостаточно. Может, позже.
Потоптавшись вокруг меня в привычном танце, он вдруг неожиданно развернулся и выскочил в холл. Я уже собиралась последовать за ним, как вдруг по лестнице сбежал Нед и уверенным шагом вошел в гостиную. Увидев меня, он остановился как вкопанный.
— Простите, Гарриет, я думал, все в столовой.
— О, не обращайте на меня внимания — я просто хотела минутку посидеть в тишине.