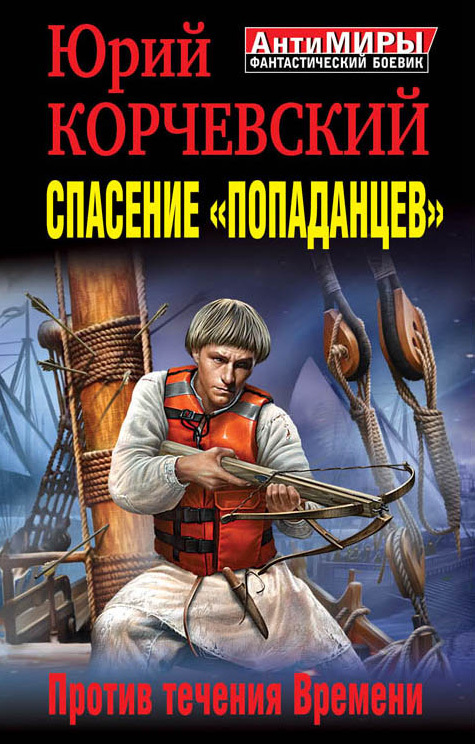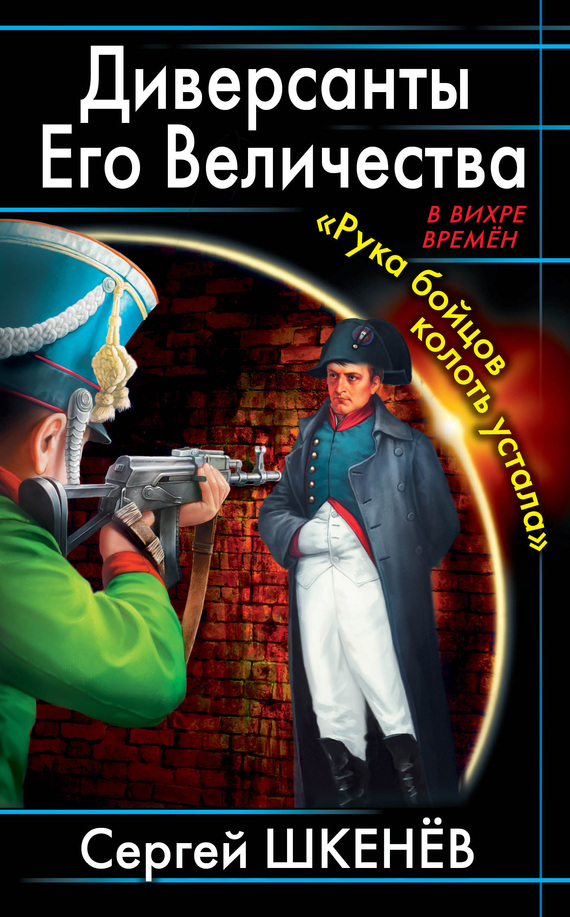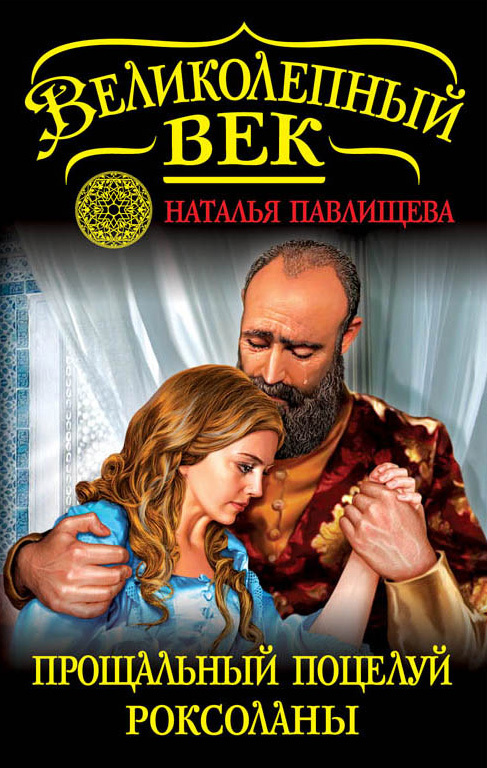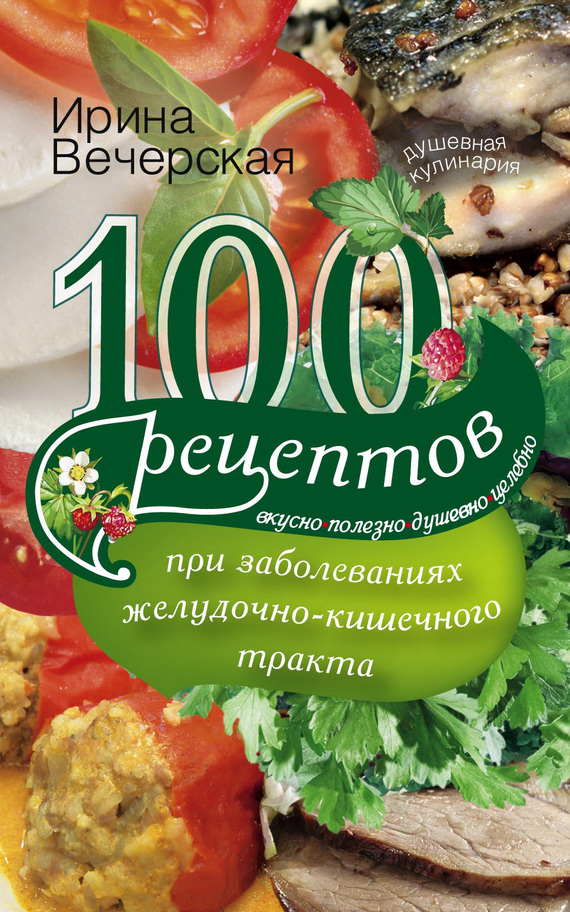Физиология наслаждений Мантегацца Паоло
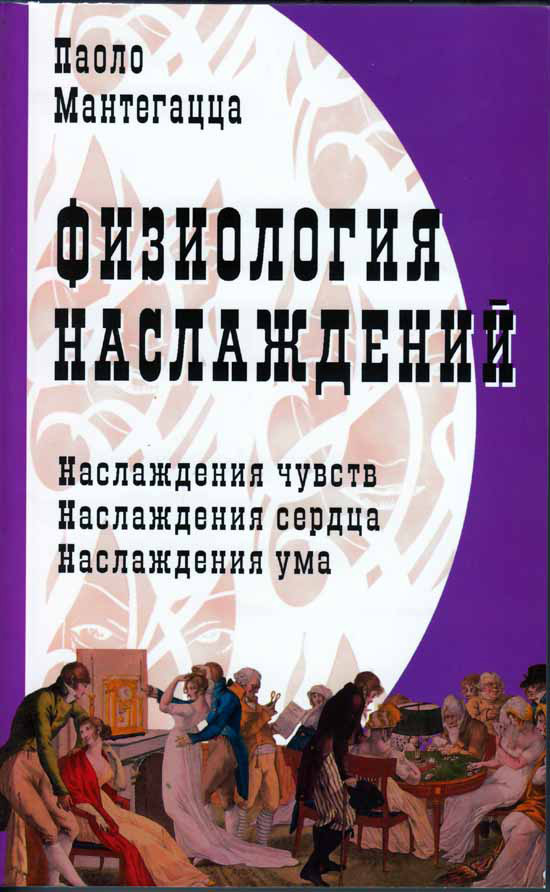
Привязанность к вещам есть чувство первого лица, по своему характеру родственное и сближающее его с чувством «ты». Поэтому подобная привязанность представляет собой как бы естественную ступень, ведущую от эгоизма к расположению и сочувствию. Мы одни лишь действуем в этом чувстве активно, становясь неравнодушными к изображению, служащему отсветом нашей собственной жизни.
Наша любовь к неодушевленным предметам всегда порождается их моральным значением. Предмет в высшей степени интересный по своим физическим свойствам, может поражать наши чувства, но мы не полюбим его до тех пор, пока он не возбудит в нас симпатию. Мы можем испытывать большое удовольствие, осматривая богатейшие коллекции чужих или своих собственных музеев, не чувствуя при этом однако никакой привязанности к картинам и минералам, которыми мы любовались с таким наслаждением. В этом случае мы или испытываем только желание сделаться собственниками какой-нибудь вещи, или уже наслаждаемся ее обладанием; и в том, и в другом случае мы расположены к привязанности, но еще не любим предмет, и удовольствие, нами испытываемое, порождается лишь чувством собственности.
Наслаждения, проистекающие из этого чувства и из привязанности к вещам, весьма схожи, но далеко не тожественны, в чем мы легко можем убедиться, сделав даже поверхностное наблюдение над своими собственными ощущениями. Достаточно, например, сравнить удовольствие, которое испытываем мы, любуясь только что подаренным золотом, с удовольствием иметь перед глазами мелкую монету, принадлежащую дорогому для нас существу. В первом случае степень удовольствия измеряется одной ценностью монеты, во втором же предмет имеет исключительно моральное значение, и жалкая копейка становится сокровищем, когда она способна вызвать в нашем сердце образ любимого лица.
Привязанность к вещам никогда не бывает непосредственным чувством: ее специфический характер проистекает от способа, которым вызывается в нас это чувство. Каждый предмет представляет из себя как бы зеркало, отражающее самые разнообразные образы. Всего чаще, рассматривая какой-нибудь предмет, мы останавливаем свое внимание не на его физических качествах, но на тех моральных образах, которые он невольно в нас вызывает. Иногда, однако, мы останавливаем свои мысли между предметом и чувством, в нем отразившемся, и, блуждая умственным взором между границами миров, идеального и материального, наслаждаемся тем смешанным и неопределенным ощущением, о котором нам уже пришлось сказать несколько слов в главе об удовольствиях, порождаемых зрением.
Одной из самых простых причин нашей привязанности к предметам служит их многолетнее нахождение перед нашими глазами или в нашем соседстве. В этом случае предмет невольно является памятником прошлого, так как наши радости, горести и слава, имея его своим постоянным свидетелем, как бы запечатлели в нем наш собственный образ. Такого рода привязанность мы чувствуем к нашему дому, креслу, столу и ко всем неразлучным товарищам нашей жизни. Внутренние ощущения, порождаемые этой привязанностью, настолько слабы и безмятежны, что часто остаются нами почти незамеченными. Радость, ими доставляемая, носит на себе характер отрицательный, так как мы начинаем испытывать ее лишь после того, как долгая привычка к невзгодам заставит человека искать источник утешения даже в этих мелких ощущениях. Таким образом, мы в продолжение многих лет можем постоянно сидеть в одном и том же кресле, не видя в нем ничего, кроме дерева, набивки и материи. Но стоит нам в результате какого-нибудь случая его лишиться, как внезапно в нас проявится горячая привязанность к нему и мы, почти со слезами на глазах, будем припоминать моральную историю этого бедного изодранного кресла. Если нам удастся возвратить его, то этот неодушевленный предмет как бы оживляется в наших глазах; с какой любовью мы снова ставим его на старое место, садимся в него и, самодовольно поглаживая его рукою, принимаемся за свои старые думы. С этой минуты кресло становится нашим другом, к которому мы привязываемся тем сильнее, чем больше о нем думаем. Кажется, чем большее число раз отражаются в нашем сердце проблески расположения, тем самые предметы, их вызывающие, становятся нам дороже, и наша привязанность к ним возрастает. Действительно, между тем, как один предмет, находясь в течение многих лет у нас на глазах и ни разу не вызвав в нашем воображении морального образа, остается нам вполне чуждым; другой, наоборот, в какой-нибудь час способен возбудить в нас самую горячую привязанность и сохранить ее на долгие годы.
Кажется, что все предметы способны воспринимать на своей внешности почти фотографически верный отпечаток каждого чувства. Смотря на эти изображения с известной точки зрения, мы можем читать повести нашей душевной жизни. Для многих язык этих изображений остается совершенно непонятен, и они не умеют разобрать целую историю радостей и горестей, отчетливо начертанную и на старом кресле, и на увядших цветах засохшего букета. Это неумение пользоваться окружающими нас предметами для воспроизведения в своей памяти истории пережитой жизни нельзя считать доказательством притупленности чувств. Мы встречаем многих великодушных людей, посвятивших себя на пользу ближних, которые не любят окружающие их предметы; между тем эгоисты, невозмутимо проходящие мимо человеческих страданий, чтобы только не вынуть рук из теплых карманов, не знают пределов в выражении своей привязанности к какому-нибудь жалкому стулу или столу и готовы обнимать их от избытка чувств.
Для того, чтобы предмет мог сохранить на себе отпечаток чувства, нужно или чтобы само моральное явление отличалось большой живостью, или чтобы оно отразилось в нем значительное число раз. Таким образом, стоит только какой-нибудь вишневой косточке хотя бы раз побывать во рту нашей возлюбленной, и она уже получает способность вызывать в нашем воображении дорогой нам образ; между тем бледная картина наших ежедневных занятий должна тысячи и тысячи раз отразиться в нашем кресле, прежде чем на нем запечатлеется моральный облик, который уже более не изгладится. В первом случае живость самого морального явления вознаграждает недостаток во времени.
Из всей домашней утвари постель должна бы наиболее всего носить на себе отпечаток жизни ее собственника: здесь рождается человек и умирает; здесь передается потомству наследие жизни, здесь люди и страдают, и наслаждаются, здесь они и любят и предаются размышлениям; здесь человек проводит, во всяком случае, не менее трети жизни… И что ж? Постель в действительности составляет один из наиболее прозаических из предметов всей домашней обстановки нашей. Тайна этого вполне достоверного факта объясняется весьма легко: лежа в постели, мы всего менее упражняем внимание, и жизнь наша в продолжение сна похожа на временное замирание нашего сознания, вспыхивающего лишь временами и столь же мгновенно угасающего среди непробудной тьмы сна и сновидений. Кроме того, ложе наше изменяется беспрерывно по форме и составу своему, так как более мягкие его покровы теряют во время стирки отпечаток вашей нравственной особы. Как изображение предмета рисуется тончайшим слоем на пластинке фотографа, так и нравственный образ чувства, налагаясь на неодушевленное, едва задевает одну линию его поверхности; достаточно бывает слоя лака или легкой окраски, чтобы уничтожить на памятниках как народностей, так и отдельных лиц следы начертанной на них повести, читаемой сердцем людей. Один лишь ум может проникнуть тогда острым взором сквозь грубейшие наслоения и все-таки прочесть нравственное сказание в самой глуби составных частиц предмета. И вот, смотря на ложе наше, мы холодно вспоминаем все связанное с ним, все былое жизни, перебирая его в памяти без трепета и умиления; сердце наше, как уже сказано, затрагивается лишь тем легчайшем слоем, который налагают чувства на предметы близкого употребления. Лакировщик и прачка – враги этой летучей фотографии сердца; святотатственной оказывается рука, которая дерзнула бы белить или раскрашивать почерневший от времени памятник былого, как и рука, которая напомадила бы локон, сокрытый в медальоне в продолжение многих лет.
Мы бываем привязаны к предметам еще иным путем; созерцаем в них отражение дорогих нам личностей и сохраняем их ради связанных с ними воспоминаний. Локон волос, письмо, засохший цветок вызывают вновь давно забытый трепет любви; осколок же мрамора или гранита возбуждает горячее чувство удивления к памяти героя. Вместе с нравственным обликом восстают в памяти и сами черты дорогих сердцу личностей – словом, все чувства общительности.
След страданий, запечатлевшийся тем или иным образом на предметах, придает им тоже немалую цену в наших глазах, доставляя особенного рода наслаждение. Горсть земли, взятая с кладбища, где почивает мать, становится иной раз святыней; иногда платок, смоченный кровью убитого, делается предметом чуть ли не страстного поклонения и любви.
Таким же путем и умственная часть нашего бытия налагает фотографическое изображение свое на близкие нам предметы, согревая их притом всегда лучом сердечного чувства. Ученый бывает страстно привязан к своим книгам; нумизмат рассматривает не без восторга свою коллекцию монет; малаколог не расстанется без сердечного разрыва с собранными им раковинами моллюсков; но холодный отпечаток ума всегда усложняется, притом более теплым чувством любви к науке – чувством, принадлежащим уже к области сердца.
Предаваясь подобным наслаждениям, человек становится расположенным к анализу своего внутреннего мира и к спокойным наслаждениям чувствами сладостными и нежными. Злоупотребления же привязанности ко всему вещественному приводят к развитию себялюбия.
Патологическая область этих наслаждений начинается, следовательно, с той минуты, когда человек начинает чрезмерно предаваться им. Обычный эгоист, не сумевший развить в себе ничего духовного, прилепляется сердцем к тем безжизненным предметам, которые всегда верно и слепо напоминают ему отражение его собственной персоны, не имея возможности ни изменить ему, ни удалиться от него, хотя бы на мгновение, без собственной его на то воли, а главное, не требуя от него ни тени самопожертвования. Вещественные предметы покладисты и он позволяет себе любить их восторженно, не боясь того, что так страшно всякому эгоисту, – обязанности выразить на деле свою привязанность. Старики, всегда склонные к проявлениям эгоизма, начинают иногда предпочитать окружающие их вещи более или менее близким им людям. Когда приязнь к вещественному начинает наводить нас, таким образом, на мысли, не лишенные преступности, мы вступаем уже в область патологических чувствований.
Выражение приязни к вещам и наслаждение, ей внушаемое, соответствуют свойству тех предметов, которыми они возбуждены в нас и потому они изливаются то признаками удивления на лице, то слезами умиления, то ласками, относящимися к связанным с ними воспоминаниям.
Глава XVI. О наслаждениях, происходящих от любви к животным
Предметы неодушевленные не в силах дать нам ничего, кроме вложенных в них впечатлений наших же чувств ума и сердца, материализованных и обусловленных пластической природой самих вещей. Когда же нашим взорам подлежат существа, полные жизни, когда луч от них на нас отраженный, доходит до нас более теплым и более очевидным образом, тогда мы ощущаем удовлетворение наипростейшего чувства общественности – чувства, в котором большая доля принадлежит первому лицу, т. е. собственной нашей личности. Существа, наиболее отдаленные от нас по природе своей, как, например, моллюски, пресмыкающиеся и насекомые, интересуют нас все же более предметов неодушевленных. Мы, положим, и направим на них часть сердечной теплоты своей, но они не в состоянии принять ее, и чувство возвращается к нам застывшим, едва согретым соприкосновением своим к существу, одаренному жизнью. Мы в действительности можем повлиять нравственно и на животных низшего разряда посредством наводимого на них страха, но, становясь в такие отношения к одушевленному существу, мы не можем ожидать, чтобы излившийся из нас эффект возвратился бы к нам обратно усложненным чем-либо или возвышенным. В некоторых исключительных случаях человек будто бы страстно привязывался к муравью, рыбе или таракану, но в обстоятельствах, которые выказывали, что эффект его немногим отличался от прилепления к неодушевленным предметам.
Животное не в силах привязаться к нам, ежели в нем не находится никакого сродства с нашим естеством, хотя бы оно состояло только в общности горячей крови. Тогда только направление взоров наших начинает встречаться с направлением глаз животного, и луч, нисшедший из сердца нашего и обратившийся на него, может возвратиться к нам, усложненный прибавкой к нему чуждого нам элемента. Когда ласкаемая нами канарейка еще не различает нашего голоса и не выражает еще нам никакой любви, мы все-таки уже радуемся сочувственным движениям живого существа и наслаждаемся им. Когда же впоследствии животное начинает отличать наш голос от других звуков и взглядывать на нас, поворачивая к нам головку, мы чувствуем, что мы поняты, и ощущаем действительно чувство взаимного сочувствия со вторым лицом. При этом акте сочувствия мы все еще остаемся наиболее деятельным лицом, но уже и та крошечная доля участия, которую принимает живое существо в чувстве нашем, придает ему характер общественности, резко отличающийся от холодных наслаждений нашего одинокого «Я», более теплые радости, сопровождающие слово «мы», хотя бы это было бы с птичкой. Обоюдные чувства приязни мало-помалу усложняют друг друга, наслаждение все растет и наконец превращается, в общении с домашними животными в действительное чувство любви. И вот собака, признавая наши заботы, лижет нам с благодарностью руки, вскакивает нам на колени и выказывает всевозможным образом свое наслаждение нашим присутствием; а лошадь ржет от радости, заслышав издали наш голос. При этом обмене взаимных ласк не следует ожидать равновесия обоюдных чувств или полного возврата благодарности со стороны животного; в большинстве случаев приходится довольствоваться драхмой возвратного чувства за потоки излитого нами на животное признания, но люди бывают счастливы и тем, что нашли употребление избытку собственного аффекта. Поэтому мы умеем любить и канарейку, зная притом очень хорошо, что восторженная песнь, которой она приветствует наше появление, относится, в сущности, вовсе не к нам, а к тому лакомству, которое птичка привыкла получать из рук наших. Мы дружески ласкаем и журавля, который готов улететь завтра и оставить дом наш, когда он перестает быть приятным для него жилищем. Во всяком случае, приязнь наша возрастает и убавляется по мере выражаемого нами сочувствия животным и по обилию той любви с их стороны, которая в редких случаях превосходит и нашу привязанность к животным, и тогда мы остаемся в долгу у собственного пса или коня своего.
Главное наслаждение, служащее основанием всем радостям, доставляемым нам сближением нашим с животными, состоит в сочувствии, связующем между собой все существа, одаренные жизнью; в этом – простейшее выражение чувства общественности (ежели только это слово не профанируется в применении его к собаке или к журавлю, назвав их вторым лицом). Из-за недостатка другой взаимности люди разговаривают иной раз с птицами, с собакой своей или лошадью, изливая перед ними свои горести и радости своей жизни, как солдат на войне рассматривает за неимением зеркала лицо свое в ведре воды. Нам необходимо бывает видеть в чем-либо отражение нравственной и интеллектуальной личности своей, и вот, заключенные в тюрьме, мы беседуем хотя бы с крысой; свободные же и счастливые, мы изливаем привязанность свою в душу обожающей нас женщины.
Любовь к животным выражается людьми и в положительном, и в отрицательном смысле. Так, одна и та же птичка может доставить нам двоякое наслаждение; мы можем ласкать первую пойманную нами птицу и гладить ее в руке нашей, заключая ее в тюрьму, окруженную заботами и любовью, и, напротив того, мы можем наслаждаться, высвобождая ее из когтей коршуна.
Любовь к животным – чувство весьма слабое, и мы легко жертвуем привязанностями подобного рода более высоким интересам жизни. Чувство это вовсе не мешает нам самим быть и плотоядными животными, и губить миллионы шелковичных червей для роскошного шелкового платья. В некоторых случаях, однако, любовь к животным может возрасти до страстности. Кто не знавал человека, привязанного к собаке? Кто не видал страстного любителя птиц? Эта охота доставляет многим главную утеху жизни.
Эти наслаждения бывают доступны всем возрастам и людям обоего пола и всех стран, но не все одинаково способны предаваться им. Многие из нас не испытали в продолжение жизни ни малейшего пристрастия к собаке, как бы она ни была развита, умна и расположена к привязанности, а между тем подобные люди оказываются вовсе не лишены сочувствия к страданиям себе подобных. Но люди эти считают только человека сродным себе существом и вне собственной породы своей не способны видеть ничего, кроме пригодных для пищи быков, дичи, ими убиваемой, легко разводимых червей и всяких животных. Женщина же, наоборот, простирает пределы любимого ей мира до крайних пределов животного царства, мы часто можем видеть, как она высвобождает мошку из сетей паука и переносит ее в более безопасное место. В это время она вся трепещет от чувства оказанной защиты слабым и угнетенным, полюбив мгновенно крошечное бытие, бьющееся в ее руке, и, следя глазами за полетом бедной мушки, она посылает ей вслед эманацию теплейших пожеланий. Как часто насекомое, утопающее в ручье, заставляет женское сердце трепетать действительным чувством ужаса, и для женщины бывает истинным наслаждением забота о его спасении; старик вообще легче привязывается к животному, чем юноша, весь еще преданный отыскиванию взаимности у людей.
Бывает ли пристрастие к животным признаком сердечной доброты или эгоизма? Вот один из вопросов, часто возникающих у нас.
Некоторые горячо придерживаются того мнения, что человек, восторженно любящий свою собаку, выказывает тем чувствительность и привязчивость своей души; другие же, наоборот, с ужасом вспоминая о жестокой и сварливой старухе, страстно привязанной к скворцу своему или канарейке, утверждают положительно, что любовь к животным бывает признаком полнейшего эгоизма.
Анализируя это чувство, можно усмотреть степень эгоизма, которая, как неизбежная тень, сопровождает лучшие движения нашего сердца. Охотник до птиц, любящий доставляемое ими удовольствие, запирает их в клетку, женщина же, одаренная более нежным чувством любви, нередко выпускает их на свободу.
Наслаждения эти никогда почти не бывают простыми радостями; к ним всегда присоединяются удовольствия поимки, обладания и все прочие разнообразные формы удовлетворения самолюбия.
Птицы, полные движения и горячих порывов, глубоко заинтересовывают наше внимание, и любовь к ним бывает похожа на любовь к младенцу. Как часто, видя прыгающего у ног наших воробушка, мы спешим ему вослед, как бы желая разгадать жизнь, скрывающуюся в этом крошечном, горячем тельце, и приобщить себя, так или иначе, к внутреннему бытию этого маленького существа.
Приязнь наша к более крупным млекопитающим изменяется по личному характеру животного, так как здесь развитие интеллигенции обрисовывает уже нравственную индивидуальность каждого. Аффект, влекущий нас к общению с ними, менее жив в своих внезапных проявлениях, но более страстен, чем пристрастие наше к птицам. Интересует нас в них, уже не красота внешности или грация приемов и движении, сколько интеллигентное общение, отвечающее нашей о них заботливости. Безобразнейшая дворняжка может иной раз возбудить более живую приязнь к себе, чем красивейшая из глупых английских собачонок.
Привязанность к животным может быть усложнена теми же самыми элементами, которыми привлекают нас к себе и неодушевленные предметы. Так, некоторые увлекаются уходом за канарейками потому только, что одна из них увеселяла своими песенками болезненность его раннего детства, и вид этих птичек приводит ему на память и мать, и отцовский дом. Другой не может без удовольствия видеть ворону, так как ему пришлось принести сотни ей подобных на алтарь физиологических опытов и наблюдений. Третий не может завидеть петуха без некоего прилива сердечной благодарности, так как тот случайно разбудил его в то самое мгновение, когда он спал и его хотели ограбить. Один мой знакомый, наконец, всегда приветствовал вид шелкового кокона особенным блеском взгляда и умилением сердца, так как этому драгоценному китайскому переселенцу он был обязан всем богатством своего дома.
Причина, разделяющая привязанности к животным на два столь противоположных стана защитников и врагов, состоит в том, что оба стана смешивают две разновидности этого чувства. Люди с нежными и великодушными чувствами могут любить и животных, но оставляют при этом лучшую долю своей любви братьям по естеству; к дальним сродникам своим из животного мира они ощущают только чувство любовного покровительства, и вот эти-то люди в особенности любят защищать животных от наносимых им обид и притеснений. Другие, напротив того, став эгоистами по преклонности лет или по своей природе, избегая тех сердечных привязанностей, за которыми может последовать нестерпимая для них потребность благодарности, предаются всецело страстной привязанности к собаке, кошке или канарейке и достигают безумной к ним привязанности. К этому второму разряду охотников до представителей животного царства принадлежат безумные и нетерпимые холостяки в париках, утешающиеся нюханием табака и тому подобным, заставляющие собак и кошек целовать и лизать себя, профанируя в среде животных подобие лучших чувств человеческого сердца. Эти страстные охотники до животных любят их с полным эгоизмом; и, укладывая собак своих на мягкие пуховики и укачивая котов на коленях своих, они с яростью в глазах давят жалкое насекомое и хладнокровно смотрят на удар, наносимый мясником в лоб убиваемого быка, потому что они способны к величайшей жестокости к животным, не принадлежащим к возлюбленному их сералю. Посреди этих двух разновидностей записных любителей животного мира – тех людей, которые любят их физиологическим, естественным образом и тех, которые привязаны к ним патологически-болезненно, находится толпа наслаждающихся удовольствиями и того, и другого разряда, страстно возлюбив какое-либо животное и ненавидя всех прочих неповинных тварей.
Выражение всех этих наслаждений не носит определенного характера, так как к животным можно обратиться со всевозможными видами сочувствия и любви. Можно, играя с ними, и улыбаться, и хохотать, и устроить с ними себе беседу, и напевать им песни, и потирать себе руки, и поплясывать около них. Ласка рукой бывает самым естественным выражением любви к животным. Поцелуй бывает выражением здравого чувства только тогда, когда он посылается издали, и всего чаще тем животным, которые не способны отвечать тем же, т. е. птицам; в этом случае нет прелестнее картины, как вид двух розовых губок, играющих с носиком канарейки. Во всех других случаях поцелуй, данный животному, служит признаком болезненности чувства, и я смело бросаю упрек тем женским устам, которые марают себя поцелуем собачьей слюнявой морды. Пусть рот подобной личности не удостоится никогда поцелуя себе подобных. Словом, все чувства общительности способны налагать на предметы свое отражение, и аффект наш в подобных случаях может достигать необычайной степени, доставляя нам весьма сильные наслаждения. Неспособность читать при виде предметов собственных воспоминаний написанную на них повесть всегда служила признаком эгоизма и пошлости сердечной. Ежели позволительна бывает усмешка над человеком, не могущим расстаться без сердечных слез с собственным стулом, то нет возможности сочувствовать тому, кто не умеет прочесть ни единого слова на памятнике сердечной своей привязанности.
Глава XVII. О наслаждениях чувством благоволения
Начав с наименее сложного из аффектов, т. е. с любви человека к самому себе, мы перейдем к аффектам более сложным; бросив беглый взгляд в бесконечную и таинственную область самолюбивых стремлений, мы коснулись любви и к неодушевленным предметам, и к животным – любви, в которой еще преобладает всецело участие первого лица. В настоящую минуту, по естественному ходу дела, нам предстоит заняться любовью к людям, и перед нами открывается наконец нескончаемый кругозор действительной любви, где ярко сияют высшие радости сердца. Здесь чувство дышит горячо и бурно; и вот колеблется уже в руке перо, желавшее, подчинившись неумолимо-холодным велениям разума, спокойно начертать повесть человеческого чувства; но к этому исследованию сердечных гармоний трудно приступить без радостного трепета и страха. Если при анатомическом исследовании сердечных наслаждений задрожит нож в моей руке и ежели во мне при этом заговорит сильнее голос сердца, чем строгое заключение ума, то пусть читатель простит невольное увлечение. Даю слово, что позже, когда блеснет уж седина в волосах моих, когда морщины избороздят мой лоб, я снова примусь за анализ тех же самых чувств, и тогда рука моя будет вернее зондировать фибры сердца, и нож мой вонзится глубоко и смело! Горе юноше, способному анатомировать сердечное чувство без трепета и без капли холодного пота на челе.
Будучи животным, предназначенным для жизни общественной, человек связан общими узами с себе подобными, – и вот природа снабдила его прирожденным чувством, затмевающимся во время бури страстей, но всегда готовым вспыхнуть снова, как только рассеются тучи с человеческого небосклона. Это чувство собирает едва ли не всех людей таинственной телеграфной нитью в одну целую сеть, так что всякое сотрясение, приданное одному человеку, колеблет всю человеческую массу. Горы и моря будто прерывают эту цепь, которая тянется с одного конца земли до другого, и ненависть народностей друг к другу и монархов грубо разрывает эту цепь. Но эманация, исходящая от страждущей или торжествующей народности, от племени, приниженного или идущего в гору, стелется, за недостатком естественных телеграфных путей, порванных насилием человеческим, – стелется медленно, но ровно и спокойно по земной поверхности и все же успевает соединиться в свой черед с тем вечно живым потоком жизни, который испускает семья человеческая, разросшаяся по нескончаемым своим ячейкам.
Иной раз искра гения, сверкнувшая где-нибудь на далеких берегах Азии, идет много столетий по долгому пути своему, но, наконец, все-таки сообщается всему человечеству. На земле не затеряется ни один нравственный ток; он сообщается нам и рождением и воспитанием и сливается таинственным, непонятным для нас образом: и завоевания Александра Великого, и падение Римской империи, и войны крестоносцев. Колебание, начавшееся в Вифлееме чуть не двадцать столетий тому назад, еще и теперь распространяется по ветру. Бурными ли порывистыми скачками, нечувствительным ли движением спокойных токов, малейшее потрясение среди людей сообщает колеблющееся движение всей человеческой семье. Встреча этих трепетных эманаций, столкновение их или сличение и составляют нравственное бытие человеческой расы. В крупных центрах общественной машины, где рабочие теснятся, работая как в муравейнике, искры сыплются непрерывно и, распространяясь по сети железных дорог и телеграфных линий, призывают жителей обоих полушарий к водовороту бурной жизни. До отдаленных колоний эманации, поднявшиеся с этих вольтовых столбов современной цивилизации, доходят медленно и в ослабленном уже виде, не производя уже ни искр, ни сотрясений. Но мало-помалу растет и множится сила электрического столба; телеграфные нити, по которым пробегает мысль человеческая, не перестают размножаться, и уже скоро мы будем в состоянии заставить биться нашею жизнью сердца дикарей Патагонии и Микронезии.
Так или иначе, одно и то же чувство связываешь всегда и везде, человека с человеком вечным узлом людских симпатий. Аффект этот, хотя бы находясь еще в неясном и неопределенном виде, составляет тот общий фон, на котором вырисовываются самые страстные привязанности людей между собой; этот общий фон редко случается видеть в простоте его неопределенной окраски, и сердце человеческое всегда отпечатывает на нем тот или другой более живой и сложный образ. Два человека, встретившись в глуши непроходимых лесов, насладившись этим сближением, удовлетворяют простейшей потребности аффекта ко второму лицу – чувству, которое можно бы назвать человеческим или общественным аффектом. Но это наслаждение редко остается в первобытной несложной простоте своей: колебание, приданное встречей обоюдному чувству, вызывает немедленно другие аффекты, которые или изгоняют первый, или еще более укрывают его. Так, если двое людей, встретившись, пугаются друг друга, то чувство самосохранения превозмогает все радости свидания, и они расходятся, готовясь к самозащите. Если, наоборот, две встретившиеся личности владеют одним и тем же языком, то они, входя в общение друг с другом, присоединяют к удовлетворенному чувству общественности еще умственное наслаждение от обмена мысли.
Это первобытное чувство может быть удовлетворяемо двояким образом – пассивным или активным наслаждением. Аффект общественности бывает удовлетворен в нас всякий раз, когда мы словно уделяем долю нашей жизни другому человеку; всякий раз, когда мы, например, сообща рассматриваем один и тот же незнакомый нам предмет. Таинственное участие этого чувства во всех наших радостях выражается собирательным словом «общество» (compagnie), но определить точное значение этого слова весьма трудно. Как во всех телах находится скрытым какой-либо невесомый элемент, так во все наши наслаждения входит необходимым элементом аффект общественности; при самых обособленных, по-видимому, наслаждениях мы все же непроизвольно чувствуем и наслаждаемся в сообществе образа, находящегося вне нас. Себялюбец силится обособить себя от всех людей, но он все же остается членом общества, сообщаясь с которым, он должен и страдать, и наслаждаться. Изолированный человек может существовать физически, но не нравственно; потому что совершенно физиологический человек социален и живет сообща в семье человеческой, как бы ни избегал он ее.
Находясь вблизи своего собрата, человек чувствует его присутствие и, несмотря на него, непроизвольно входит с ним в некоторое общение. Предположив существование человека, лишенного всех внешних чувств, кроме ощущения вкуса, представим себе его сидящим за обедом вместе с другими лицами: он чувствовал бы все-таки близ себя присутствие себе подобных и радовался бы их сообществу. Он не видит и не слышит товарищей своих, но знает, что, находясь в присутствии себе подобных, наслаждается их обществом.
Чувство общественности не имеет определенного характера, пока оно находится только в состоянии пассивной способности, но оно принимает определенный образ, переходя в деятельную силу. При переходе этом оно принимает характер, общий всем аффектам ко второму лицу. Эгоист и гордец способны действовать со страстью и увлечением для удовлетворения любимой страсти, но они всегда ставят себя целью своих деяний; человек же, любящий, так или иначе, собрата своего, видит удовлетворение в радости, вне его находящейся, наслаждаясь видом чужих наслаждений и радуясь веселью, доставленному им другому человеку.
Между наслаждениями активного и пассивного рода, доставляемыми чувством человеческой общественности, оказываются еще чувствования смешанные. Они служат как бы переходным звеном между теми и другими, из них самая определившаяся форма состоит в наслаждении чужой радостью и в сострадании к горю другого человека. Можно подумать что первое, т. е. наслаждение чужой радостью, доставляет наслаждение более эгоистическое, чем второе, т. е. сострадание чужому горю; но, вникая глубже в обычные людям чувства, мы нередко удостоверяемся в совершенно противном. Здесь могучим двигателем является самолюбие, которое, извращая естественный порядок вещей, побуждает нас печалиться чужой радости и радоваться чужому страданию. И вот для наслаждения чужим счастьем становится необходимым возбуждать более горячее чувство общественности, могущее изгнать из человеческого сердца возмутившееся было в нем самолюбие. Когда же мы видим страдания ближнего, тогда удовлетворяется вполне то самое скрытое в глубине души злобное эгоистическое чувство; его изгоняют, но оно все же занесло свой яд в душу, медленно уступая состраданию слабому и холодному, не ведущему к какому бы то ни было самопожертвованию. Чтобы человек способен был радоваться чужому счастью, ему необходимо ощущение сбавить нечто из собственной индивидуальности не только на один уровень с собой, возвысив его, хотя бы временно, над собой. А это бывает многим не по вкусу. Человек, являющий сострадание, напротив того, ставит себя непроизвольно, а иногда и бессознательно, выше страждущего собрата и с этой воображаемой высоты своей опускает на него лучи сердечного сожаления как некий драгоценный дар. Аффект переходит в движение, когда страждущему оказывается помощь; но в этом случае сожаление, всегда остающееся в области теории, переходит уже в благодеяние и благотворительность.
Сожаление – самое распространенное из всех аффектов, обращаемых ко второму лицу; основанное на присущем всем людям чувстве общительности, сострадание покидает сердце человеческое только тогда, когда это сердце заражено уже эгоизмом в самых его отвратительных и чудовищных размерах. Но и отчаянный эгоист, никогда не сделавший бескорыстно доброго дела, и тот дозволяет себе иной раз взглянуть на страдальца со слезами жалости на глазах. Это наслаждение жалостью почти уже не заключает в себе ничего печального в подобных менее благородных своих проявлениях сострадания, в которых оно почти всегда бывает сопряжено с удовлетворением собственного самолюбия. Но и тогда, когда сожаление зарождается в великодушном сердце, и тогда ощущается наименее грустное и горькое из всех страданий человеческой души.
Наслаждение, возникшее в нас чувством сострадания, проявляется в идеальной форме своей, когда в театре или при чтении книги мы сочувствуем актеру или небывалому романическому герою. Тогда, при совершенной невозможности помочь несчастному, совесть не претит нашему удовольствию, и мы всецело предаемся чувству сострадания, удовлетворяющему и чувствительности, и себялюбию нашему.
При проявлении чувства сострадания лицо принимает выражение страдания, что и объясняется составом самого слова.
Глава XVIII. О наслаждениях чувством общения. О радостях гостеприимства, благодеяния и принесения жертвы
Некоторые философы проводят различие между любовью к людям и чувством постоянного к ним благоволения. Но в действительности это – проявление одной и той же силы. Обе могут существовать и как внутреннее чувство, и как могучий двигатель человеческих деяний.
Мы радуемся сближению с себе подобными; присущее нам желание общения удовлетворяется сердечными эманациями, проступающими к нам от окружающих нас людей; впитывая их в собственную душу, наслаждаемся тогда чувством блаженного покоя. Когда же аффект, производимый в нас подобными впечатлениями, доходит до большей интенсивности, нас начинает охватывать сильнейшее стремление открыть другим людям сокровища собственного сердца, и мы невольно заявляем о находящейся в нас силе любви, готовой удовлетворять нужды других и, так или иначе, доставить им удовольствие. Эта потребность экспансивности образует весь философский смысл тех употребляемых нами в наших отношениях учтивых и ласковых выражений, которыми мы заявляем людям о нашем к ним расположении: к ним принадлежат поклоны, ласки, поцелуи и весь громадный запас внешних демонстраций, любезностей и приветствий, со всем разнообразием их физиологических и патологических форм. При неожиданной встрече двух личностей среди лесной глуши первым выражением приятного удивления с обеих сторон был, вероятно, обоюдный поклон, затем последовало дружеское пожатие руки – обычай столь же древний, как и само человечество на земле.
Если две повстречавшиеся таким образом личности пойдут далее одной дорогой и на пути их окажется, предположим, колючий терн, и один из путников нагнется и отбросит вредный куст, чтобы идущий сзади не повредил себе ноги, то другой, заметив такую услугу товарища, ответит на нее улыбкой благодарности и признания.
Так мог установиться первый и несложный обмен взаимных любезностей между людьми; первому из путников удалось при этом привести в дело специальный аффект, другому выпало на долю и первое заявление чувства благодарности.
Гостеприимство составляет уже более сложный способ удовлетворения чувства общественности; оно должно было возникнуть в душе при первом обособлении людей по очагам и семьям. Заставляя нас принять усталого путника, гостеприимство побуждает нас выразить свое расположение нежнейшей о нем заботливостью. Эта услуга человека человеку не зависит ни от возраста или пола, ни от кровных или племенных уз. Вот почему гостеприимство оказывается как бы прирожденным дикарю, для которого оно замещает все проявления благотворения и филантропии, на которые распадается впоследствии это единственное чисто человеческое чувство. Это простое выражение социального аффекта пережило цивилизации и всякие строи человеческой жизни.
Находясь в доме, одиноко стоящем в поле, всякий хозяин спешит с радостью отворить дверь путнику, застигнутому бурей, являя таким образом акт гостеприимных услуг, которые радовали древних праотцев. В крупных городах нищий, стучащийся в дверь нашу, должен часто уходить с мелкой монетой, ему брошенной, и нередко – с укором подавшего; тем не менее и эти города продолжают дело человеческой любви, и все тому же первобытному чувству гостеприимности они обязаны основанием своих странноприимных приютов и благотворительных учреждений.
Гостеприимство составляет весьма сложную формулу, заслуживающую более близкого и более глубокого изучения, так как в ней содержится множество разнообразных способов выражать на деле ту приязнь к людям, которая прирожденна всем нам.
При встрече двух людей кратчайшим выражением обоюдного удовольствия бывает поклон со всеми его видоизменениями. Мы, правда, кланяемся или снимаем шапку и при виде человека, ненавистного нам или презираемого нами, но в таком случае притворный привет принадлежит к области аффектов патологических, а мы в настоящее время всецело заняты выражением чувства истинной общественности.
Приветствуя человека наклоном головы, движением руки или поцелуем, мы осведомляемся у него о его ближних и о делах его, и, вглядываясь ему в лицо ласковыми взорами, мы сочувственно ему улыбаемся или печалимся с ним. В разговоре двух людей может проявиться целый мир сердечного наслаждения как следствие потребности общения. Говорящий читает в глазах собеседника рефлекс собственных речей и, встретив отблеск хотя бы минутного участия, становится более готовым к улыбкам и менее склонным к печали. Слушающий же наслаждается теплотой собственного сочувствия и, не переставая следить за нитью рассказа, говорить и отвечать взорами и выражением лица; оба сливаются на время чувствами в чудный аккорд, ежеминутно изменяющийся и по быстроте темпа, и по музыкальности звуков, но всегда восхитительный для человека, понимающего значение обмена чувств и мыслей. Поток страстных и бурных речей сменяется медленными звуками голосов, дрогнувших от умиления; глубокие вздохи чередуются не менее красноречивыми минутами обоюдного молчания; за веселыми раскатами смеха следует спокойное выслушивание тихого рассказа. И во все это время взор собеседника следит за устами говорящего: то взволнованно, то спокойно, то сияя тихой радостью, то отуманенные слезой участия, они впивают в себя во время беседы излияние сочувственной души. Иной раз люди, случайно встретившиеся, с сердцем, переполненным глубокого чувства, сразу понимают друг друга и, расставаясь навсегда, крепко жмут друг другу руки с чувством, полным дружелюбия и приязни.
Часто бывает достаточно одного слова или взгляда, чтобы погрузить два сердца в сладостный восторг негасимой любви: так два потока сбегают, ярясь и пенясь, с противоположных гор, но встретившись, дружно текут, вливаясь в тихое озеро. Если возможно без профанации сердечных чувств облечь в формулу, взятую из мира физического, радость двух людей, утоляющих оживленной беседой потребность свою в общении, то я уподобил бы разговор их с обменом двух нравственно разнородных электрических токов и сказал бы, что наслаждение разговором порождается стремлением к взаимному уравновешиванию двух противоположных элементов, ищущих сближения между собой и окончательного слияния.
Когда, будучи удручен печалью, один из собеседников бывает успокоен словами другого, тогда ему оказано действительное нравственное вспоможение: им получена та словесная милостыня, которую называют утешением. Наслаждения же того, кто, утоляя собственную потребность общения, утешает собрата, бывают весьма различны и по степени, и по самой сути своей. Эгоист, не сочувствующий нимало печали товарища, произносит, однако, по обязанности общежития, несколько холодных и общих фраз, не стоивших ему ни напряжения ума, ни жертвы временем; эгоист возвращается домой с едва приметным легким чувством удовлетворения законов учтивости, не требовавшим сердечных чувств общения. Но человек великодушный, тронутый печальной повестью собрата, крепко жмет руку страждущего, с энергией и умилением в голосе внушая ему надежду и ободрение; такой человек переполняется бесконечной радостью, потому что, произнося свое «надейся!» и он дает самому себе слово сделать все возможное, чтобы утешить и ободрить несчастного. Одно слово иной раз, одно немое пожатие руки облегчает уже накопившуюся в сердце грусть и делает навсегда друзьями малознакомых между собой людей.
Дружелюбно принятый под гостеприимный кров хижины дикаря или королевского дворца, все равно, рассказывает о своей более или менее печальной судьбе; хозяевам удается облегчить его страдания, и здесь оказывается уже вполне удовлетворенной потребность человеческая в общении с другими; здесь и утешили, и оказали благодеяние. Вынимающий колючий терн из ноги брата, или защищающий его от нападения, или подающий пищу голодному делает, таким образом, первый шаг по пути благодеяний, ощущая притом чистейшее и живейшее наслаждение чувства общественности, выказавшегося уже не словом, а делом; выражаясь иначе, он наслаждается любовью к ближнему. Это высшее из наслаждений жизни соразмеряется и с радостью облагодетельствованная, и с теми усилиями, которыми обусловлено благодеяние; степень комбинации этих двух необходимых элементов всякого доброго дела придает ему ту нравственную оценку, градации которой разнообразны до бесконечности. На нуле этого термометра нравственной оценки мы встречаем эгоиста, которому случайно, без труда и пожертвований, удалось дело полезное и который бесконечно радуется тому, что так дешево заслужил благодарность людей и попал в благодетели человечества. В этой радости себялюбца едва ли участвует аффект общественности, и наслаждение его принадлежит всецело к области тех аффектов одиноко стоящего первого лица, о которых говорено выше.
Поднимаясь выше этого нуля по линии достоинств, мы находим те благодеяния, которые, выполняясь с непомерными усилиями, но с весьма малыми жертвами со стороны раздающего, всегда усложнены примесью самолюбия. Поднявшись еще на несколько градусов, мы видим примесь тщеславия и самолюбия весьма уменьшенного; благодетели довольствуются здесь добываемой ими премией благодарности. На высшей же ступени этой лестницы добра находится уже то чистейшее радование, которое соразмеряется единственно с величием самопожертвования и находит себе награду в себе самом, т. е. всецело в сердечном наслаждении дающего. Немногие доходят до подобной чистоты и величия намерений, но чувства этих немногих сияют так лучезарно, что светом их озаряется все человечество, которое радуется присутствию в своей среде этих ангелов, возвышающих человеческое достоинство, униженное в лице уродов эгоизма и подлости.
Весьма труден анализ самопожертвования, и невольно дрожишь, приступая к нему. Трудясь над неблагодарной задачей, исследователь слышит циничный шепот эгоиста, не перестающего шипеть ему на ухо, что в самопожертвовании вовсе нет достоинства, что человек творит добро только для того, чтобы вкусить высшее наслаждение, или предпочитаемое всем другим по особенному устроению его мозговой организации. Но этот смех, эти софизмы не отвлекут физиолога от его труда; он знает, что среди трепещущих фибр человеческого сердца отыщется ему удостоверение, что истина – всегда к добру и что философия никогда не окажется врагом нравственности.
Человек, приносящий себя в жертву для счастья других, действительно испытывает громадное наслаждение, но не эта финальная радость бывает целью его деяний; ему предстоит страшный путь, путь Голгофы и ее страданий, прежде чем достигнет он тех наслаждений, которые бывают всегда наградой победителя. Сердце человека забилось жалостью при виде страданий ближнего, и он готов для его спасения броситься в пучину бед, но между им и бездной восстает эгоизм. Это – страшнейшее из нравственных чудищ; оно залегает на его пути и, указывая на бездонную глубь, сверкает перед очами его страшнейшим из своих орудий – любовью к жизни. Он смущен и, приостановившись, заливается слезами; он молит небо, чтобы оно возобновило для него чудо, свершившееся в битве Давида с Голиафом. И вот он победил гиганта и раздавил его, но свирепа и жестока была битва, тяжки были наносимые раны; и когда затем он начал подавать руку помощи страждущим, тогда он предварительно утер пот усталого чела и утолил кровь душевных язв, чтобы, получая вспоможение, страдалец не чувствовал тягости благодарности, считая услугу благодетеля делом легким и естественным, а не результатом борьбы и уязвлений. Надо думать, что в эти минуты невидимый ангел налагал целительный и сладостный бальзам на его раны, и он наслаждался высочайшей из радостей, данных человеку; но он не искал этой награды: он стал только достоин ее утех, сокрыв от людей лицемерием геройство, тяжелую и долгую борьбу собственной души. На похвалы окружающих он ответил бы с простодушием истинного величия: «Я выполнил только долг свой». Пусть окажется справедливым слово, что люди иной раз творят добро из жажды высших наслаждений, – что в том нужды? Пусть только все человечество ищет подобных радостей, и настанет тогда рай и на земле! Но, тем не менее, и тогда будут избранные души продолжать свою борьбу и преодолевать свои страдания, становясь и тогда самоцветными камнями, украшающими глиняный кумир человечества. Людям же посредственным не следует приходить от того в уныние: найдутся жертвы, приноровленные к силам и душевным средствам каждого; и тем, которым не суждено улыбаться посреди агонии мучений за благо человечества всегда возможно провести лишний бессонный час ради пользы брата, заставляя хотя бы на минуту умолкнуть вопиющий в них голос себялюбия.
Из всех сердечных наслаждений радости самопожертвования бывают выше и полнее. Все подлежащие нашему рассмотрению чувства общественности способны привести к жертвам, всегда и везде составляющим чистейшее и величайшее выражение всякого сильного аффекта. Человек, доведший себя до принесения себя жертвой на алтарь сердечного чувства, представляет самое поразительное зрелище нравственного мира; при виде его мы имеем сразу перед глазами всю повесть человеческого сердца. Если мы бы могли поставить перед собою какой-нибудь телескоп или микроскоп, мы могли бы единовременно измерять собственную ничтожность с громадностью нравственного горизонта, перед нами лежащего. Хотим ли мы или нет, мы все же становимся соучастниками или хотя бы трепещущими зрителями страшной борьбы, непрестанно происходящей в нравственном мире, борьбы добра со злом, не переставая всю жизнь дрожать от страха за участь любимого борца. Вид чувства, поборовшего эгоизм, составляет самое грациозное зрелище из всех проявляющихся нам панорам нравственного мира. Отъявленный эгоист не знает иных радостей этого рода, кроме весьма бледных наслаждений общежития и так называемые «общества». Другие же, напротив того, умеют радоваться всю жизнь, посвящая ее благодеяниям и самопожертвованию.
Чувство благоволения к людям на словах и в деле не налагает на лицо человеческое иного отпечатка, кроме выражения спокойствия и ясности. Но иногда наслаждение стремится выразиться во всем существе нашем, и тогда усилием геройского лицемерия человек скрывает радость в своем сердце, дабы облагодетельствованный не мог предположить в нем ни борьбы, ни победы над собой, а видел бы в благодеянии только простую и весьма естественную передачу средств. Но обычные подвиги самопожертвования придают лицу нечто ангелоподобное, особенный характер, по которому с первого взгляда познается человек всегда благоволящий и щедрый.
Чувство общественности не может вовсе переходить в область патологий; изменяя природе своей, оно тем самым перестает и существовать. Но иногда оно может, присоединяясь к вредоносному аффекту, доставить людям некие болезненные наслаждения. Человек сохраняет чувство общественности и среди степей, и среди многолюдных городов, в трактирах и среди оргий, так же как и в одиночестве кабинета, и в залах филантропических собраний. И потому кутящий способен наслаждаться обществом себе подобных, убийца же иной раз радуется, совершая свое преступление не в одиночку, а в обществе своих сотоварищей.
Щедрость тщеславного, похвалы низких людей и предательские ласки бывают только личиной чувства; наслаждение же следует только за удовлетворением великодушной сердечной потребности. Некоторые выражения, переданные нам обычаями древних поколений, вошли в непременный состав языков и наречий. Таким образом искренний и великодушный человек, принужденный иногда произносить обычные своему языку лестные слова, невольно комментирует ими низкие чувства своих праотцев.
Глава XIX. О наслаждениях дружбы
Чувство общественности, одинаково обращаемое нами на всех людей, доставляет нам, при одинаковых нравственных и физических условиях, наслаждения весьма различные, смотря по тому, насколько симпатичен нам внушающий его человек. Не умея объяснить себе причины нашего увлечения, мы иногда при первом взгляде на человека чувствуем особенное удовольствие, находя его красивым и любезным, чувствуя к нему невольное влечение и ощущая потребность выказать ему приязнь и стать к нему по возможности ближе. По большей части, подобная симпатия двух личностей зарождается с обеих сторон; взглядами они уже передают друг другу нравственный образ свой, радуясь обоюдному пониманию. Тогда наслаждение, порожденное лицезрением, заставляет желать частых и долгих свиданий; люди стараются встретиться, разговориться, и становятся друзьями.
Всегда присущее нам чувство общественности может оживиться на время, доставить нам минуту наслаждения и снова возвратиться к обычному состоянию покоя. Так, погруженные в глубокое научное раздумье или в созерцание необычайного зрелища природы, мы слышим иной раз голос нищего, просящего милостыню. Чувство общественности, возбужденное слуховым ощущением, заставляет нас открыть кошелек, и, подавая монетку нищему и читая на лице его выражение благодарной радости, мы на мгновение наслаждаемся. Но искра радости тут же мгновенно потухает в нас, и, продолжая прогулку свою, мы не чувствуем себя ни в малейшем нравственном общении с человеком, участь которого была облегчена нами. Но ежели и на следующий день мы заслышим на том же самом месте жалобный голос нищего, то мы, открывая снова кошелек, почувствуем уже некоторое начало аффекта; искра радости может уже стать током, и мы представим себе облик нищего и его благодарный взор с чувством приязненности и удовольствия. И нищий, со своей стороны, сумеет распознать в той милостыне след теплого аффекта, а не леденящего влияния тщеславия; он станет приветствовать издали приближение ваше, с улыбкой адресованной вам, знакомой и уже в некоторой степени вам дорогой. Как ни скоротечны и ни поверхностны эти связавшие вас отношения, повторяясь, они, однако, могут привести к чувству приязни и к некоторого рода дружбе.
Сочувствие и оказание обоюдной приязни – вот два источника дружбы, которую, по сути ее, можно бы назвать обоюдным обменом теплейших чувств общественности.
Когда двое людей не перестают обмениваться искрами социальных радостей, тогда искры эти, перейдя в непрерывный ток, составят атмосферу любви, обнимающую оба существа. Тогда любящий человек начинает жить отчасти двойной жизнью и, неся в себе образ друга, чувствовать близ себя сердце, которому передается каждый трепет его собственной души.
Обычная людям мания приводить к единству разнообразное и упрощать сложное привела к тому, что философы, желая отыскать основание чувства дружбы, спорят о причинах, ее обусловливающих. По мнению одних, для сближения двух друзей необходима полная идентичность всего нравственного бытия; по заверениям других, людей склоняет к дружбе противоположность их характеров и темпераментов. Третьи же, наблюдавшие более усердно людей, окружавших их, предполагают, что друг должен быть дополнением своего друга, и что свойства обоих, суммированные в одно целое, должны составить гармоническую единицу, более или менее совершенную. Стоит осмотреться около себя, чтобы видеть, что дружба между людьми проистекает из самых разнообразных источников, и что, любя простор и свободу, дружба бродит по широкому полю обителей человеческих, рассеивая богатые дары свои и на сходных между собой людей, и на людей весьма противоположного нрава.
Не все, разумеется, люди способны подружиться; необходимы до некоторой степени и близость возраста, и подходящая степень чувства и ума. Возраст составляет наиболее непременное условие; годы приносят столько изменений в бедной природе нашей, что и мы сами могли бы едва признать самих себя, если бы перед глазами нашими могло дефилировать и наше младенческое «Я», и «Я» юношества, и «Я» зрелых лет и старости. Люди разного возраста говорят по большей части языком непонятным друг для друга, они идут разными жизненными тропами и живут под сводами различных небес. Чтобы понимать друг друга, старик и юноша должны соблюдать правила перспективы и соблюдать дистанцию, а друг любит иметь друга близ себя, держа его за руку и прижимая его к своей груди.
Как возраст, так и нравственное или умственное расстояние может поставить непреодолимую преграду чувству дружбы. Взаимное влечение может осилить это последнее препятствие. Обаятельная сила гения может мало-помалу приблизить к себе человека, затерявшегося без этой помощи в толпе посредственных людей; теплая эманация, которою дышит любящее сердце чувствительного человека, согревает понемногу и притягивает в благоуханную атмосферу своего сближения холодного циника, который до тех пор шествовал одиноко по менее утоптанным дорогам.
Вот один из наиболее дивных и совершенных образов сближения друзей: человек с широким и возвышенным сердцем, вовсе не подозревающим величия собственной души, видит вдалеке ярко горящий светоч, освещающий все вокруг себя. Присущая всем жажда света понуждает и его стать ближе к сиянию гения; любуясь и не завидуя, он радуется проникающим в его мозги ясности и свету, но, не ощущая усталости, не замечая и в области собственного ума сокровища, ему дотоле неизвестные, и вот он возвышает собственную себе оценку и радуется ей. Он не остается, однако, принимающим только, но становится обильно одаряющим нового друга, осыпая его всеми богатствами своего сердца. Как ни светло, ясно и блистательно сияет на земле умственный светоч, он горит, однако, холодным пламенем, и тот, кто потрясает в пространстве умственным факелом, озаряя пути людей, сам иной раз дрожит от леденящего внутреннего холода. И он бесконечно радуется, ощущая соприкосновение нескончаемой сердечной теплоты и, обливая друга светом, согревается и любит. Гения увлекает в области собственного мышления сердце, удержанное дотоле в пыли недоверием к себе и глубиной излишнего смирения. Чувство же, вливая в себя яркий луч ума, радуется и дивуется тому, что и оно может глядеть на сияние света, не мигая умственными очами. Гениальность, обнимающая в лице друга сердечное чувство, – вот действительный и полнейший апофеоз дружбы человеческой.
Для существования подобной дружбы необходимо сердце, переполненное столь грандиозными чувствами, что к нему не могла бы вовсе приступиться зависть; необходим ум столь обширный и великий, что простодушие друга не в силах было бы вызвать в нем улыбок сожаления.
Дружба порождается иногда аккордом двух живых страстей, устремленных к одной и той же цели. Продумав немало над задачей жизни, ученый избирает себе собственный, более или менее обособленный путь; он спешит по нему, нахлобучив на глаза шапку и не видя ничего впереди, кроме своей цели; он торопится, трудясь в поте лица своего, и внезапно наталкивается на собрата по труду и по цели. Оба великодушны, притом и зависти не бывает места среди людей, всецело преданных достижению одной цели; они с горячностью пожимают друг другу руки и становятся друзьями. Ассоциация труда, братство мысли и мнений, служба под веянием одного и того же знамени – вот достаточные причины для возникновения дружбы. И все подобные случаи дружбы легко группируются в один и тот же отдел. Самая противоположность между характерами и темпераментами иногда побуждает людей к дружественному сближению. Великодушный, но вспыльчивый находит в терпеливом друге добровольную жертву вспышкам своего гнева. Придирчивый и страстный охотник до спора полемизирования, ненавидящий притом противоречие субъекта, радуется присутствию близ себя уступчивого и спокойного друга. Человек же вполне щедрый и великодушный льнет иной раз к эгоисту, радуясь возможности переливать обилие сердечного чувства в пустоту его души, обожает кумир и алтарь, на котором можно воскурить переполняющее его обилие фимиама и сердечных ласк. Много фолиантов можно бы исписать на эту тему. Все книги, рассуждающие о сердце человеческом и о пристрастиях его, многотомные ли трактаты или легкие брошюры, – все равно; все подобные сочинения – только фрагменты великого предстоящего человеку труда; это – камушки и осколки той величавой мозаики, которую никто до сих пор не мог еще разгадать.
Заканчивая эти немногие слова о возникновении дружественных отношений между людьми, скажу, что главным и первым условием дружбы бывает взаимное понимание друг друга. Нет надобности, чтобы становились вполне идентичными образ мышления и чувства дружащих; необходимо, чтобы существовало соглашение в интегральной части человеческих мнений, составляющих как бы основу нравственных убеждений. Друзья могут спорить между собой до бесконечности о расположении орнаментов, но главный план здания должен быть установлен одинаково. Проспорив до бесконечности о рискованнейших мировых теориях, способных ниспровергнуть колоссальные построения идей, оба друга должны быть в состоянии пожать друг другу руки и сказать: «Мы оба с тобой – люди честные!» Обременив друг друга едкими выговорами и даже обменявшись обидными словами, друзья бывают способны заявить себе от полноты души: «Мы любим друг друга с прежней горячностью, и поколебать нашу дружбу не могут никакие бури, никакая непогода».
Происходя из одних и тех же причин с обеих сторон, дружба обоих может быть весьма различна. Умственное величие гораздо менее способно возвысить дружбу, чем сердечная теплота, и одно по крайней мере из двух сердец должно биться от постоянного наплыва горячих чувств, способных не уменьшиться и не охладеть от первого столкновения между друзьями. Между двумя людьми, одинаково великими, но бессердечными, дружба не может иметь места; между личностями же с любящим горячим сердцем пламя дружбы может гореть, распространяя сильный и блестящий свет. Во всех видах и формах своих дружба всегда остается чувством благородным и высоким; профанируемая устами многих, дружба, однако, никогда не бывает уделом низких и развращенных душ.
Эгоисты не способны к дружбе, но иногда им прощают друзья узость души их, ввиду широты их умственного кругозора. Фантасмагория гениального себялюбца и вечная игра воображения принимается друзьями за сердечный привет, и люди льнут иногда и к холодной душе умственного эгоиста.
Наслаждения дружбы неисчислимы; хотя они и носят на себе особенный отпечаток, но они в сущности своей только продолжение общечеловеческого чувства благосклонности и приязни. Наслаждение, объединяющее все меньшие радости дружбы как бы в одну общую атмосферу покоя и счастья, состоит в сознании своей неодинаковости на земле, и только в счастье жить двойною жизнью и ощущениями другого человека и собственной нравственной деятельностью отражаемого в сердце друга. С той самой минуты, когда две личности пожали друг другу руки, малейшее движение одного отдается в душе другого соучастника в каждом стремлении и деле; живя, таким образом, жизнью, общей обоим, они невольно вдыхают в себя эманацию двух сознаний. Эта общность идей и аффектов придает удивительную прелесть самым заурядным, обыденным занятиям, совершаемым вдвоем. Дружба в этом случае, исполняя дело искусного маляра, покрывает все предметы блестящим лаком, при помощи которого оба друга видят улыбающийся образ свой. Из этого источника сближений происходят все те мелкие утехи, которые составляют как бы насущный хлеб дружбы.
Спокойные, но очаровательные наслаждения эти, придавая необычайную привлекательность течению всего дня, заставляют нас относиться равнодушно к тем мелким булавочным уколам, которыми изобилует жизнь каждого человека. От первой зевоты, которая при пробуждении знаменует начало его радостного дня, до последнего потягивания усталого человека, заканчивающего утомительный, но бесполезный день, всесильная помощь друга не перестает утешать, забавлять нас и доставлять всевозможное развлечение скучающему другу. Иной раз приятель прерывает грустную думу нашу дерзким, дружеским щелчком, или развеивает горе шуточной с нами борьбой, или, внезапно принимая на себя роль ментора и родной матери, приказывает нам прогуляться с ним и посмеяться его смеху. Кто может исчислить все те самоцветные дорогие камешки, которыми утешаются на пути своем двое друзей, пребывающих вдвоем, среди теплой атмосферы чувства, окружающей и изолирующей их от остального мира? Кто опишет нескончаемые радости разговора, длившегося до самой зари; беседы, для которой никто не изобретал ни тезисов, ни аргументов, и в которой проводится перед мысленными очами весь мир сердечных чувств и воспоминаний; беседы, в продолжение которой друзья и вздыхают, и смеются, и молча смотрят друг на друга, приподнимаясь для расставания и снова присаживаясь для новых излияний?
Если бы, записывая здесь повесть о наслаждениях человеческих, мне предстояло бы наполнить ими не страницы тонкой книжки, но целый ряд томов, то и тогда самую толстую из них я посвятил бы описанию неисчислимых радостей дружбы, и перо мое, поверьте, не остановилось бы ни на минуту за недостатком материала; скажу здесь, не боясь обвинения в легкомыслии к самонадеянности, что я наслаждался в продолжение жизни такими несметными сокровищами дружбы, о которых человек может только мечтать! О, милые друзья мои, примите здесь живший привет мой! Приязнь ваша была для меня лучшим и благостным цветком на пути жизни; сохраните мне, умоляю вас, вашу прежнюю любовь! Дружба ваша послужит мне путеводной звездой, указывающей мне путь добра и чести, поддерживая меня в вечной жизненной борьбе. И ежели я и в последний день мой окажусь еще достойным пожатия вашей руки, то я скажу, что жизнь моя не протекла напрасно.
Кому случилось испытать хотя бы одно из сильнейших наслаждений дружбы, тот будет до старости лишь вспоминать о подобных минутах с сердечным умилением. Чье сердце не затрепещет снова, представляя себе отблеск избранного брата, разлученного с ним на долгие годы громадным пространством морей и внезапно, неожиданно представшего перед ним целым, невредимым и полным горячей, прежней любви? В эту минуту не забытые еще последние объятья снова охватывают грудь и все воспоминания былого. Глаза вперяются во взоры друга, но между ним стоит, как туман, пелена горячих слез. Уста дрожат и не могут произнести ни слова, сливаясь в один могучий, нескончаемый поток. Руки обнимают друга, прижимая одно к другому два трепетно бьющихся сердца. Раздаются и вздохи, и смех, и сдержанные рыдания, речи без смысла и стройности… но нужды нет! Сладостный бред таких мгновений подобен временному безумию радости и целой бури страстей. Кто не любил таким образом, кто не испытывал столь сильного бреда нравственной горячки, тот пусть поверит мне на слово, пусть не сочтет сие описание радости дружеского свидания слишком преувеличенным или неверным.
Второе; может быть, сильнейшее наслаждение дружбы состоит в утешениях, ей подаваемых во времена невзгод и отчаяния, хотя на языке философском подобные наслаждения и причисляются, как только утоляющие страдания, к наслаждениям отрицательного свойства.
Человека захватила в водоворот свой одна из обычных житейских бурь, ладью его, напрасно боровшуюся с напором волн, отбросило на утес, и он выброшен на камни среди морской пучины. Человек потерпел полнейшее крушение. Нет нужды знать, откуда дует ветер, сокрушивший его ладью и разорвавший его паруса.
Была ли то людская зависть или просто решение жестокой судьбы? Чужое ли вероломство сгубило его или разгар собственных страстей?.. Не все ли равно?.. Но он лежит, истерзан, недвижим, чувствуя, как спазмы жгучей боли въедаются в мозги костей, как на одинокой отчаянной голове его встают дыбом волосы… Но чья же рука, бережно подняв отчаянного, согревает сокрушенного на собственной груди? Чей жалостливый лик, нагнувшись над несчастным, успокаивает в нем мало-помалу агонию взволнованных страстей и усыпляет горюющего на коленах своих, улыбаясь ему как мать, убаюкивающая первенца в его ребячьей колыбели? Друг прислушивается к судорожным вздохам спящего и сторожит его дыхание. Друг пишет проснувшемуся слова любви и утешения…
Одних наслаждений дружбы бывает иногда достаточно, чтобы люди в отчаянии снова привязались к жизни и, излечившись от горького недуга уныния, снова предались труду и новой деятельности. Когда сердце наше стало равнодушным ко всем людям без исключения, когда мы начали уже ценить людей по мере выгод, им нами доставляемых, тогда действительно пора нам приступать к похоронам собственного сердца. Оно помертвело в нас, оно окончательно мертво, и ничто земное уже не в силах воскресить его.
Мелкие радости дружбы могут наполнять и услаждать существование младенца и отрока, но высшие утехи ее свойственны только юноше, человеку в зрелых летах и старику. Дружба горячее чувствуется во время жизненной весны, но и старец, сохранивший до дряхлых лет теплоту собственной души, может наслаждаться узами нежнейшего чувства.
Женщина менее мужчины способна насладиться сокровищами дружбы, так как владычествующая над ее душой любовь мешает ей любить подругу с полным жаром сердечного чувства.
Дружба доступна людям всех возрастов и всех стран. Образованность может изукрасить ее блестящими придаточными условиями, увеличивая численность мелких утех ее, но она не имеет ни малейшего влияния на высшие наслаждения дружбы, которая основана всецело на теплоте сердечной, и независима бывает от богатства и изощрения умственных способностей.
Наслаждения дружбы выражаются теми же самыми чертами, которые можно бы усмотреть в описании других чувств приязни и благоволения, только черты эти дышат более живой окраской. Отличительной чертой дружбы было бы выражение спокойствия, дышащего страстностью.
Вглядываясь в водоворот событий, все человечество рукоплещет торжеству победителя, а пронзительный свист циника заглушается этим громом рукоплесканий; достоинство же человеческое записывает новое имя в книгу, в которой так много страниц и так мало еще слов. Чувство общественности удовлетворяется весьма разнообразно, начиная от дружеского пожатия руки и кончая жертвой мученика, но, всегда благородное, оно разгорается собственными наслаждениями, возвышающими человека до неутомимой жажды все более и более высоких радостей. В сокровищницах чувства общественности имеется много и медных, и серебряных, и золотых монет, приноровленных к разнообразию карманов и пригоршень. Среди большинства наших обыденных дел, в часы бесед и трудов наших, мы можем зарабатывать гроши подобных радостей, а иной день случается каким-нибудь фактом благодеяния заслужить плату и серебром. Под золотом мы разумеем здесь те редкие подвиги самопожертвования, выпадающие на долю немногих только благодетелей человечества. Иначе: мы начинаем дело общественности приятностью бесед; затем следует сила подаваемых другим утешений, услада добрых дел и наслаждение самопожертвования.
Женщина, без сомнения, более наслаждается чувством общественности, чем мужчина, так как природа одарила ее более широким сердцем взамен меньшей доли полученных ей мозгов; природа, доверив ей обязанности матери, посвятила жизнь ее радостям самопожертвования. Редкий мужчина способен войти по вышеозначенным нами ступеням нравственного термометра, не влача за собой громадного дутого пузыря; помимо самолюбивых мыслей ему случается часто приносить себя в жертву, но он требует при этом, чтобы костер, его сжигающий, горел сильным, ярким и видным пламенем. Женщина же, наоборот, умеет совершать в безмолвии и темноте высочайшие подвиги самопожертвования, мужественно перенося целую массу мелких уколов и крупных страданий без мучительного вздоха и внутренней гордыни. Жизнь бедной работницы бывает иногда более долгим и более высоким мученичеством, чем краткая агония неповинной жертвы, падающей под ударом палача с восторженной мыслью на устах.
Чувство общественности способно радовать нас во все периоды жизни. Даже младенец прекращает свой одинокий, неистовый рев, видя приближающегося к нему человека, и старец на смертном одре своем еще чувствует утешение при виде плачущих около него знакомых и родных. Но лучший цвет жертв человеческих приносится в молодости.
Главное различие в наслаждениях чувством общественности состоит в тех различных степенях эгоизма и приязни, к которым способна каждая личность человеческая.
Изо всех чувств общественности дружба всего крепче придерживается области мышления, и в высших своих выражениях она всегда старается сохранить вид достойного спокойствия. И это весьма естественно, так как по законам природы дружба составляет роскошь жизни как обоняние в среде внешних чувств, а не непременное условие жизни. Бывают люди, достойные наслаждаться дружбой, но между тем не имевшие никогда друзей по случайно сложившимся обстоятельствам их жизни или по собственной воле. Судьба земных владык достойна сожаления в этом отношении, так как им редко выпадает случай отыскать себе друга среди свиты их окружающей.
При встрече дружба выражается объятиями, поцелуями и пожатием рук. Пожимая руку друга, мы могли бы, казалось, вернее выразить наше чувство, сохраняя притом присущее ему достоинство. Поцелуй приветствие слишком чувственное для выражения дружбы, и его следовало бы сохранить для наиболее важных случаев. Сделавшись холодной, обыденной формулой, безразлично заменяющей поклон, поцелуй всегда кажется нам явлением неуместным и патологическим. Я понимаю значение поцелуя только тогда, когда он бывает необдуманным выражением мгновенного, горячего чувства.
Наслаждения дружбы никогда не могут перейти в область чувств патологических, так как этому чувству неизвестно заболевание. Злодеи, низкие люди и все им подобные амфибии более или менее отвратительного вида, копошащиеся где-то в осадках общественного строя, и любятся, может статься, между собой, но до сей поры язык наш еще не выработал слов и выражений, приличных подобной приязни. Верно только то, что для обозначения любви между подобными существами нет возможности профанировать святое слово «дружба».
В некоторых, хотя бы весьма редких случаях стоящий всякого презрения человек, несомненно, может ощущать приязнь к людям себе подобным, но здесь открывается вопрос, требующий еще глубокого изучения. Осталась ли живой и здоровой какая-либо фибра в сердце преступника, дающая ему возможность любить, или, наоборот, не бывает ли аффект злодеев между собой совершенно иного свойства, и не следует ли ему носить совершенно иное наименование?
Есть ли надобность упоминать здесь о том, что многие из похваляющихся многочисленностью друзей своих, сами вовсе не испытывали дружбы? Они, правда, кланяются многим и многим пожимают руку; но снимание шляп и пожиманием пальцев не обратишь человека в преданного друга, и ласковым словом нет возможности возбудить чувства. Ежели подобная иллюзия может доставить великое удовольствие, то пусть их, не стесняясь продолжать обманывать себя. Мой совет им был бы остерегаться тщательно несчастий и неудач, так как при первой невзгоде, спустившейся на их плечи, вся эта толпа мнимых друзей мгновенно превратится в людей, снимающих только шапки и пожимающих руки.
Глава XX. О наслаждениях любви
Сильнейшая и самая жгучая из страстей наших, возникающая в тропической области сердца в течение самых пылких и самых светлых годов нашей жизни по преимуществу называется любовью. Зарождается ли оно среди бури вулканических извержений, теплится ли оно долго, таясь, в глубине сердца и испаряясь затем благовонным облаком, чувство это достигает стремительности порывов, под велением которых хрупкая машинка человеческая судорожно дышит, трепещет и содрогается, угрожая как бы немедленным мгновенным разрушением. Простое и первобытное, как и все колоссальные силы природы, любовь, кажется нам соединением лучших элементов всех человеческих страстей, представляя единовременно и преобладающее насилие первобытного порыва, и разнообразную роскошь искусственных и блестящих форм. Природа, видимо, оказала этому человеческому аффекту полное пристрастие. Ему одному дала она и негу чувственную, и порывы бурной страсти, и красивейшие орнаменты мысленной силы. Прелестнейшие цветки сердечных наслаждений, лучшие перлы ума и самые опьяняющие чувственные ароматы должны, по велению природы, быть приносимы в жертву этой страсти. Ни одна другая страсть не обнимает, таким образом, всей тройственной области человеческого естества. Но всего этого было мало: самые противоположные элементы, обреченные, казалось бы, на вечное столкновение, сливаются у алтаря любви в полнейшую гармонию, и, забыв ненависть, они подают друг другу руки, чтобы сообща преклонить колени перед богом любви. При этом богопочитании всем человечеством мирятся между собой и нега чувственности, и самые изящные из воздыханий сердца; братаются здесь и нестерпимейшие затребования грубейшего эгоизма, и самые великодушные сердечные порывы; здесь, сливаясь, встречаются и жгучие волны тропической страсти, и леденящие струи хладных полюсов ума. Он, бог этот, становится абсолютным владыкой над всеми разнородными подданными своими; как неумолимый деспот, он требует слепого повиновения и сверканьем взора повелевает приношение ему страшнейших жертв, чтобы только он почувствовал всю неодолимую мощь своего бытия, чтобы продолжал он сам гореть пламенем, его породившим и его сжигающим; он, не колеблясь, поверг бы в прах все мироздание.
Говорить вкратце о наслаждениях любви, которым следовало бы посвятить целые фолианты, покажется не только странным с моей стороны, но и смешным предприятием. Я собираюсь набросать несколько очерков из физической географии того мира, описание которого не было бы вполне исчерпано и сотней томов. Я постараюсь указать на то место в пространстве, где обычно блистает это солнце, и провести ту линию, по которой оно совершает свой обыденный путь. Мир любви я мог бы показать вам только сквозь стекло телескопа; сам я не мог бы перенести вас в те небесные области и дать вам почувствовать под вашими ногами раскаленность его почвы. Горе мне, если бы я начал анализировать здесь свойства этого солнца и класть под бедный микроскоп свой составляющие его элементы: жизни моей не хватило бы для выполнения подобного предприятия. Представьте же себе, сколько уже сокровищ извлекали и до сих пор все художники мира, все поэты и все философы, которые черпают из неисчерпаемых родников любви, а между тем обильная почва их оказывается едва затронутой общими усилиями всех этих много потрудившихся людей; когда же покажется уже иссякшая золотоносная жила, и тогда еще гениальная личность сумеет открыть новые и новые наслоения нравственных сокровищ.
Кто подумает, что этими моими недомолвками я хочу лишь замаскировать собственную неспособность, тот пусть спросит у женщины, любившей или еще любящей, нашла ли она в литературных произведениях и в прочитанных ей бесчисленных романах верное описание любви? Она скажет вам, улыбнувшись, что по книгам разбросано несколько отдельных искр, высвободившихся из глубокого вулкана, но что нигде и никогда не была еще напечатана верная повесть той любви, которая грызет ее сердце. Вы можете потратить много лет вашей жизни на тщательные наблюдения, изучая и книги, и людей; когда же вы вздумаете сообщить миру сокровища ваших открытий, тогда какая-нибудь женщина, скромная и смиренная, едва умеющая читать, сделает вам меткое замечание и научит вас многому, заставляя вас краснеть за ваше невежество. Я не хочу стать в такое позорное положение; целостность моей книги не пострадает от этого пропуска. Проведу, как обычно, демаркационные линии свои, очерчу свои круги и свои ячейки, но оставлю их пустыми, начертав над ними несколько скромных надписей.
Женщины, читающие мою книгу, вольны упрекнуть меня в невежестве, но им невозможно укорить меня в самонадеянности. Их наставления принесут мне пользу: я надеюсь составить впоследствии отдельную монографию любви.
Как бы ни был необъятен запас образов, которым располагает любовь, нож философа сумеет сорвать маскирующие ее одежды, срезать покровы ее и обнажить скелет, лежащий в ее основе. Да, суть и основание любви все же состоит во взаимном влечении полов ради приведения материи к жизни и воспроизведения новых особей. Участие чувства в этом феномене и составляет невещественную любовь, могущую достигнуть до такой силы и высоты, что люди, объятые ею, в состоянии окончательно забыть о финальной цели своих стремлений. Эта забывчивость простирается у многих до отрицания того, что, в сущности, сближение полов составляет действительную и непременную цель любви; при этом полагают, что сделанное мною выше определение любви унижает это чувство. Это – одно из тех предубеждений, которые, будучи обусловлены более страстностью, чем рассудком, приводят людей к заблуждению. Определенность никогда не может унизить сущности предмета; правда разоблачает и окончательно изобличает; она выставляет на вид уродливость, но никогда не может сотворить недостатка, которого не было раньше. Сочетание полов вовсе не составляет действия грубого или низкого, будучи выполнением естественного закона, а вместе с тем – и проявления прекраснейшей из жизненных сил; только человек мог изуродовать и унизить этот феномен любви проституцией нравственного его начала. Человек может любить, и любить страстно, чистейшей платонической любовью, не помышляя вовсе о прелести последних объятий, не ведая даже того, что открыло людям видение добра и зла, но все же, в естественном порядке вещей, любовь его будет бессознательно основана на понятии о поле и о воспроизведении себе подобных. Любовь возможна только к особи иного пола и только в возрасте, способном к деторождению; это одно уже показывает, где источник аффекта. Из отпрыска одного и того же растения искусный садовник может воспитать побег, приносящий обильный плод, и ветку многоценную, которая истощает жизнь свою, произращая цветы и листья.
Каждая из ветвей, однако, будь она изукрашена листьями и цветами или удручена обилием семян, одинаково исходит из одного и того же корня, составляя часть одного и того же растения. То же бывает и с любовью: при обычном своем течении, она дает нам вместо зеленых листьев чистейшие радости свои; вместо цветов – поцелуи и ласки; плоды она срывает при полном развитии своих наслаждений. Как дерево растет высоким и стройным, не давая ни цвету, ни плодов, так и любовь способна озарять теплыми своими лучами людей, никогда не изведавших содроганий чувственной любви. Дерево, тем не менее, сотворено природой для передачи семенами жизни другим особям, а пламень любви зажжен в сердцах людей ради того, чтобы они передавали теплоту жизни следующим за ними поколениям. Это сравнение может быть доведено и дальше. Как растение не покрывается цветом и плодами, так и любовь может довольствоваться вечнозеленой красой листьев, т. е. платоническими утехами. Когда любовь достигла плодов своих, тогда природа выполнила свое назначение, и оба должны бы подлежать одинаково замиранию и смерти, но и тому, и другому суждено бывает еще долгое существование благодаря щедрости провидения.
Наслаждения любви так велики и сильны, что они одни могли бы изукрасить всю жизнь и сами по себе стать целью существования. При чистоте помыслов они зарождают в сердце сцепление благородных чувств, приносящих фимиам и дань нескончаемых своих радостей одному и тому же божеству. Влияние любовных наслаждений нет возможности определить с точностью, так как оно изменяется сообразно с многоразличными изменениями видов любви. Наслаждения эти, однако, вообще приводят человека к эгоизму, будучи нескончаемо дороги ему. Человек пугается при мысли временного их лишения и защищает сокровище свое с упорством истинной ярости.
Таким образом, люди, не будучи злыми, переступают иногда границу обязанностей и, увлекаемые как бы некоей манией, повергают лучшие и святейшие чувства свои, встав на пути их бешеной скачки. Но здесь мы уже вступаем в область аффектов патологических.
Любовь чаще всех других чувств умеет распределять дары свои неравномерно и оказывается то щедрой до безмерия, то крайне скупой.
Все могут проводить время более или менее приятно с особами иного пола, но далеко не все умеют любить. Чтобы испытать на себе силу этой страсти во всем физиологическом ее совершенстве, необходимо почувствовать в собственном сердце силу и пламень любви; ими обладают, однако, далеко не все люди. Чтобы насладиться высшими радостями этого чувства, следует вкушать их крупными приемами. Как женщина, так и прочие любители этого высокого наслаждения выпивают по большей мере чашу любви одним медленным глотком, пьянея только раз в продолжение всей жизни, и позднее, полюбив, может быть, еще раз, они изливают на какое-нибудь создание только последние капли аффекта. Другие же, наоборот, будучи скаредами по самой природе своей, вечно сосут по каплям из чаш и кубков и, размельчив до бесконечности дозу любви, неделимую по самой сути своей, наслаждаются ей в приемах чисто гомеопатических, что в действительности равняется для них совершенному отречению от божественного напитка. Эти скареды или ростовщики в деле любви любили, по заверениям их, до сотни раз, сохраняя в запыленных архивах своих несметное количество надушенных писем, излияний судорожной любви и шкатулки, переполненные локонами и засохшими цветами. Но люди эти, поверьте, не любили вовсе. При рождении нашем природа снабжает нас единственным кубком, полным нектара любви, и чтобы опьянеть от него, необходимо бывает выпивать его сразу. Кто же делает вид, будто испивает из него и частыми приемами, и вместе с тем крупными приемами, тот поступает как кабатчик, разбавляя водой священную влагу любви. Заверяют, что все люди слеплены будто из одного и того же теста. Существуют, однако, на земле не то гении, не то уроды любви, которые умудряются любить не раз и не два, и всегда с одинаковой горячностью.
Любовь, выражаясь на лице человеческом, принимает всевозможные виды. Почти все картины, хранящиеся в музее дружбы, годны и для изображения любви, только с придачей им более горячих оттенков. Всем известно, какими легкими ударами кисти умеют художники превратить снежное небо Сибири в пламенное сияние тропического небосклона. Поступите так же и с образами любви и дружбы. Радости любви никогда не могут перейти в область чувств морбидных из-за излишней силы этих чувств. Чтобы возвысилась самая любовь, ей следует оставаться неразлучной с чувством обязанности и сохранения собственного достоинства, тогда она может дойти до крайней высоты, становясь лишь величавей и красивее от все более и более высокого полета. Наибольшее условие этого распределения составляет пол любящей личности. Только женщина способна доходить до высших степеней этого наслаждения, и ей же суждено испытывать самые жестокие спазмы любовных мучений. Страсть эта для нее бывает первым идолом жизни и нередко – последним для нее кумиром. Весь мир и нежнейших, и сильнейших чувствований и сложная тайна всех ее стремлений – все обращено к этому центру и все из него исходит для нее. Она почти никогда не допрашивает себя о цели собственной жизни, так как для нее для наполнения целой вечности достаточно одного чувства любви.
Трепетные опасения стыдливости, строгие для нее законы общественного мнения, стеснительные привычки семейного круга – все становится преградой на пути ее любви; сила увлечения преодолевает все; боязливая сначала, она затем полна осторожности и, наконец, доверившись и уступив силе любви, она бросается, увлекаемая порывом бурной страсти, и предается требованиям сердца. Страстное и умилительное зрелище представляет женщина, когда, слабая и робкая, она превращается огнем любви в мощную распорядительницу собственной судьбы. Кто видел женщину, горячо и сильно любящую, и сумел понять ее, тот не станет уже никогда презирать пол, к которому она принадлежит и который достоин быть поставлен наравне с мужчиной по крайней гениальности женского сердца. Пусть мужчина владеет скипетром, но и на женскую главу пусть наденется венец, и пусть они делят между собой владычество над миром; он – владыка по уму, она – владычица по чувству; ему – холодный север; ей – пламенный юг.
Люди любят во времена зрелости и возмужалости. Наслаждения любви до четырнадцати и после пятидесяти лет бывают только бледной тенью прекрасного или игрой фантазии. Прекраснейшие цветы любви срываются только во времена юности, когда люди приступают к ним с сердцем еще девственным и с неизвращенными еще сокровищами сердца.
Любят люди всех времен и всех стран, но цивилизация, полагаю, облагораживает наслаждение любви, дает ему изящество и красоту.
Глава XXI. О наслаждениях родительского чувства
С той самой минуты, когда в утробе женщины шевельнется жизнь иного существа и она впервые насладится счастьем материнского чувства, до того времени, когда при виде детей и внуков, окружающих постель ее в последние минуты жизни, она еще раз насладится любовью, женщина вкушает во всем протяжении жизни радости собственной, никогда вполне не высказанной любви, наслаждаясь притом каждой жертвой, более или менее крупной, ей приносимой.
Чувство это дышит таким величием страсти и таким несомненным духом святости, что величайший из циников, дерзнув оскорбить улыбкой или шуткой какое-либо из его проявлений, сам ужаснулся бы гнусности подобной профанации и собственного кощунства. Тот, кому горький опыт жизни развил ум в ущерб сердца и лишил навсегда способности проливать слезы над чьей-либо бедой, и тот иной раз почувствует дрожащую на ресницах непрошеную слезу при воспоминании о прощальном слове матери и о последнем грустном взмахе ее платка в минуту расставания. Великий писатель наш, тот самый, который погиб в водовороте политических событий, говорил: «Горе тому, кто не в силах уже восстановить в воображении облика собственной матери!» В этих немногих словах указаны высота материнской привязанности и святость отношений к ней.
Человек становится «физически» отцом только в силу нескольких более или менее сладостных мгновений, женщина же приобретает право называться матерью не минутами летучих наслаждений, но длинной и тяжелой цепью физических страданий и мук. Право любить и страдать она оплачивает спазмами скорбей; пальмы будущих самопожертвований она удостаивает жертвой, принесенной ею. Будущий венец наслаждений она покупает муками деторождения. Свята и высока здесь таинственная сила все превозмогающей любви. Здесь связаны неразрывными узами и радости, и скорби в одну общую область совместного бытия. Сотканная из горестей и наслаждений, как бы из света и тьмы, перед нами возникает картина столь дивной святости и красоты, что при взгляде на нее мы уже не в силах сетовать на равновесие в ней и радостей, и скорби.
Само страдание, набрасывая свой скорбный плащ на облик радостей матери, только обрисовывает прелесть очертаний, возвышая их идеальный вид. Чем больше страдает женщина, становясь матерью, тем сильнее гордится она этим названием, тем с большей страстью привязывается она к рожденному ею ребенку, тем более наслаждается она счастьем матери. Это удивительное сопоставление горестей и счастья, непонятное уму, ощущается сердцем и, видя его, невольно радуешься принадлежности своей к семье человеческой. В тех сборищах, где преобладает общественное мнение, мужчина слышит лишь собственный свой голос, присуждая сам себе и похвалы, и награждения, и преимущества, и почести. А женщина между тем страдает и борется с обыденными работами, умоляя небо дать ей и способность, и силу для борьбы с жизнью. Воскурив у ног ее фимиам первой страсти, мужчина приучает себя к мысли о ней как о завядшем уже цветке, едва ли не отказывая ей в праве считать себя существом ему равным. Но ей нет нужды в том, что приходится ей садиться как бы на более низкой ступени в делах жизни; нет дела ей до того, что властная нога хозяина может во всякое время опереться чуть ли не о голову ее. Ей достаточно материнского чувства, согревшего ей трепетную грудь, и высоких радостей ежеминутных самопожертвований. Дав жизнь новому существу, пропитав его в продолжение девяти месяцев собственной кровью, она наконец видит его живым; целуя, она называет его милым детищем своим и в повторении этих слов находит живительную прелесть, понятную только сердцу матери.
Не берусь описывать здесь всей глубины материнского чувства. Наброшу только несколько линий, по которым желающий может угадать главные очертания аффекта, проявление которого поделю здесь на три жизненные эпохи. Пусть матери простят мне это подведение их интимных чувств под категории, профанирующие, по-видимому, поэзию их душевного чувства.
Первая радость матери начинается с той минуты, когда ей зачат человек, и заканчивается отнятием младенца от грудей ее. В эту первую эпоху, еще полную чарующих наслаждений взаимности, трепет любви супружеской сливается с обаятельным проявлением нового для человека чувства, которое, как могучий отпрыск, возникший на сильном дереве, растет и крепнет с каждым часом с необычайной силой.
Женщину, щедрую по самой природе, не могли бы удовлетворить только эгоистические радости любви, ни наслаждения жарких объятий и вот в ней зарождается чувство, которое дозволит ей наконец излить на другое существо все неисчерпаемые сокровища самопожертвования, великодушия и затаенной силы любви. Чувствуя себя матерью, она спешит делиться радостным открытием с другим, который до тех пор был лишь возлюбленным ее и мужем, теперь же становится отцом, законным защитником неведомого, но горячо уже любимого ей создания. С этой блаженной минуты становятся обоим милыми и дорогими все жертвы, заранее приносимые ожидаемому незнакомцу, все планы, проектируемые ради него вдвоем; высокорадостными становятся все перипетии мелочных опасений, надежд и соображений. И, наконец, среди спазматических страданий, налагаемых таинственными велениями природы, является новое существо, новый житель мира; он жив и здоров и подает надежду, что смерть долго-долго еще не прикоснется к крошечным его членам. Невообразимо радостная улыбка озарила лицо, еще сохранившее следы едва миновавших пыток; она служит выражением того нескончаемого блаженства, которым переполнено в эту минуту сердце молодой матери. Женщина-мать в полном смысле этого слова, мать законная, мать счастливая. Как сладко звучит для нее в первый раз это магическое слово! Да, повторяю, мать всегда законна, и если в эти торжественные минуты это почетное наименование вызовет на ее лице краску стыда, то, какая бы тому ни была причина, она все же виновна и заслуживает осуждения. Смейся, счастливая мать! Много времени у тебя впереди, чтобы оплакивать и свою, и его будущность. С криками восторга обнимай теперь и покрывай поцелуями без числа созданьице, которому ты дала жизнь, и пусть при первом крике своем он жадно прильнет устами к твоей трепещущей от радости груди! Женщина может быть виновата в любви своей, но не виновата в том, что стала матерью. Да не постыдится она этого имени во всю жизнь! Святая обязанность, к которой она призвана природой, смывает всякий стыд с ее лица. Священное право каждой женщины – показывать всему миру создание, которому она дала жизнь: «Смотрите! Вот оно, мое дитя!»
Я не намерен вызывать румянца стыдливости на лица удостаивающих труд мой благосклонным своим вниманием. Но они сами должны сознаться в глубине души, что кормленье грудью, когда оно не сопровождается болезненными явлениями, всегда служит им источником живейших наслаждений. Часть этих наслаждений принадлежат к разряду более или менее чувственных, облекаясь вместе с тем и в теплое свойство самого ощущения. Можно сказать, что при кормлении грудью переживается ощущение страсти нежного поцелуя, служащего выражением любящего чувства. Все написанное здесь мной представляет лишь подобие скудному стенографическому отчету о пламени красноречивой речи; это – набросок карандашом, скопированный с картины, полной колорита и жизни. Не могу распространяться обо всем этом долее, чтобы не выйти из рамок намеченного мною труда.
Нескончаема была бы моя книга, если бы я описывал все мелкие радости, испытываемые матерью в первое время после рождения младенца.
Всякая о нем забота, всякая ласка ему, всякое предупреждение его желаний является для молодой матери новым наслаждением. Она думает только о своем ребенке; она живет им; о нем она мечтает и говорит, и часто в величие своей озабоченности она забывает и о том, что как супруга она сохранила право на иные наслаждения.
Как очаровательны те открытия, которыми утешается мать посреди долгих своих наблюдений и тех опытов, которые она производит над крошечным существом, обязанным ей жизнью! Да, она действительно становится тонким и даже ученым наблюдателем, хотя и не всегда верным исследователем истины. Все явления, на которые мать смотрит своим далеко не равнодушным взором, невольно вырастают в ее глазах, и она, с очаровательной наивностью полного убеждения находит задатки великого и прекрасного в тех туманных проблесках разума, которыми время от времени освещается слабый ум младенца. Смотрите! Он в первый раз улыбнулся матери, он внезапно прекратил плач свой, когда она нагнулась над его колыбелью; он пролепетал какой-то членораздельный звук, и мать старается объяснить его значение со всей запальчивостью неопытного филолога. Ребенок прислушивается внимательно к игре органчика в табакерке или с ожесточением вырывает страницы из книги.
Разве это не показывает наглядным образом, что из младенца вырастет новый Россини, или что он станет вообще человеком науки?
Сколько прелести в этих заблуждениях, сколько очаровательной наивности в бесконечных самообольщениях материи. Можно с уверенностью сказать, что если бы сбывались все предсказания матерей, то все человеческое общество составляло бы академию великих и ученых людей.
Второй период материнской опеки простирается от отнятия ребенка от грудей, его питавших, до передачи его в руки учителей. С первой минуты этого времени и до последней мы можем приметить постепенную утрату страстности со стороны матери, но затем – и постоянно возрастающий интерес к делу воспитания.
Физическая сторона материнской любви получила свое удовлетворение; новый член человеческой семьи родился и достиг того возраста, когда он сам уже может отыскивать себе пищу. В минуту рождения младенца мы видели в матери смешение животной и человеческой природы; теперь она – уже только человек. Радости матери стали менее бурными и менее пламенными, оставаясь столь же живыми и разнообразными. Как путешественник-географ неутомимо открывает новые местности в неизведанных еще краях, так мать ежеминутно радуется новым открытиям в душе своего ребенка, встречая их возгласами, общим языком всех народов. Собственный ребенок составляет для нее новый мир, в котором она беспрерывно открывает новые страны, новые реки и горы, строя в воображении своем самые очаровательные воздушные замки; эта новая вселенная ее так жива, так тепла и так миниатюрна, что она не перестает сжимать ее в объятиях своих, бурно осыпая ее бесконечными поцелуями и ласками. Да, ежели бы человек, достигнув возраста полного понимания, мог припомнить горячность хотя бы одного из этих поцелуев, то у него, наверное, никогда бы не хватило духу оскорбить чем-либо ту, которая могла его так целовать.
Дав собственному созданию жизнь физическую, мать сообщает ему и нравственное бытие, рассеивая в душе его первые семена нравственного, религиозного и умственного воспитания. Сколько бы можно было описать здесь наслаждений, сколько сосчитать улыбок, сколько нежных выговоров и взрывов любовного негодования! Но время дорого, места мало, а для описания всех людских наслаждений нужны целые библиотеки томов. Всякий шаг человеческий, как бы возвышен или как бы низменен он ни был, способен стать, при известных условиях, источником наслаждений.
В последнем периоде радостей своих матери приходится доверять умственное воспитание сына чужим людям, не переставая, однако, следить за ним издалека со всем требовательным вниманием истинной любви. Восторги матери при получении сыном награды возрастают с течением времени, пока наконец детище ее не положит лаврового венка к ее ногам. Эти наслаждения видоизменяются по мере способностей детей. Мать довольствуется иной раз доказательством простой честности детей своих, настолько же, как бы наслаждалась она блестящими успехами рожденного ей гения. Она улыбается обыденным добродетелям сына так же восторженно, как приветствовала бы всемирные рукоплескания, раздавшиеся над его головой.
Но хотя мать и наслаждается счастьем и славою детей как собственным своим достоянием, тем не менее она никогда почти не требует от них взаимности и обмена чувств. Всегда великодушная, она считает высшей для себя наградой успехи своих детей на избранном ими поприще. Подарив человечеству добродетельных матерей, честных граждан или великих мужей, она чувствует себя вполне удовлетворенной. Когда же на самопожертвование ее ответом было или равнодушие, или грубейший эгоизм, когда посвятившая детям всю жизнь свою, ничего себе не желавшая кроме их счастья, беззаветно-преданная мать видит себя оставленной на произвол судьбы и одинокою в мире, тогда она жалуется, быть может, на несовершенство сердца человеческого вообще, но не винит она никогда и не клянет детей своих и, следуя за движением их в водовороте жизни, она продолжает любить их по-прежнему, прибегая к ним немедленно, коль скоро несчастья или неудачи жизни заставляют их нуждаться в помощи, в бесконечном сочувствии материнского сердца – этого капитала, не ведающего банкротства, капитала, на который всегда можно рассчитывать. Уязвленное порывами самой наглой неблагодарности, окоченевшее от слов, полных презрения и укора, уязвленное всем, что может быть в человеке, чувство любви в сердце матери возрождается постоянно из пепла жизненных надежд своих, оставаясь вечно нежным, вечно трепещущим и вечно готовым на великодушие всепрощения и щедрость любви.
Только мать способна всецело жертвовать самолюбием, перенося всевозможные обиды; она одна может жертвовать сильнейшими и благороднейшими чувствами и, не смотря на постоянное попирание ногами обманутых надежд своих, снова, без горечи, готова нести утешение и помощь преступному сыну, обвинявшему ее и произнесшему над ее головой проклятия и угрозы. Случится виновному сыну страдать и плакать – и мать бежит, чтобы заботливо стереть выкатившуюся из глаз слезу, утешить наболевшую душу. Когда же исчезла в ней способность выражать чувства свои словами, и тогда при ней остается, до самой смерти ее, способность соболезновать детям и с ними вместе переносить и страдания. Ежели и в кругу знакомых ваших найдется счастливая мать – любуйтесь, читатели, восхитительным зрелищем благополучия: но ежели ведома вам где-либо несчастная мать, достойная по делам своим лучшей участи, преклонитесь пред ней, как пред святыней, как пред отблеском божества на земле.
Мать, увенчанная многочисленными отпрысками, одновременно наслаждается всеми радостями родительского чувства. Иной раз в утробе трепещет жизнь нерожденного еще малютки, а на коленах у нее покоится младенец, недавно лишь отнятый от материнских ее грудей; взоры ее меж тем, устремлены с любовью на столик, около которого учатся подростки-сыновья и занимаются рукоделием дочери-красавицы; мысль ее уносится далеко, туда, где ее первенец стяжает, быть может, лавровые венки. Существуют матери, которые, оставаясь всю жизнь в семейной тиши, не позавидовали бы престолам земных владык и, счастливые в глубине своего гнезда, выспрашивают с наивным любопытством, за что люди иной раз клянут земную жизнь? Блаженны сердца подобных женщин, и пусть они до конца жизни сохраняют в целости веру свою в семейное счастье! Пусть им навсегда останутся неизвестными те пресмыкающиеся, которые слишком часто пытаются разрушить счастливое гнездо; пусть они останутся навсегда в неведении тех зол, которые сокрыты в тайниках семейных скрижалей.
И отец любит создание свое, находя обильный источник наслаждений в аффекте, связующим его с существованием собственного ребенка: но весьма редко и, можно сказать, почти не случается, чтобы отец любил так же сильно, как мать. В этом несомненном факте нет ничего поразительного. По естественному ходу вещей страсти бывают тем сильнее, чем значительнее бывают функции, к которым они относятся. Женщине доверена забота о сохранении жизни младенчеству – естественно было придать ей и изобилие материнских чувств. Муж должен был быть не только помощником жены в священном деле сохранения жизни общей семьи, но он (по преимуществу и в большинстве случаев – он один) обязан доставить сыну социальную индивидуальность; но все это дело второстепенной важности, и для него вовсе не нужна бывает горячность материнского сердца. В наслаждениях отцовским чувством бывает много изящества и силы; его украшают утонченные цивилизацией орнаменты и сердца, и ума, но в них не окажется никогда той жгучей лавы, которая всегда готова брызнуть из сердца матери, как из вечно готового для извержения вулкана. Здесь, т. е. в любви женщины, преобладает одно из самых необоримых потребностей человеческого бытия. Любовь отца, наоборот, принадлежит чуть ли не к роскоши сердечных чувств, и чтобы следовать естественным порядком одно за другим, поколения не имеют потребности в чувствах со стороны родителя. Материнская любовь замечается почти у всех животных, аффект со стороны отца встречается весьма редко в мире бессловесных, составляя в этом случае явление удивительное и часто весьма трогательное.
За исключением упомянутых выше чувственных наслаждений, составляющих всецело принадлежность матери, все нравственные радости любви к детям могут быть распределены равномерно между обоими родителями. Но одинаковые наслаждения, перенесенные из теплой атмосферы женского сердца в более умеренный климат, среди которого бьется сердце мужа, подвергаются некоторым изменениям; это перемещение дает понятие о разнице между чувствами обоих родителей, тождественными по сути своей, но весьма различными по степени и форме. Словом, это – одно и то же растение, но выращенное под различными небесами. Отцы почти всегда больше привязаны к дочерям, и в этом они правы.
Наслаждения родительскими чувствами, призывая к жизни новые обязанности со стороны мужа и жены, возвышают в человеке и чувство собственного достоинства, и все другие благородные чувства человечества. Не раз случалось, что новое значение, приданное человеку рождением ребенка, заставляло его изменять образ жизни; став отцом, он понял, что будущность его не составляет уже достояние его одного, и что для жизни явилась новая цель, хотя бы только в образовании данного ему природой сына, добродетельного и счастливого гражданина. Женщина, сохранившая было в первые времена замужества юношеское легкомыслие, становится, сделавшись матерью, вдумчивой и серьёзной. Во всех движениях ее замечается вновь приобретенная сдержанность, выделяющаяся на фоне ее прежнего живого и подвижного характера. Умилительно смотреть на это внезапное превращение супругов.
В наслаждении любви родительской скрывается столько самоотверженности и силы, что они не могут служить только для счастья нескольких часов жизни; они не только заставляют уста родителей слагаться в мимолетную улыбку нахлынувшего счастья; нет, они распространяют некий сладостный аромат на всем протяжении жизни; они способны утешить навсегда волнения от неудач и горя и вырвать человека из однообразной тины пошлых и пустых привычек. Наслаждения эти покупаются ценой труда и самоотвержения; они освещают отблеском своим лучшие из человеческих аффектов, придавая отцу в собственных его глазах значение и вес. Мысль, что человек может быть полезным для собственных детей, что он до некоторой степени отвечает перед людьми за благополучие семьи, способна придать смысл жизни самому отчаявшемуся из земных существ. Много несчастных останавливались на краю бездны, в которую готовились броситься, вспомнив о том, что на них лежат обязанности отца или матери. В эти мгновения полнейшего отчаяния их осеняет сознание того, что желание смерти равняется в их случае полнейшему эгоизму и что жизнь для них является святейшим долгом; затем настает почти всегда блаженная минута раскаяния и решимость вступить на путь добра и пользы.
Цивилизация может возвысить эти наслаждения до утонченной изящности, но она не в силах бывает уничтожить то основание их, которое должно проходить без изменения в продолжение веков и чередования поколений. У некоторых диких племен наслаждение чувствами матери заканчиваются обязанностью выкормить ребенка; нравственная же идея отцовских отношений существует у них только в зародыше этого чувства.
Но и благородный аффект родительской любви может быть обращен в «болезненное чувство. Отец наслаждающийся зачатием в душе сына собственных более или менее порочных стремлений или даже поощряющий их развитию, в действительности наслаждается преступной радостью. Мать, употребляющая во зло естественную привязанность к ней ребенка, чтобы внушить ему отвращение ко всем окружающим людям, надеясь подобными ухищрениями обратить всю детскую любовь только на себя одну, – подобная мать наслаждается преступно. В обоих случаях к порочной радости ведет вовсе не излишество родительской любви, но совсем иное, нездоровое чувство, которое, присоединяясь к наслаждению, сообщает ему свою злобу. Будучи благородными и великодушными сами по себе, сердечные увлечения наши никогда не могут заболеть пороком, но, унижаясь до союза с другими страстями, они меняются вместе с наименованием и в самой сути своей.
Глава XXII. О наслаждениях, проистекающих из сыновней, братской и родственной привязанностей
Чувствуя концентрированные на себе лучи родительской привязанности, дети не могут не являть и со своей стороны признаков приязни, отвечая неким трепетанием любви на такое обилие чувства. Но сердце сына, как бы оно ни было любвеобильно, редко бывает в состоянии оплатить столь же горячими лучами за обилие поглощаемых им с детства света и душевной теплоты. Мне известны случаи, когда сыновья платят родителям сотнями доказательств любви и дружбы на каждый луч сердечного с их стороны аффекта, но подобные феномены проявляются весьма и весьма редко, и их следовало бы сдать в указанный мною выше архив сердца вместе с другими, подобными им редкостями. Отцы и матери вообще обожают детей своих, а сами бывают только любимы; родители всегда бывают щедры на доказательства любви своей и нередко доходят до неразумного излишества. Сыновья же, по большей части, бывают только справедливы; они экономны в деле чувства и доходят иной раз до скаредности. Это не должно пугать, и не от чего приходить тут в негодование; не следует и обвинять меня в пессимизме или отчаянном взгляде на эти отношения. Это – естественный закон природы, носящий в самом себе и основание, и причину своего возникновения. Жизнь поколений должна быть поддержана во что бы то ни стало; вот почему природа доверила ее всепревозмогающему аффекту сердечных чувств отца и матери. Когда, народившись к жизни физической, особи человеческие вошли, посредством воспитания, в строй нравственных существ, тогда отец и мать достаточно подошли по отношению к делу естества, и жизнь человечества могла бы идти своим путем и без возникновения каких бы то ни было чувств взаимности со стороны детей. Сыновняя любовь существует, однако, становясь иной раз чувством весьма сильным и страстным, готовым на всевозможные пожертвования, но со всем тем любовь эта не перестает быть делом роскоши, необходимым только в видах нравственной эстетики. Пусть обвинят меня в клевете на человеческое чувство, пусть упрекнут меня в цинизме; можно всегда отрицать теории, но нет возможности отвергнуть реального существования факта. Много было говорено об обязанности любить родителей своих, и заповедь эта стоит в нравственных кодексах всех народностей. Никогда почти и нигде не упоминалось, наоборот, что родители обязаны любить детей своих; об обязанности этой забывается при своде человеческих заповедей. Поставить людям в обязанность любить детей своих равнялось бы приказанию им дышать.
Но это вовсе не дает повода моралистам падать духом. Мы одарены природой разнородными способностями, составляющими роскошь жизни, и способности эти, тем не менее, высоки и благородны.
Не будучи необходимым элементом физического существования людей, музыка, однако же, как искусство божественное проливает на жизнь их обилие живейших наслаждений. То же можно сказать и о сыновней любви, которая, не будучи условием жизни для сменяющихся поколений, составляет одно из самых сладостных для человека чувств. Не подлежа законам живой материи, оно стоит на твердом основании в таинственной области добра, истины и красоты. Не будем обольщать себя несбыточными надеждами и думать, что воздадим когда-либо родителям столько же любовных искр, сколько сами получили от них в течение жизни. Нет, долгов наших в этом отношений мы не уплатим никогда; каждому из нас придется остаться навеки неоплатным должником перед отцом своим и матерью, хотя бы мы и были миллионерами, в деле сердечных чувств.
Когда со временем родятся и у нас дети, тогда, в свой черед, воздадим им не выплаченный нами долг отцам и станем, в свой черед, теми кредиторами, которым тоже не будет уплачено вовек.
Когда родители стоят на одинаковом уровне нравственного превосходства и когда мы одинаково обязаны им обоим нашим благополучием, тогда, хотя бы мы и любили обоих с одинаковой силой, чувства наши к ним остаются весьма различными. Привязанность к матери всегда горячее и дышит всегда той, отчасти чувственной задушевностью, которую можно ощущать, но определить которую невозможно. К отцу же чувства наши не всегда бывают возвышеннее и разумнее и в них сильнее элемент уважения и благодарности. Мать мы нередко продолжаем до старости лет любить с экспансивностью ребяческого возраста; отца мы и в детстве любим по большей части со спокойной сдержанностью возмужалого сердца. В беседах с матерью мы и плачем, и высказываемся; с отцом же мы рассуждаем, спокойно улыбаясь.
Кто не знавал матери, тот едва ли может себе представить все прелести душевных наслаждений того, кто с малолетства радовался ее присутствию, того, кто с ней рядом сиживал на ребяческой своей скамейке, на стуле подле нее – юношей и на кресле – возмужалым уже человеком. Ежели только варварское злоупотребление обычаями цивилизованного мира не выхватило вас из семейного гнезда, лицо матери должно представляться вам в грезах и воспоминаниях как светлый облик первого живого существа, прислуживавшего вам и покрывавшего вас бесчисленными поцелуями; когда, роясь в глубине своей памяти, вы усиленно стараетесь рассмотреть носящиеся там неясные и туманные образы былого, тогда вам рисуются семейные картины, где на первом плане колеблется еще юный, может быть, облик вашей матери; вам вспоминается ребяческое горе, замолкнувшее при ее появлении, или какая-либо громадная радость, испытанная на ее коленах, или пережитая в ее объятиях. В ком сохранилось настолько ума и сердца, чтобы не сознавать себя вполне безумным или бессовестным, тому должно грезиться все это в минуты сердечного умиления. Разматывая далее клубок ребяческих своих воспоминаний, человек усматривает уже более ясные образы былого: он видит себя на коленях матери, которая с указкой в руках усердно сообщает ему зачатки высшего и опаснейшего из знаний человеческих; вспоминая это первое обучение, чувствуешь, кажется, как теплая рука матери скользит по волосам или играет кудрями младенческой головки. Помните ли вы обильные награды, распределяемые этой самой рукой с столь бесконечным снисхождением? Помните ли первые уроки гимнастики, когда она учила вас переступать с ножки на ножку, придерживая вас вдоль спинки мягкого дивана? Помните ли, как, играя с вами, она присаживалась на пол, чтобы стать ближе к вам, или весело хохотала, резвясь с вами на мягком дерне лужаек сада?
Если память ваша не сохранила младенческих впечатлений, по легкомыслию вашему, или по жесткости вашего сердца, – прибегните к менее далеким воспоминаниям. Если, по близорукости душевной, вы не припоминаете мелочей обыденной жизни, вспомните более крупные события. Не припомнится ли вам какое-либо ребяческое горе, заставившее вас неутешно рыдать или бросаться на пол в пароксизмах детского отчаяния? Не припомните ли бурю душевных невзгод, мгновенно затихнувшую при появлении матери? Я, кажется, еще чувствую горячие, учащенные поцелуи матери на моих щеках, слышу нежные звуки ее голоса, вижу улыбку ее, когда она, грозя пальцем, заставляла меня смеяться с непросохшими еще слезами на глазах. Я вспоминаю многое. И церковный полумрак во время всенощной, и внезапный страх, напавший среди сна, и гнев и злые шутки сверстников, – и всю ту нескончаемую повесть и горестей, и радостей детства, среди которых образ матери всегда являлся утешителем и другом. Научив меня говорить, читать и писать, т. е. вручив мне первые орудия, сделавшие меня сотрудником общественного труда, она указала мне путь, ведущий к славе, повторяя, что лучшим доказательством любви к ней будет мой первый лавровый венок… Бросаю однако перо, заметив, что вместо того, чтобы представить здесь страницу из физиологии человеческих наслаждений, записываю здесь отрывок из собственной жизни…
Не следует забывать отношений к отцу. Вы должны любить его: и он когда-то сиживал около колыбели вашей, и он участвовал в ребяческих играх ваших; он должен войти в рамки ваших детских воспоминаний уже по тому одному, как его ежедневно ждали домой в определенный час радовались его приходу и ощущали пустоту во время его отсутствия. Вам помнится, как весело выхватывал он вас из объятий матери или из среды товарищей, как прижимал он личико ваше к своему бородатому или колючему лицу; позднее вам вспоминаются не совсем приятные минуты: строгий вид отца и выговоры, и наказания… Бедный отец! Нельзя не любить и не уважать его; может статься, он работал в течение долгой жизни, чтобы вам предоставить радости более удобного и более легкого существования!.. Он скупился, может быть, для себя самого, чтобы стать щедрым для вас… Но ежели бы этого не было, то – вспомните! – он дал вам жизнь и имя ваше. Ничто не озаряет таким ярким светом лицо отца, как слава собственных его сыновей. Мать способна любить до безумия и обыкновенного сына, довольствуясь, во всяком случае, счастьем быть матерью человека с благородным сердцем. Но мужчина радуется роли отца только тогда, когда может гордиться сыном, и когда, опираясь на руку юноши, он слышит похвалу ему.
Как ни многочисленны бывают наслаждения, доставляемые любовью к родителям, их все же можно подвести под две категории радости – пассивные и доступные всем и каждому, когда человек довольствуется сердечным чувством любви к родителям, радуясь здоровью их и благосостоянию.
Наслаждения доставляются в этом случае простым удовлетворением чувства, добываются без утомления и жертв со стороны детей. Но высшие и благороднейшие радости проистекают из других, более деятельных сторон сыновней любви, которая стремится доказать на деле силу, ее одушевляющую. Сюда относятся подарки, сюрпризы, доставления родителям удобств жизни и, наконец, принесенные в пользу их жертвы. В этих строках немного слов, но все они указывают на целый мир щедрых, высоких и утонченных радостей, способных украсить и преисполнить только радостью взаимное существование как родителей, так и детей. Следует дать описание некоторых драгоценных камушков из этой коллекции.
Горькая судьба принудила нас проводить жизнь вдали от отца и матери. Кругом – свирепая зима, а календарь указывает на приближение привычного для семьи праздника, ради которого собирается издавна вся семья. Нас, находящихся за многие сотни миль от родного гнезда, никто не ожидает, а свирепость зимы не допускает, казалось бы, и мысли о дальнем пути. Но смелая поездка задумана давно. Вы бросили на время дела свои и спешите домой. Время рассчитано до тонкости, и в ту самую минуту, когда дорогая вам семья усаживается около обеденного стола, вздыхая, может быть, об отсутствии далекого, любимого сына; вы влетаете внезапно в комнату, бросаетесь в объятия отца, душите мать поцелуями…
Счастливый случай или скорее результат долгих трудов и лишений позволил вам наконец располагать небольшой суммой денег. К концу осени вы пишете матери, до страсти любящей путешествия, что вы намерены увезти ее и чтобы она готовилась посетить с вами Флоренцию…
Вы находитесь далеко от всех своих, в чужой земле и в чуждой вам обстановке. Писем вы давно не получали и горестно дивитесь небывалому и необъяснимому молчанию. Вы отправляетесь в сотый раз на почту, только для того, чтобы вспомнить обычную проформу, перестав уже надеяться на получение письма. С видом полнейшего равнодушия, но с душевным трепетом вы спрашиваете писем из Италии… Ответ удовлетворителен; письмо получено… оно в ваших руках… вы пробежали его глазами… о радость!.. мать пишет о скором своем приезде… чтобы свидеться с сыном, она проехала уже вдоль всего материка Европы…
Наслаждения чувствами этого пункта не ограничиваются, однако, театральными эффектами нежданных, судорожных свиданий. Бывают в проявлениях этого чувства наслаждения молчаливые и тихие, бывают трепетные наслаждения, не мешающие грустно-сладостному настроению духа…
Читатели мои, вы теперь еще носите, быть может, имя сыновей и дочерей, но может быть, вы уже давно лишены этого счастья, и тогда вы, ощущая в сердце небывалую пустоту, чувствуете, как дороги были сокровища, которых вы лишились.
Сыновья вообще бывают сильнее привязаны к матери; дочери же, наоборот, более склонны окружать нежнейшими заботами отца. В различии этих отношений кроется неразгаданная еще пока психическая тайна, тщательный анализ которой снабдит, вероятно, летописи человеческого сердца многими и драгоценными страницами. В настоящее же время я могу только сказать следующее: будь мне предложено изобразить живописными картинами два момента из высших наслаждений любви к родителям, я поручил бы художнику начертать на первом полотне сына-юношу, читающего в разгаре славолюбивых надежд первый, еще неизданный труд свой матери, которая, опустившись в кресло, ловит со взором, полным восторга и умиления, каждое слово, слетающее с милых ей и для нее всегда уст. Вторая картина моя представляла бы старика, опирающегося на руку дочери, заботливо и любовно заглядывающей в дорогое ей, утомленное от прогулки лицо отца.
Братья, обязанные жизнью одним и тем же родителям, связаны зачастую между собою чувством, возникшим не в силу необходимого закона природы, движущего сердцем матери, не в силу нравственного закона, обязательно влияющего на отношения детей к родителям; они связаны чувством, исполненным то тихих и спокойных радостей, то трепета великодушных стремлений, то сладостных ощущений неизменной приязни, стелющейся, как некий благоуханный аромат, по всему жизненному пути сестер и братьев. Братья, ежели можно так выразиться, друзья прирожденные, обладающие общей сокровищницей воспоминаний и пережитых вместе радостей и страданий; вот почему они живут, до некоторой степени, общей им всем нравственной жизнью. Идея общности и единство происхождения налагают на них характеристическую некую печать, которая, делая их членами одной общей всем им школе чувств, делает их восприимчивыми к впечатлению одного и того же рода событий. Сознание общности крови, сказать по правде, принадлежит более к области идей, чем к области личного ощущения или чувства. Случается же иной раз, что братья, разлученные с детства течением неблагоприятных обстоятельств и встретившись в жизни как люди чуждые друг другу и даже вовсе незнакомые, чувствуют или взаимное отвращение, или даже ненависть, или просто полнейшее друг к другу равнодушие и голос крови не сказывает им ровно ничего о близком между ними родстве. Бывают в подобных случаях исключения, но они не нарушают справедливости общей мысли.
Как дружба между посторонними людьми, так и взаимная любовь братьев между собой питается аналогией чувств и мыслей; в глазах одной и той же семьи аналогия эта бывает естественным следствием общности организации.
Все физические и нравственные элементы, обуславливающие наслаждения дружбы вообще, одинаково влияют и на радости братской любви, когда она, не ограничиваясь узкими рамками обязанности и долга, доходит между детьми одних и тех же родителей до идеала дружеских отношений.
Но хотя бы брат и боготворил иной раз брата, и хотя бы сестра и была в действительности восторженно привязанной к сестре своей, братская любовь достигает идеального совершенства своего только во взаимных отношениях между братом и сестрой.
Братья, как и все люди вообще, не страдая вовсе излишеством нравственной силы, не стремятся изливать ее аффектом, составляющим не потребность существования, а только роскошь жизни. Да притом братья, избирая каждый отдельный жизненный путь, нередко теряют друг друга из виду. Сестры же могут зачастую становиться соперницами, сталкиваясь между собой в деле тщеславия или любви, ежели только огромная разница в возрасте не делает подобные столкновения невозможными; но и там, где сестры остаются в полном согласии и любви, и там замужество, эта вожделенная цель каждой женщины, разлучает сестер чуть ли не навсегда.
Но брат и сестра созданы самой природой как бы для взаимной приязни. С раннего детства брат видит около себя ласковое существо, готовое вынести при случае от прирожденного ей друга и вспышку внезапного гнева, и слишком явно выраженное сознание превосходства; он находит близ себя, при самом вступлении в жизнь, сродное ему создание, умеющее подчас оказать и легкое сопротивление произволу брата, но вовсе не желающее вступать в борьбу с ним – словом, при самом начале пути своего он видит около себя ангела, всегда скорого на помощь в деле и на утешение в печалях. Притом же в отношениях между братом и сестрой не бывает места самолюбию, и потому между ними всегда возможен хотя бы и вовсе неровный обмен сюрпризов, приношений и более или менее щедрых пожертвований.
По большей части брат находит в своей сестре друга, полного уступчивости и внимания, всегда готового выслушивать и бесконечные иеремиады брата, и докучливые его россказни о его безынтересных и нередко даже смешных подвигах; находит друга, принимающего к сердцу всякое горе брата и всякую приключившуюся с ним невзгоду. Для нее брат – любимое существо, к которому она привыкла с раннего детства посвящать ту нужную заботливость и те услуги, в оказании которых женщина полагает счастье жизни. Но впоследствии, когда другой станет кумиром ее жизни, тогда сестра не забудет того, кто с детства был для нее милейшим созданием.
Братская любовь составляет принадлежность всех возрастов; лучшие же из ее наслаждений начинаются тогда, когда над человеком пронеслось уже бурное время молодости. В зрелом возрасте или во времена дряхлой старости родители бывают уже преданы забвению, ибо смерть уже лишила человека и многих из приятелей и друзей его и трепетания любви уже замерли давно на кострах, оставив в сердце человека лишь горсть более или менее теплой золы. И благо тому человеку, который в эту леденящую пору жизни в состоянии бывает броситься в объятия сестры или брата, чувствуя при этом, что к груди своей он прижимает сердце, не перестававшее биться горячей к нему любовью.
Брат и сестра как осколки некогда многочисленной семьи свили себе где-то позднее гнездо; он зарабатывает средства, она лелеет его с заботливостью матери: от укромного гнезда этих людей веет ароматом изящно-высоких наслаждений. Озабоченный делами жизни, брат находит, однако, время посещать ежедневно одиноко живущую сестру, и этих искр непотухшей братской любви достаточно бывает, чтобы осветить до гробовой доски существование обоих стариков. Идея единокровности, собрав в одно гнездо действительных членов семьи, привлекает иногда к радушной обители множество других, не далеких по крови существ, т. е. родных и родичей. Когда приязнь, соединяющая между собой сродников, не бывает подновлена ни чувством взаимного уважения, ни дружбы, приязнь эта, держащаяся в точных пределах родственных обязательств, висит уже на тончайшем волоске, могущем разорваться внезапно, от первой вспышки гнева и от холодного веяния милых враждебных интересов. Когда же, наоборот, человека любят и уважают за личные достоинства, тогда эти чувства почтения и любви заимствуют от сознания родства и единокровности окраску более живого и теплого чувства, налагающего характерную печать свою на сборища и увеселения, которые в ином случае были бы только выполнением обязанностей общежития. Постараюсь пояснить эти рассуждения примером, взятым из жизни семьи человеческой.
Чувство, связующее между собой дедов и внуков, составляет одно из самых почтенных уз родства. Старец связан с младенцем цепью аффекта и служит посредником между обоими; аффекта, образующего и общий между ними узел, и лестницу чувств и мыслей, идущих от одного к другому. Здесь три поколения, слившись в одну семью, дышат атмосферой, общей как родителям, так и детям. Это составляет поистине одну из наиболее поэтических комбинаций человеческого, одну из наиболее художественных групп, образованных где-либо сплетением многоразличных чувствований нашего сердца.
Дядя и племянник, пожимающие друг другу руки, составляют другую, не менее восхитительную группу. Здесь обмен чувств благородства, щедрых воздаяний и взаимоуважения, сливаясь с сознанием единства крови, рисуют картину, полную достоинства и глубокого знания. Отходя далее от общего гнезда и от корня его происхождения, встречаем немало родственных и более или менее друг другу знакомых и близких; но истинную связь между ними составляют все же сближения, зависящие от личного выбора и личных более или менее теплых чувств.
Тем не менее эманации, более или менее теплые, отделяются от многоразличных ощущений сродства и случайного сходства и, сливаясь в одно целое, образуют ту теплую атмосферу общих стремлений, называемую любовью родственной; это – аккорд, составленный из гармоний различных инструментов. Собираясь вместе, родственники невольно совершают обмен сердечных благоуханий, наслаждаясь чувством семейности и сродства. В подобных случаях необходимым условием сборищ бывает отсутствие каких бы то ни было затаенных чувств озлобления и ненависти. Эти оттенки родственного аффекта до того хрупки и нежны, что мельчайшее дуновение враждебного ветра может сдуть их, и малейшее столкновение может уничтожить всю прелесть общения. Приятны бывают те семейные празднества, где собирается все гнездо, где присутствуют все члены широко разветвившейся семьи в восходящей и нисходящей линиях. В подобных случаях и без присутствия приязни, более или менее страстной, или каких-либо нежных чувств ощущается наслаждение при виде стольких индивидуумов, таинственно связанных общностью происхождения, и сердце каждого невольно трепещет от весьма наивного и чистого удовольствия.
Наслаждения семейные – то же самое, что в деле существования хлеб и вода. Мы вовсе не сознаем наслаждений, доставляемых этими питателями жизни человеческой; отсутствие же их бывает весьма и весьма чувствительно, и только при недостаточности их мы сознаем действительно всю громадность их значения в жизни. Все вы счастливые, имеющие где-либо семейный кров или родственное гнездо, где вам возможно бывает отдохнуть, хоть на время, от жизненных непогод; умейте пользоваться близким, насущным счастьем, а главное, забудьте скорее о тех мелких уколах самолюбию вашему, о тех микроскопически малых противоречиях, которые заставили было вас возненавидеть блаженную и тихую пристань семейного круга. Учитесь любить и быть любимыми! В области семейной жизни сокрыты несказанные сокровища; там предстоит вам и выполнение обязанностей, и пользование правами, там ждут вас нескончаемые наслаждения, обычные спутники благородных чувств и мыслей. Вспомним древнюю поговорку: «Не ходи далеко за тем, что у тебя под рукой!» Словом, не злоупотребляй значением жизни.
Кроме тех многоразличных форм первичного чувства людского общения, о которых много уже говорено, существует еще много других, хотя бы менее определенных видоизменений его, о которых следует упомянуть здесь, так как и они бывают, в свой черед, источниками разнообразнейших для нас наслаждений. В человеке нас интересуют иной раз характерные черты, придаваемые ему возрастом. Вид младенца, например, сразу возбуждает всеобщее к нему сочувствие. Всякому доставило бы удовольствие покачать его, пощекотать его крошечную ладонь, так или иначе прикоснуться к его округленным членам. Вид человечка столь крошечного, столь еще неосмысленного, столь грациозного в его передвижениях производит в нас какое-то нравственное щекотание всех единовременно возбужденных способностей ума и сердца.
Неопределенность ли будущего этого микроскопически малого создания, предположения ли на этот счет внезапно пробуждают интерес зрителей – неизвестно; верно только то, что присутствие младенца бывает для каждого источником живых и разнообразных наслаждений. Ежели случилось кому-либо из читателей посетить клинику знаменитого профессора, хирурга Порто, тот не забудет никогда удовольствия, написанного на лице этого великого мужа, когда он заигрывает и шутит с детишками, доверенными их родителями смелому искусству его хирургического ножа.
Красота юноши, без каких-либо отношений к его полу, интересует каждого уже одним видом его силы, которой дышит вся его фигура. Примитивный аффект, возбуждаемый человеком-юношей, бывает выражением весьма естественного сочувствия каждого из нас иль наилучшему экземпляру линнеевского homo sapiens. Сверкание молниеносных очей, гибкость и живость его движений, внезапное потряхивание волнистыми кудрями – вот элементы удивления нашего к человеку вообще, каков ни был проявляемый им тип красоты. Сложное понятие о красоте человеческой составляет продукт интеллигенции, а только сердце участвует в сочувствии нашем при виде юноши.
Когда старец не изуродован нравственными или физическими недостатками, вид его не внушает нам ничего, кроме живейшего к нему сочувствия. Объятые священным страхом, мы вспоминаем при виде его о всемогуществе времени и о слабости сопротивления, оказываемого ему природой человека. В виде старца сосредоточены бывают для нас и самые дорогие сердцу человеческому и самые страшные для него воспоминания; он – символ для нас и течения долгой жизни, и неминуемого приближения смерти. Это – монумент из живого мяса, и вид его сосредоточивает в себе уважение к памяти былого с естественным сочувствием к виду человека вообще. Неопределенный луч, дрожащий в глазах старика, и серебро его седин всегда возбуждали во мне такой прилив уважения, что мне всегда хотелось снять шапку перед каждым из встречающихся мне по пути подобных памятников уже почти дожитого существования. Старец честно поживший – явление святое на земле. Описав выше наслаждения материнской любви, я не упоминал больше о влиянии других проявлений чувствительности на жизнь людей. Не говорил я ни о выражении, налагаемом ими на лицо человеческое, ни о многочисленных искажениях нравственных чувств. Не хотелось мне повторять без конца одно и то же. Попробую хоть раз избегнуть вечных повторений.
Составивший себе ясное понятие о наслаждениях примитивным чувством и наслаждениях социального аффекта вообще постигнет и без моей помощи все наслаждения, доставляемые прочими аффектами человеческого сердца. Радости одни и те же, все они заключаются в наслаждении «любить» и «возбуждать к себе любовь», в сознании благотворения и в сознании получаемых благодеяний. Каждое нравственное чувство, однако, придает наслаждению особенный характер, словно налагая на него печать свою, как бы некий фабричный штемпель. Так, одну и ту же помощь можно оказывать и незнакомому вовсе человеку и задушевному другу, и матери, и любимому существу, и брату или сестре. Во всех этих случаях человек наслаждается одинаково сознанием совершенного доброго дела, но чувство, сопровождающее в этих случаях выполнение долга, окрашивает наслаждение особенным оттенком, изменяя степень и самую суть его природы.
Наслаждение выразится на лице человеческом всегда одними и теми же чертами, но чувство скользит по лицу широкой кистью своей и придает картине совсем иной оттенок и совершенно иное значение.
Я должен здесь снять с себя обвинение. Меня укорят в пробеле, оставляемым мною относительно супружеского счастья. Но в тех случаях, когда супружество не основано на меркантильных условиях и на биржевой сделке, оно составляет всю ту же любовь, и мне приходится отсылать читателей к тем главам, где я говорю о чувствах дружбы и себялюбия. Когда закончен будет мой труд «О физиологии страданий», читатель, ознакомившийся с обеими книгами, усвоит себе всю повесть этого гражданского и религиозного союза, этого непременного и законного заболевания любви.
Глава XXIII. О наслаждениях, доставляемых чувством уважения и почитания
Одним из самых возвышенных чувств, украшавших века цветник нашего сердца, является чувство уважения к людям великим и славным, возвышающимся над толпой изяществом сердечного аффекта или превосходством нравственных сил. Чувство это, в зависимости от образа своего проявления, может носить различные семена, но оно всегда и везде остается чувством возвышенным, способным утешить человека наслаждениями высшего разряда.
При меньшем развитии этого чувства, люди не переступают границ холодного удивления, и наслаждение является нам от отражения на душу нашу чувств красоты, справедливости величия и добра, блестящих в делах высокоуважаемых личностей.
Выполняя сами какое-либо доброе дело, мы наслаждаемся чувством, начало и основание которого лежат в собственной нашей душе; когда же мы смотрим на доброе дело со стороны, оно только временно отражается в совести нашей, вызывая в ней ответный луч чувством восторга или удивления к поступкам других. Естественный феномен этот физиологически повторяется в совести большинства людей, но в области патологии зеркало совести тускнеет от дуновений тщеславия и эгоизма, и оно не только утрачивает способность отражать дела великих людей, но отвечает на яркий свет, ими проливаемый, лучами зависти и злобы. Мало-помалу оно вообще лишается способности отражать что-либо, кроме крайнего равнодушия. Луч, отражаемый в нашей совести, видоизменяется и по количеству вмещаемого им в себе света, и по численности вызываемых им представлений. Так человек, сразу поразивший нас каким-либо делом высокого ума, возбуждает к себе восхищение, могущее доходить до боготворения, если только молниеносен и ярок поразивший нас луч истины и красоты. Но удивление при виде подобных проявлений высшей интеллигенции может вызвать отражение луча яркого, но всегда холодного; лучи же, распространяющие около себя дело добра и милосердия, доходят теплее и мягче до сознания людского и заставляют существенно колебаться сердца, которые при этом и восхищаются, и уважают, и начинают даже любить.
В обоих случаях чувство удивления и восторга всегда бывает чувством вполне благородным, так как ему приходится побороть противодействие эгоизма и тщеславия; и мощное, всепоглощающее во многих людях понятие о значении собственного «Я» должно уступать здесь место удивлению к другому лицу. Исполняясь восхищением к другому, человек тем самым признает превосходство этого другого над собой и являет своим уважением как бы знак подданичества и пересиливает собственное тщеславие и признает слабость свою. Но так как и эгоизм составляет необходимый элемент человеческого существования, грешащий только излишеством своего развития, то против чувства уважения к другим в человеке всегда борется инстинкт собственного эгоизма, уступающий шаг за шагом требованиям уважения. Люди непомерной душевной гордыни не уважают никого, но и они бывают, однако, принуждены силой истины выразить удивление и восторг; хотя в глубине сердца они этого не признают. Когда же и в их затемненную гордыней совесть проникает море света, тогда они злостно закрывают глаза пред его лучами. Для таких людей уважение и восторг останутся навсегда мертвой буквой.
Некоторые умеют платить дань должного уважения только людям, разлученным сними громадностью пространства, или, что еще лучше, бездной, которая отделяет смерть от жизни. Их не пугает только превосходство людей далеких или уже ушедших из жизни; гордецы эти нередко заключают все честолюбивые домыслы свои в границах своей области, своего города или даже только своего села.
Но, к великому нашему утешению, существует немало людей, которые, не будучи сами великими, умеют удивляться всему высокому на земле; людей, которые, не переступив сами граней добра и обыденных обязанностей, плачут, читая сказание об Аттиле Регуле или любуясь современными им самим подвигами великодушия. Не мало мужей истинно великих умели выражать уважение личностям, стоящим на более высокой ступени совершенства, охотно служа смиренными спутниками этим лучезарным для них светилам. Таким людям не чужды все наслаждения, проистекающие из чувства уважения со всеми его подразделениями. Мы разделим здесь все формы восторга и удивления на две равные категории.
Дань удивления, отдаваемая нами людям, уже не освещающим мира своими лучами, может переходить в некий культ, в действительное обоготворение, но в подобных наслаждениях гораздо более участвует ум, чем сердце. Наслаждаются люди уважением и к современникам, и к великим людям античного мира. Все подобные наслаждения могут быть соединены в одну категорию, напоминая о спокойном свете луны, бросающем на землю свет свой, но не греющим ее этим светом.
Другие наслаждения – более горячего, более яркого свойства, более сходные с солнечным светом. Здесь человек, возбуждающий восторг, не отдален от нас, и распространяющийся от него свет влияет на нас непосредственно, возбуждая и страх, и радость.
Мы ощущаем близость великого человека, восстанавливающего честь человечества, приниженную толпой пошлых и глупых людей; мы прислушиваемся к его голосу, впивая в себя свет, исходящий из лучезарных его очей.
Кому не дано было в жизни подобных минут, тот может вообразить себе блаженство их ощущения, если только, не лишенный высших свойств ума и сердца, он когда-либо жаждал и для себя венца славы. Излишними описаниями боюсь профанировать здесь одно из высших наслаждений жизни.
К этой второй категории наслаждений принадлежит счастье, ощущаемое при виде чужого доброго и великодушного дела. Наслаждения эти видоизменяются по степени достоинства самого дела, но они всегда согревают душу, ощущающую их. Теплоту подобных радостей я сравниваю только с таинственным чувством тепла, ощущаемого нашей рукой, опущенной в гнездо только что вылетевшей птицы.
Немногие из нас могут возвышаться до горных степеней самопожертвования, к которым они не перестают стремиться по причине высоты собственного духа и ради удовлетворения требований утонченного в них чувства. Им приходится жить среди душной и зловонной атмосферы эгоизма, влияния которой они не могут избегнуть, ни бросаясь в водоворот деятельной жизни, исполненной волнений и тревог, ни даже оставаясь в святилище собственной семьи.
Они, вероятно, не раз уже пробовали бросаться в умилении сердечном навстречу человеку, прославившемуся добротой своей, но их всякий раз ожидало разочарование при виде только строгого выполнения долга, что для подобных существ кажется только гранью, отделяющей людей от порока, а вовсе еще не тем, что они называют добродетелью. И вот, посреди безотрадной жизни, проводимой этими избранниками небес, этими болящими сердцем, случится им наткнуться на доброе дело любви и самопожертвования, или прислушаться к рассказу о подобном деле, или прочитать трогательную о нем повесть. Тогда эти бедные цветы, привыкшие держать свернутыми венчики собственного сердца в холодной температуре окружающего их эгоизма, развертывают с трепетной радостью благовонные лепестки свои и наполняют благоуханием благих дел атмосферу, их окружающую. Затем они снова и немедленно закрывают свои венчики с чувством религиозной сосредоточенности, наслаждаясь в сердце вполне утешившим их лучом истинного света и теплотой жизни, им сообщенной. Если на эти бедные строки мои упадут взоры того или другого из этих избранников небес, надеюсь, что они простят мне скудность моего описания, заметив, что в сущности я угадал всю прелесть их скромных наслаждений.
Как все другие чувства, так и уважение к людям способно к многоразличным наслаждениям. Все чувства и все способности нравственного мира могут участвовать в их произведении. Вид драгоценного автографа может вызвать и трепет наслаждения; даже слепой человек может заплакать от радости, прикасаясь к обители обожаемого им великого мужа. Чувствующий гармонию, завещанную миру великим Россини из глубины его могилы, ощущает при звуках этой музыки еще более, может быть, сердечного уважения к его личности, чем наслаждений чувством слуха. То же самое можно сказать и о человеке, который в первый раз читает автобиографию, оставленную великим мужем для утехи современных ему людей. Иногда наслаждения, проистекающие из иного источника, пропитываются всецело некоторым благоуханием уважения. Как время, пролетая над предметами, придает им особенно дорогое значение, так и чувства уважения, затронув легким и трепетным крылом своим все привязанности людей, сообщает им таинственно-высокое наслаждение. Так можно любить и быть особенно преданным благодетелю своему; но ежели благодетель этот отличается почтенною старостью и несомненными достоинствами ума и сердца, то приветствие ему и поцелуй его руки производятся с чувством трепетного наслаждения.
Всего отраднее бывает тот культ, который воздает человек семидесятилетней матери, или великому мужу, уже дряхлому и ветхому, но все еще по временам дающему знать о прежней высоте своего духа взором, полным огня и вдохновения.
Наслаждения эти способствуют развитию прочих благородных чувств, усмиряя внутреннюю гордыню людей и возводя тщеславие до степени благородного честолюбия; так что, не имея довольно нравственных сил, чтобы быть самим великими людьми, они, по крайней мере, становятся достойными понимать их. Случалось, что дань уважения, воздаваемая гениальной личности, указав человеку на благородную цель в жизни, дозволяла и ему самому пожинать и себе лавровые венки.
Эти наслаждения, как сказано выше, не могут стать достоянием всех людей, и каждый из нас испытывает их по-своему. Некоторые люди могут бывать в обществе, где собраны светила нашего времени, не ощущая притом ни душевного волнения, ни всепоглощающей радости; другие же, наоборот, бледнеют от радостного волнения, прикасаясь только к автографу Гёте или Наполеона.
Женщина, несомненно, более мужчины наслаждается подобными радостями. Они сильнее поражают нас в юности, чем в лета более зрелые, и влияют более на нецивилизованные народности и в особенности на племена севера Европы. Мы ничего не можем сказать с достоверностью о том, умели ли древние более нас почитать великих людей своего времени; но по крайнему убеждению моему, цивилизация повлияла благотворно и на увеличение этих наслаждений.
Выражение их получает различную окраску, смотря по тому, относятся ли они к области ума или сердца. В первом случае лицо человека, преисполненного почтения, выражает всегда сдержанность, взоры бывают устремлены со вниманием и все прочие черты несут отпечаток смирения и удивления, доходящего до неподвижности изумления. Ко всему этому присоединяются иной раз более или менее гласно, восклицания, почти набожное складывание ладоней и покачивание головой. Когда же, наоборот, мы поклоняемся перед делами щедрости и великодушия, тогда физиономия становится живее, подвижнее складываясь в светлую, исходящую от лица улыбку. Когда человек достигает высшей степени этих наслаждений, на глаза его навертываются слезы, доходящие иногда до вздохов и рыданий; но это умиление, эти слезы бывают всегда излиянием сладостно восхищенного чувства. Кто хоть один раз, будучи зрителем доброго дела, был в состоянии не удержаться от подобного умиления и подобных слез, тот не способен уже никогда совершить низкое или злонамеренное дело.
Физиономия, во всяком случае, изменяется, в зависимости от условий, приводящих нас к заявлению почитания и уважения. Мы можем боготворить Гумбольдта, но лицо наше примет тот или другой оттенок уважения, смотря по тому, слушаем ли мы в эту минуту рассказ о его жизни, читаем ли страницу из его бессмертного «Космоса» или созерцаем его собственными очами. О патологии этих радостей мы можем сказать весьма немногое, так как чувство столь благородное может стать преступным только в случае полнейшей профанации. Но и тогда заблуждение оказывается со стороны ума, а не сердца. Уважением можно злоупотреблять так же, как и всеми чувствами, если, например, мы оказываем почитание людям недостойным, или не по мере истинных заслуг.
Мы видим людей, проводящих большую часть жизни в изумлении и с благоговейно сложенными перед кем-либо руками. Эти люди, разумеется, не имеют ни малейшего понятия об истинных наслаждениях чувств высокопочитания, жуируя по-своему несвязными и бледными вспышками слепого боготворения.
Но самая отвратительная проституция чувства случается тогда, когда злорадные и гнусные люди любуются великостью преступления и наглостью порока. Цинизму злодея, напевавшего песенку при входе на плаху, радовался уже не раз подобный ему преступник, который, скрываясь в толпе, должен был бы, казалось, проливать слезы и по возможности приносить плоды покаяния.
Глава XXIV. О наслаждениях любви к Родине