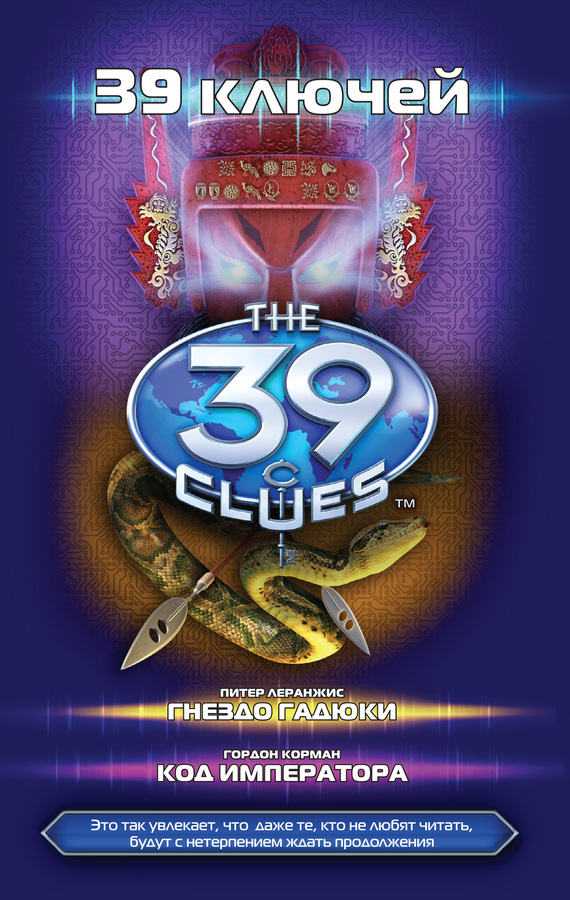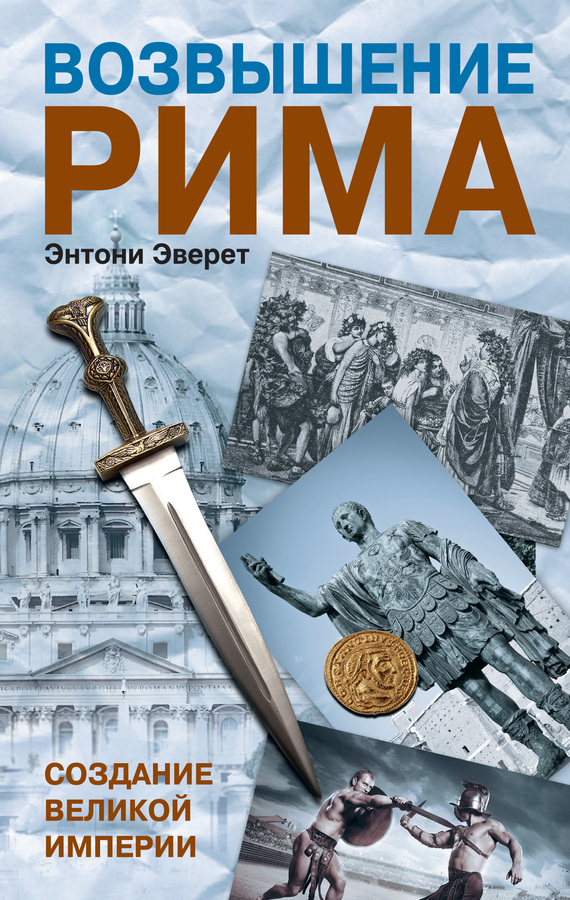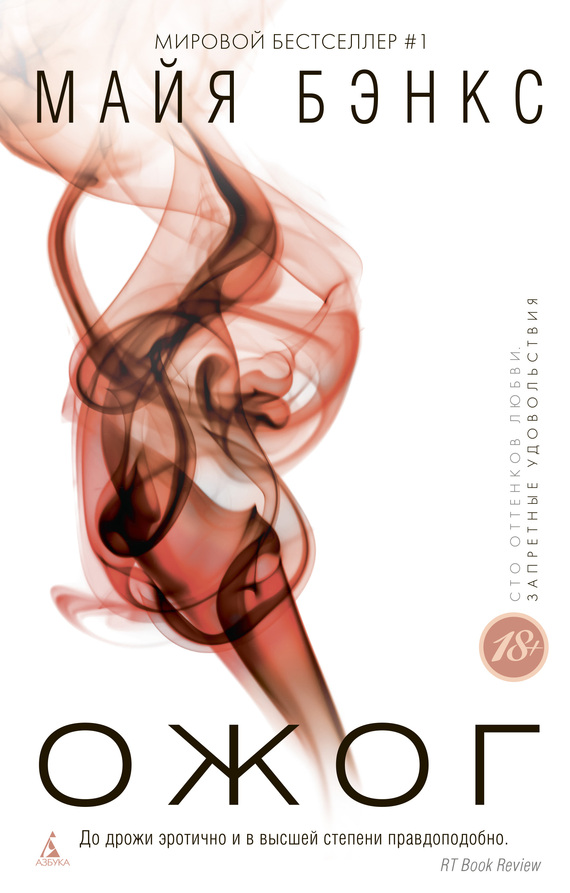Grace. Автобиография Коддингтон Грейс
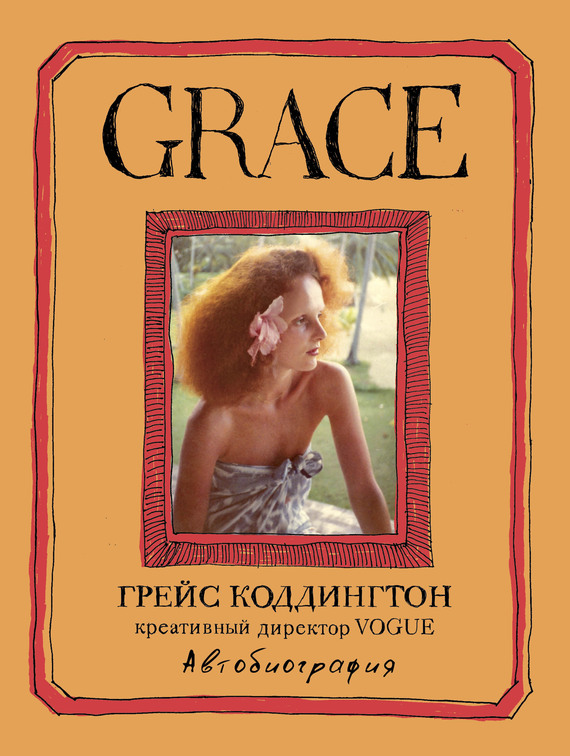
Другие произведения Грейс Коддингтон:
Grace: Thirty Years of Fashion at Vogue («Грейс: Тридцать лет моды с Vogue»)
The Catwalk Cats («Кошачьей походкой») (в соавторстве с Дидье Малижем)
Это я, пухлощекая будущая модель, здесь мне четыре или пять лет.
Одна из моих многочисленных стрижек, около 1954.
Моя первая модельная открытка, которая победила на конкурсе в Vogue, 1959.
Моя знаменитая пятиконечная стрижка от Видала Сассуна. Фото: Дэвид Монтгомери, 1964.
Мой авторский художественный макияж. Фото: Жанлу Сьефф, 1966. © Из коллекции Жанлу Сьеффа. Из архива Vogue © The Cond Nast Publications Ltd.
Я в качестве приглашенной модели на показе Ива Сен-Лорана, ночной клуб Maunkberry в Лондоне. Фото: Энтони Крикмей, 1970.
На съемке в память об Эдварде Уэстоне, Белпорт, Лонг-Айленд. Фото: Брюс Вебер, 1982.
Фотографы собрались отпраздновать выход моей книги «Грейс: Тридцать лет моды с Vogue». Слева направо: Марио Тестино, Шейла Метцнер (лежа), Эллен фон Унверт, Стивен Кляйн, Энни Лейбовиц, Алекс Шатлен, Херб Ритц (сидя), Брюс Вебер, Крэйг Макдин (у стены), Артур Элгорт, я, Дэвид Бэйли, Питер Линдберг. Фото: Энни Лейбовиц, 2002.
Моя самая «худая» фотография. Для итальянского Vogue со взятой напрокат кошкой. Фото: Стивен Майзел, 1992.
Вглядываясь в будущее, Лондон. Фото: Вилли Кристи, 1974.
С Дидье на вечеринке Vogue, Нью-Йоркская публичная библиотека. Фото: Марина Скьяно, 1992.
Пролог,
в котором наша героиня обретает экранную славу, но, как Грета Гарбо, мечтает, чтобы ее оставили в покое
Впервые я узнала о фильме «Сентябрьский номер» – благодаря которому, собственно, я и стала известна – от Анны Винтур, когда однажды она позвала меня в свой кабинет в редакции Vogue и будто между прочим обронила: «Да, я договорилась со съемочной группой, они придут снимать про нас документальный фильм». Первоначальный замысел фильма ограничивался съемками подготовки бала в Институте костюма Музея Метрополитен, но постепенно обрастал новыми идеями. Теперь режиссеры хотели снимать все совещания, споры и склоки, которые сопровождают процесс рождения сентябрьского номера журнала, главного в году. Они собирались нагрянуть в наш офис и наблюдать за всем, что происходит в его стенах. Я даже слышать об этом не желала. Как креативный директор журнала, я была занята массой куда более важных дел. Да и как можно проводить фотосессии, когда рядом крутятся посторонние? «Только не рассчитывай, что я буду в этом участвовать», – сказала я, замечая, как тускнеет взгляд Анны, устремленный мимо меня в окно. У нее есть такая привычка: она теряет интерес к людям, когда они говорят не то, что ей хочется слышать.
Моя реакция на предстоящее вторжение была вполне естественной: я всегда считала, что каждый должен заниматься своей работой и не отвлекаться на эти новомодные глупости из разряда «хочу стать звездой». Уже потом я узнала, что продюсеры почти год уламывали Анну, прежде чем она сказала «да». Уверена, она согласилась только из желания показать, что команда Vogue – не сборище болванов, издающих мусор. К тому времени фильм «Дьявол носит Prada» уже изрядно подмочил нам репутацию, выставив мир моды в самом нелепом свете.
В процессе съемок киношники так и вились вокруг в надежде завоевать мое расположение и склонить к сотрудничеству. Они уже были наслышаны о моей несговорчивости (и в самом деле, я решительный противник интервью), но все равно продолжали стучаться в мою дверь, приглашая к участию в съемках. Они были удивительно милы и любезны, но я твердо сказала, что меня все это не интересует, и попросила не маячить перед глазами и не мешать мне работать. Ненавижу, когда за мной наблюдают; так и хочется отогнать непрошеных зрителей, будто назойливых мух.
Дверь моего кабинета оставалась плотно закрытой. Я наговорила кучу грубостей режиссеру Р. Дж. Катлеру, и на протяжении почти шести месяцев мне удавалось избегать попадания в кадр. Они снимали в гардеробных, и я слышала доносившиеся оттуда возгласы: «О, как мне нравится это красное платье» или «О да, думаю, Анне оно придется по душе» и прочий вздор, который обычно произносят на камеру. Потом съемочная группа сопровождала нас на Парижскую неделю моды. Это был настоящий кошмар. Они постоянно путались под ногами, расталкивали нас локтями, чтобы только сделать снимок Анны. На показе Dior оператор Боб, пятясь, чтобы запечатлеть ее в движении, отдавил мне ногу. Это стало последней каплей. Тут уж я не сдержалась. «Между прочим, – крикнула я, – я тоже работаю в Vogue!» Они старались запечатлеть каждое мгновение в жизни Анны – как она сидит в первом ряду, наблюдает за показом и эмоционально реагирует на увиденное… Мне показалось, что это уже перебор. К тому же я заметила, что у Анны в петличке появился микрофон. Это создавало дополнительное препятствие для нашего общения, поскольку теперь она была вынуждена следить за своими словами.
И тут мне вспомнилась старая мудрость: «Не можешь победить – присоединяйся». К тому же Анна затащила меня к себе в кабинет и сказала: «Им нужно снять для фильма, как ты проводишь фотосессии. Покажи им, как ты работаешь. И на этот раз без возражений, пожалуйста. Все, разговор окончен». Что ж, меня загнали в угол. «Но если ты вставишь меня в фильм, то услышишь то, что тебе не понравится, – предупредила я. – Притворяться я не умею. Я буду сосредоточена на съемке и могу выпалить все, что в голову взбредет». (На самом деле я, конечно, думала, что, даже если позволю себе нелестное выражение, его непременно вырежут – вот почему на протяжении всего фильма я ругаюсь, как извозчик.) В прошлом мне уже доводилось участвовать в съемках документальных фильмов о мире моды, но усилиями монтажеров мое появление на экране неизменно сводилось к минимуму.
Я была в шоке, когда впервые увидела окончательную редакцию фильма. Меня было слишком много. Позже один из членов съемочной группы сказал мне, что могучая динамика наших с Анной отношений придала фильму особый драйв. В редакции прошли два просмотра. Думаю, Анна не хотела смотреть фильм вместе с нами. Я была на первом сеансе с модельерами; она пришла на второй с писателями и прочими интеллектуалами, чьим мнением, наверное, дорожила больше. Мы с замиранием сердца расселись перед экраном, пытаясь вспомнить все, что наговорили в камеру за долгие месяцы съемок: с тех пор мы не видели ни одного кадра, лента пролежала в монтажной комнате почти год.
Теперь я знаю, что из всего этого вышло, и могу от души посмеяться. Как бы то ни было, в фильме я получилась живой и искренней. Хотя, должна признать, меня в нем действительно многовато. Я так и не услышала мнения Анны о фильме. Ни разу. Знаю лишь, что неодобрения она не высказывала – как, впрочем, и особого восторга. Единственное, что она сказала после просмотра: «Пусть Грейс займется прессой», после чего удалилась. Однако она все-таки посетила премьерный показ на кинофестивале Sundance[1], а потом стояла на сцене, неподвижная и загадочная, в темных очках и с бутылкой минералки, пока Катлер отдувался за нее, отвечая на вопросы журналистов.
На показе в Саванне, где я впервые согласилась выступить на публике, мы вместе с шеф-редактором Vogue Андре Леоном Талли[2] провели пресс-конференцию. Из уст журналистов я то и дело слышала: «О, мы просто вами восхищены». Знаете, мне это даже стало нравиться (шучу, но на самом деле было приятно). Конечно, за градом вопросов угадывалось желание как можно больше узнать об Анне – интерес к ней не угасает. Андре был простона высоте. Он ловко обходил острые углы, и всякий раз, когда упоминали Анну, он менял тему и переключался на Мишель Обаму или Диану Вриланд[3].
Меня всегда удивляло, что зрители «Сентябрьского номера» так тепло ко мне отнеслись. Может, дело в том, что на экране я очень эмоциональна. И, наверное, по сравнению с Анной, по натуре более сосредоточенной и сдержанной, я выгляжу идеалисткой. Или в фильме я предстаю этакой рабочей лошадкой, которую эксплуатируют все, кому не лень. А может, люди всегда так реагируют на непосредственность и самостоятельность. Им нравится, что я не боюсь спорить со своим боссом, чего не смеет ни один сотрудник журнала – а я делала это всегда и, надеюсь, буду делать впредь.
В первые дни проката фильма меня пригласил выступить в Нью-Йоркской публичной библиотеке Джей Филден – в то время главный редактор мужского журнала Men’s Vogue. Для меня это было сущим испытанием, поскольку в аудитории я заметила Анну с Сэмом Ньюхаусом – владельцем издательской компании Cond Nast. Но прошло какое-то время, и пресс-конференции стали обычным делом. Я привыкла к ритму вопросов и ответов и научилась держать паузу, прежде чем набраться храбрости и сделать эффектный выпад, встречая прямой взгляд интервьюера. И вот однажды до меня дошло, что каким-то чудесным образом я стала узнаваемой. Я заметила, что возле моего дома в Челси, в Нью-Йорке, регулярно собираются группки: модные фрики, геи и натуралы, молодые и старые – в общем, разношерстная публика. И всякий раз, завидев меня, эта толпа взрывалась радостными возгласами. Я чувствовала себя, как Beatles. Даже, я бы сказала, круче, потому что фанатские толпы, преследовавшие Beatles в начале их славы, порой бывали грубыми. Однажды меня засосало в настоящий водоворот. Согласившись на выступление в местном кинотеатре, я приехала как раз в тот момент, когда выходила публика с предыдущего сеанса. Стоило мне показаться из-за угла, как я услышала: «Грейс, Грейс! О боже, это она!».
Они все еще помнят меня. Может, потому что я часто хожу по улицам и езжу в метро, а не прячусь за стеклами лимузина, как Анна. После той череды вопросов и ответов, разворошивших мои воспоминания, я решила, что, возможно, мне есть чем поделиться с миром. И вот я пишу мемуары. Никогда бы не подумала, что доживу до преклонных лет и буду достаточно интересной, чтобы меня читали.
Однажды, уже после выхода «Сентябрьского номера», мы ужинали в маленьком ресторанчике в Южном Манхэттене с Николя Гескьером – дизайнером модного дома Balenciaga, который прилетел из Парижа. «Грейс, это правда, что тебя узнают на улицах?» – вдруг спросил он. После ужина я предложила ему прогуляться до дома пешком. Мы брели мимо переполненных ресторанов, баров, ночных гей-клубов, и отовсюду выскакивали люди, восклицая: «Это Грейс. Это Грейс! Вау… И с ней Николя Гескьер!» Вспыхивали и щелкали фотокамеры мобильников. В конце концов мы оба не выдержали и расхохотались, решив, что мы не хуже Пэрис Хилтон!
О детстве и юности
Глава I,
в которой наша одинокая героиня под завывание ветра, рев морских волн и шум дождей мечтает стать Одри Хепберн
Песчаные дюны вдали, суровые черно-белые скалы вдоль берега. Каменные круги друидов. Редкие деревья. И уныние. Но даже в этом я видела красоту. В моем распоряжении был замечательный пляж и маленький парусник «Арго», на котором я часами дрейфовала в море, пока его не прибивало к скале в подковообразной бухте под названием Треарддур Бей. Мне было пятнадцать – в голове сплошь романтические фантазии. Некоторые из них подогревались мистической атмосферой Англси – малолюдного острова, затерянного в тумане у северного побережья Уэльса, где я родилась и выросла; что-то я подсматривала в кино. Каждую субботу я покупала билет за три пенса, садилась в автобус и ехала в обшарпанный кинотеатр – единственный на весь Холихед. Это был невзрачный прибрежный городок, откуда в Ирландское море уходили пароходы на Дублин с пассажирами-ирландцами, которые перед посадкой уже успевали пропустить стаканчик. Или два. Может быть, три или четыре.
Первые восемнадцать лет моей жизни отель «Треарддур Бей», которым управляла наша семья, был моим единственным домом. Это было простое здание с оштукатуренными стенами и серой шиферной крышей, длинное и низкое, больше похожее на вытянутое бунгало. В отеле было тридцать две комнаты. Это уединенное местечко для спокойного отдыха ценили любители парусного спорта, рыбалки и долгих прогулок по горам, предпочитавшие такие развлечения изнурительному поджариванию на солнечном пляже. Отель не мог похвастаться удобствами – ни телевидения, ни еды в номер. И даже – в большинстве случаев – ванной с туалетом, хотя под каждой кроватью стояли роскошные ночные вазы из белого фарфора, а в некоторых номерах-«люксах» имелся умывальник. Три-четыре общие ванные комнаты обеспечивали нужды всех постояльцев. На весь отель была одна горничная – миссис Гриффитс, милая старушка в черном платье и белом фартуке, вечно с тряпкой и щеткой для чистки ковров. Помню, как опешила моя мама, когда гость, приняв ванну, звонком вызвал горничную, чтобы та убрала за ним. Почему бы самому за собой не убрать? Этот вопрос мучил ее еще долго.
В нашем маленьком отеле были три гостиных, декорированных в стиле сочетающем домашний уют и роскошь. Самые впечатляющие предметы обстановки отец привез из родового гнезда в Мидлендсе. Еще в раннем детстве я узнала, что Коддингтоны из Беннетстон Холл, фамильного поместья в Дербишире, могут похвастать богатой родословной, в которой по меньшей мере два члена парламента – мои дед и прадед. Если же углубиться в далекую историю, в ней можно было отыскать и семейный герб с драконом, изрыгающим пламя, и девиз Nils Desperandum («Никогда не отчаивайся»). Так что, при всей скромности гостевых комнат, столовая была обставлена огромными антикварными буфетами с резными фазанами, утками и виноградными гроздьями, а в Голубой гостиной внимание привлекало бюро из атласного дерева, расписанное херувимами. В большой библиотеке, помимо стеллажей с сотнями томов в красивых кожаных переплетах, умещались и многочисленные витрины, в которых были выставлены морские раковины и коллекции бабочек и жуков. В музыкальном салоне стоял рояль (наследство по материнской линии), а стены были увешаны мрачными фамильными портретами в золоченых рамах.
Постояльцы поднимались с восходом солнца и с его заходом ложились спать. Если нужно было позвонить, в баре стоял общественный телефон. Обед подавали в час, ужин в семь вечера, а официантов было всего двое. Чай наливали по желанию. Завтрак накрывали с девяти до половины десятого утра и только в столовой – разумеется, о завтраке в номер и речи не было. Еще в отеле была игровая комната со столом для пинг-понга, где я без устали тренировалась. Я была асом настольного тенниса и неизменно обыгрывала всех гостей – к некоторому неудовольствию моих родителей.
Песок на длинной полосе пляжа перед отелем был мелким, а ближе к берегу, куда накатывали волны ледяного Ирландского моря, его забивала галька. Но все равно можно было спокойно заходить в воду и шлепать дальше, пока не заледенеют колени.
Я все детство тосковала по пышной растительности. Редкое деревце пробивалось сквозь каменистую поверхность нашей части острова. Лишь изредка, когда мы выбирались навестить Элис, тетушку моего отца в ее большом доме на южном берегу, можно было увидеть настоящие заросли. Моя двоюродная бабушка была такой старой и дряхлой, что мне всегда казалось, будто ей сто лет. Она жила неподалеку от городка Бомарис, где в 1930-е годы бурлила жизнь. Там мои родители и познакомились: мама жила по соседству, в поместье Трекасл.
С одной стороны нашего отеля простирался серый морской пейзаж со скалами, утесами и камышами, открытой всем ветрам пустошью и рыбацкой фермой. Другой стороной он граничил с Треарддур-Хаус – престижной подготовительной школой для мальчиков. Когда во мне проснулся интерес к противоположному полу, я, бывало, задерживалась по пути к автоусной остановке, откуда ехала в школу, и робко подглядывала, как они играют в футбол или крикет.
Отель работал с мая по октябрь, но гарантированно был заполнен только в относительно солнечном августе – во время летних каникул. Многие семьи из Ливерпуля и Манчестера старались приехать именно к нам, хотя им было легче добраться до более популярных курортов Северного Уэльса, – настолько уютными были наши пляжи и деревушка. В остальное время отель по большей части пустовал, и останавливались в нем разве что родители, которые приезжали к своим сыновьям на школьные праздники.
Каждый год хмурые облака и свирепые штормы возвещали о конце лета. Местные жители бросались спасать деревянные лодки, которые болтались в заливе, как поплавки. Рыбак Левеллин был в этом деле главным: он вылавливал лодки и пришвартовывал их у волнолома. Всю долгую зиму, пока отель был закрыт, густые туманы накрывали нас с головой, а бушующее море набрасывалось на береговую линию. Деревушка будто вымирала. По ночам до нас доносились печальные стоны соседнего маяка. Снега почти не бывало, но дожди шли без перерыва: от постоянной мороси воздух был настолько влажным, что казалось, будто сырость проникает даже в кости. Еще ребенком я узнала, что такое ревматизм.
После обеда я подолгу гуляла вдоль берега с Чаффи, йоркширским терьером моей мамы, и Макки, скотч-терьером сестры. Пенные волны бились о серые скалы, и, если зазеваться, можно было вымокнуть до нитки.
На протяжении бесконечных зимних недель в отеле было так пусто, что освещение даже не включали. Мы с сестрой развлекались игрой в привидения. Завернувшись в белые простыни, мы прятались в темных безлюдных коридорах, где было так много таинственных дверных проемов, откуда можно было выпрыгнуть с криком «Бу!». Мы подолгу сидели в засаде, в гулкой тишине, нарушаемой лишь тиканьем дедушкиных напольных часов. В конце концов я не выдерживала мрака и этого зловещего тиканья, мне становилось страшно, и я убегала к камину, где было тепло и уютно.
Я родилась 20 апреля 1941 года, в самом начале Второй мировой войны, и в том же году нацисты захватили Югославию и Грецию. Мне дали сразу три имени: Памела Розалинда Грейс Коддингтон. Моя старшая сестра Розмари (для краткости – Рози) назвала для меня Памелой, и для всех наших знакомых я стала просто Пэм.
Мэрион, моя бабушка по материнской линии и канадская оперная певица, влюбилась в деда во время гастролей в Уэльсе. Он последовал за ней в Канаду, где они поженились и где родились моя мать, ее брат и сестра. Какое-то время они жили на острове Ванкувер, поросшим лесом, где водились медведи. Уже потом они вернулись на Англси, где бабушка становилась все более мрачной и писала ужасно грустные стихи. Говорят, дед был помешан на дисциплине. Я слышала, что однажды он на целый день запер бабушку в ванной комнате на нижнем этаже, предназначавшейся исключительно для джентльменов, в наказание за то, что она воспользовалась чужим туалетом, пусть и по крайней нужде.
Джейни, моя мать, унаследовала эту викторианскую строгость и полагала, что детей должно быть видно, но не слышно. Она требовала абсолютного послушания, но никогда не выходила из себя и не повышала голос. Я должна была сама застилать постель и наводить порядок в своей комнате, а также выполнять некоторые обязанности по дому. Мама была сильной, настоящим стоиком. Собственно, на ней и держалась наша семья. С фотографий 1920-х годов на меня смотрит ухоженная и успешная женщина. Она рисовала – особенно ей удавалась акварель, – играла на пианино и испанской гитаре. Хотя мать считала себя англичанкой, в ее жилах текла валлийская кровь. Она была потомком древнего и знатного рода, восходящего к Черному принцу[4]. (Правда, никто из нас не считал себя валлийцем; мы были, скорее, иностранцами, migrs[5] из Дербишира.)
Мой отец, Уильям или Вилли, был англичанином до мозга костей: интроверт, весь в себе и настолько сдержанный, что слова из него надо было тянуть клещами – впрочем, как и из меня. Я помню, как он часами просиживал в своем кабинете, но не припомню, чтобы он делал что-то по дому. Его всегда окружала аура грусти.
Папа увлекался механикой. Его хобби были игрушечные лодки и самолетики, он вытачивал крохотные двигатели на небольшом токарном станке в коридоре возле нашей спальни. Третье имя, Грейс, дал мне отец в память о своей матери. Когда в восемнадцать лет я покинула родной дом, моя давняя лондонская подруга Панчитта (для меня она была олицетворением гламура, поскольку училась актерскому мастерству) сказала, что, если я хочу добиться успеха в большом городе, мое третье имя подойдет как нельзя лучше. «Думаю, Грейс – именно то, что нужно для модели, – с энтузиазмом заявила она. – Грейс Коддингтон. Звучит!»
Я росла замкнутым и болезненным ребенком. Приступы бронхита и ларингита были настолько частыми, что врач всерьез подозревал туберкулез. Из-за болезни я пропускала как минимум половину каждого учебного семестра. Родители даже пытались укреплять мой иммунитет пивом «Гиннесс» и темной приторной микстурой из солодки, которую я обожала. Я была бледной, веснушчатой и страдала аллергией на солнечный свет. К счастью, если во времена моей юности в Уэльсе солнце и проглядывало, то только через завесу тяжелых серых туч. Позже, когда мне было уже за двадцать, стоило мне позагорать, как лицо тут же опухало. Но мне все равно не сиделось дома. Подростком я чаще бывала на улице, чем в помещении: ходила под парусом, взбиралась на скалы, перелезала через изрезанные склоны соседней Сноудонии[6] или бродила по равнинам нашего острова, усеянным дикими цветами.
Наша семья жила в так называемом аппендиксе – изолированном крыле здания сразу за гостиничной кухней. У нас был свой вход, симпатичное крыльцо, увитое клематисом, и сад, в котором буйствовали розы и гортензии – радость и гордость моей матери. На заднем дворе мы выращивали овощи, держали гусей, уток и кур.
Это был наш личный мирок. Комнаты были обставлены в том же стиле, что и отель, но все выглядело куда миниатюрнее, по-домашнему. Все картины и гобелены на стенах были авторства моей матери. Часто нам приходилось тесниться из-за разного хлама: мама с трудом могла себя заставить выбросить даже пустую банку из-под варенья. Беспорядок разрастался так стремительно, что, сколько мы ни распихивали вещи по шкафам или прятали за шторы, мне всегда было неловко приглашать домой школьных подруг.
Для меня стало потрясением, когда я узнала, что наш маленький отель на самом деле никогда нам не принадлежал, а является собственностью брата матери – дяди Теда, грубоватого вояки, который унаследовал его и много другой недвижимости в округе от моего деда. Оказывается, мы все жили в «Треарддур Бей» лишь благодаря доброте дяди. По истинно викторианским традициям все имущество, принадлежавшее семье моей матери – а было его немало, – перешло по наследству к дяде как к единственному мужчине, хотя он и был младшим ребенком. Женщины, то есть моя мать и ее сестра, тетя Мэй, не могли ни на что рассчитывать. Соответственно, сын дяди Теда и мой двоюродный брат Майкл должен был унаследовать все имущество отца. В детстве мы с Майклом, добродушным и веселым мальчишкой на год старше меня, были неразлучны. Потом его семья переехала в Малайзию, куда дядя Тед получил назначение. По возвращении Майкл снова взял на себя роль старшего брата и защитника. Мы катались на лодках, а когда он сменил велосипед на мотоцикл, я то и дело запрыгивала к нему на заднее сиденье, и мы вместе гоняли по окрестностям. Мы даже поклялись, что поженимся, если к пятидесяти годам никого не встретим.
Все были уверены, что если немцы попытаются вторгнуться в Британию, то начнут с Ирландии и высадятся где-нибудь на неприметном валлийском побережье. И действительно, в тот год, когда я родилась, немецкие люфтваффе бомбили Белфаст по ту сторону моря. Это был самый масштабный воздушный налет за пределами Лондона. Так что армия реквизировала наш отель, закрыв его для постояльцев. Нам разрешили остаться, но лишили возможнсти зарабатывать на жизнь.
Солдаты установили зенитные вышки вдоль всего побережья, на мысе и холмах, а пляж стал парковкой для танков. Каждый вечер, как и полагалось в военное время, мы приглушали освещение и плотно зашторивали окна светомаскировочной тканью.
Мне было года три, когда к нам нагрянул целый американский полк, пополнивший ряды уже расквартированных солдат. Они жили во временных бараках, которые построили вдоль берега прямо напротив отеля. Американцы были добры к нам с сестрой: угощали сладостями, подкармливали своим пайком и помогали подняться, когда мы падали с велосипедов. Это случалось нередко: мы были отчаянными головами и здорово лихачили на подъездной аллее, которая теперь сплошь в выбоинах от военных грузовиков.
Моя прабабушка Сара Уильямс, 1899.
Моя бабушка Грейс Коддингтон, 1897.
Мой отец Уильям с бабушкой Грейс, Лесли (на фото с псом Джеком), Робертом и дедушкой Реджинальдом в Беннетстон Холл, Дербишир, Англия, 1912.
Тетя Мэй, бабушка Мэрион Уильямс, моя мама и дядя Тед, около 1911.
Свадебная фотография моих родителей, 1934.
Мой дом: отель «Треарддур Бей», Англси, Северный Уэльс, 1964.
Мой отец, сестра Розмари, мама и я в саду, Треарддур Бей, 1941.
С сестрой Розмари, в связанных мамой кофтах, возле гортензий в Треарддур Бей, 1945.
Перед морской прогулкой, в образе Одри Хепберн и, кажется, влюбленная. Треарддур Бей, 1955.
Домашняя «фотосессия» в платье колоколом, Треарддур Бей, 1954.
Очаровательная Рози незадолго до помолвки, Треарддур Бей, 1955.
В 1945 году, когда война закончилась, солдаты отправились по домам, оставив после себя настоящую разруху. Полы были безнадежно испорчены, зеркала разбиты, стены в пробоинах. Долгое время мои родители пытались достучаться до армейского начальства, чтобы те возместили ущерб. Наконец это произошло – компенсацию выплатили, но по довоенным расценкам, что составляло лишь малую часть реальной стоимости ремонта.
Мы привели отель в относительный порядок и снова открыли двери для гостей. Жизнь в деревне постепенно вернулась в прежнее русло. Мы все так же покупали газеты в супермаркете. Я продолжала откладывать карманные деньги на счет в сберкассе почтового отделения, где заодно пополняла запасы любимых сладостей – мятных конфет, леденцов и сладкой шипучки. Продукты мы покупали в магазине мисс Джоунс – все таком же тесном и темном. Зато здесь можно было найти все, что душе угодно: от пластырей до яиц, от варенья до липкой бумаги для ловли мух. Сама мисс Джоунс была такой крохотной, что ей приходилось вставать на ящик за прилавком, чтобы обслуживать покупателей.
Я надеялась, что теперь у нас будет так же тихо и уютно, как прежде. Но внезапно до меня дошло, что если раньше мы жили довольно богато – сестра держала пони, у матери было много красивых украшений, а отец ездил на роскошном французском автомобиле «Делаж» (который на время войны пришлось отправить в гараж, поскольку бензин выдавали по карточкам), – то сейчас мы больше напоминали бедняков. Например, до войны у нас была небольшая видеокамера – думаю, по тем временам недешевая вещь, – и я помню, как сестру в детстве снимали на зернистую пленку. Фильмов о моем детстве уже не было. Могу только догадываться, что видеокамера была продана, чтобы оплатить срочный ремонт или долги.
После тяжелой второй беременности – а мы с Рози появились на свет в результате кесарева сечения – доктор категорически запретил маме рожать. В те времена контрацепции еще не существовало, так что отец просто удалился из супружеской спальни. Правда, к тому времени родители и так спали на разных кроватях. Мы с сестрой делили одну комнату на двоих, потому что я боялась темноты (и до сих пор боюсь). Однако Рози была уже достаточно взрослой и заслуживала отдельной комнаты, поэтому отец поселился вместе со мной.
Из-за отсутствия сексуальной близости родители стали потихоньку отдаляться друг от друга, но тогда я этого не замечала. Я просто была счастлива, что по вечерам отец в моем полном распоряжении. Перед сном он щекотал мне руку и рассказывал всякие истории, пока я не засыпала. Странно, как мало я помню об отце – за исключением того, что обожала его. С годами он становился все более печальным и замкнутым. Зимой он часами просиживал у небольшого электрического камина в нашей комнате. У него развился ужасный кашель от сигарет без фильтра Player’s Navy Cut – отец курил их одну за другой. Он стал завсегдатаем букмекерской конторы и спускал большие деньги на скачках. Проигрывая, он закладывал ювелирные украшения, которые когда-то дарил моей матери, надеясь потом сорвать куш и выкупить их.
Однажды в начале осени – мне тогда было одиннадцать лет – я зашла в ванную комнату и нашла отца на полу в полубессознательном состоянии. Я бросилась к маме, и его увезли в больницу. Папе делали анализ за анализом, но через четыре месяца – в канун Нового, 1953 года – он умер от рака легких.
Когда он вышел из больницы после первого приступа, то сказал, что врачи сами не знают, в чем дело. Думаю, они просто скрывали от него правду. Я не сомневалась, что мама знает о его болезни. Мы с ней поменялись комнатами, чтобы она могла ухаживать за папой. С каждым днем он становился все слабее, худел и уже едва мог говорить. Мама понемногу поила его виски, которое придавало ему сил. В последние недели она наконец сказала мне, что отец безнадежен.
Тетя Мэй, которая жила у нас какое-то время, пришла сказать нам с Рози, что отец умер. Рози бросилась в свою спальню, а я застыла в коридоре. Мама стояла у постели отца и плакала. Когда до Рози дошло, что отца больше нет, она начала трясти его, пытаясь вернуть к жизни. Она была в отчаянии и билась в истерике. Я видела, как мама старалась успокоить сестру, а тетя Мэй все пыталась вывести ее за дверь.
Я больше никогда не заходила в ту комнату. Она так и пустовала после смерти отца. Лишь изредка я приближалась к двери и с трудом заставляла себя переступить темный порог – но всякий раз убегала, и мое сердце билось в страхе перед неизвестным.
Я не была на похоронах. Так решила мама: она сказала, что я слишком мала. В тот день я бродила по голым полям и оплакивала отца, еще толком не понимая, что значит смерть, но все равно хотела хоть как-то участвовать в происходящем. Я так и гуляла одна, пока родственники и друзья не вернулись домой на поминальное чаепитие.
Мой отец стал первым, кого похоронили на семейном участке церковного кладбища по соседству с женской католической школой, которую я посещала. Там было достаточно места для него, моей матери, сестры и меня. Но потом умерла тетя и заняла мое место. Оглядываясь назад, могу сказать, что я ничуть не в обиде. В любом случае, я бы предпочла, чтобы меня кремировали.
Моими первыми книгами стали детские комиксы, которые уносили меня в мир веселых приключений. Конечно, у нас были книги, но я редко заглядывала в них, предпочитая традиционные британские еженедельники Beano и Dandy или новый глянцевый журнал Girl, который, разумеется, был куда более девичьим, чем все остальные, и долгое время оставался моим фаворитом – пока я не доросла до модных журналов вроде Vogue.
Когда я была совсем маленькой, сестра читала мне детскую классику – «Винни-Пуха», «Алису в Стране чудес» и многое другое. Спустя годы великая сказка Льюиса Кэрролла вдохновила меня на создание одной из самых любимых фотосессий. Но больше всего мне нравились истории про Орландо, Мармеладного кота. Это была серия красивых книжек с картинками Кэтлин Хейл про Орландо и его жену, кошку Грейс, у которых были трое котят – Пэнси, Бланш и Тинкл. Я лучше воспринимала эти истории визуально, а не на слух.
В основном нашими постояльцами были семьи, которые приезжали из года в год. А еще был мистер Ведж. Я дала ему прозвище Креветка, потому что он любил брать меня с собой на ловлю креветок. Он постоянно останавливался в отеле, был очень добропорядочным человеком, курил трубку и напоминал банкира. Помню его закатанные до колен брюки и жилетку, в которых он ходил на рыбалку. Он был намного старше меня – возможно, ему было лет сорок или больше. Мне же тогда едва исполнилось тринадцать, и, конечно, мне он казался древним, как Санта-Клаус. Однажды он пришел и признался маме в том, что безумно влюблен в меня, сказал, что готов ждать, пока я вырасту, чтобы на мне жениться. Мама была в ужасе. Она рвала и метала, а потом попросту выставила его вон.
У нас так и не появился телевизор, но раз в год, когда мы гостили у родственников в Чешире, нам разрешали кататься на их пони и смотреть ТВ. И все-таки больше всего меня завораживало кино. Раз в неделю мне, уже подростку, было позволено посещать утренние сеансы в местном кинотеатре. Каждую субботу, застелив кровати, перемыв посуду и покончив с другими обязанностями по дому, я отправлялась в путь. Сперва я целую милю шла вдоль берега, сторонясь холодных морских брызг, а потом ехала на автобусе в Холихед, мимо пустырей с заброшенными автостоянками.
Кинотеатр был старым – типичный захолустный зал с потертыми плюшевыми сиденьями и девушкой, которая продавала мороженое в перерывах между сеансами. Просто представьте кинотеатр из фильма «Последний киносеанс», только еще более убогий. Я садилась на диванчик в заднем ряду, где по вечерам обычно обнимались парочки, и там, в темноте, погружалась в сказочный мир кино.
Помнится, я сходила с ума по Монтгомери Клифту и Джеймсу Дину. Мне нравились все мальчики с мягким печальным взглядом, одинокие и несчастные. Любила я и лошадей – особенно в фильмах «Национальный бархат» с Элизабет Тейлор и «Черный красавец», который был ужасно грустным, хотя и не таким, как «Бэмби». Этот фильм я смотрела, просто обливаясь слезами. «Дуэль под солнцем» – трагическая история любви – тоже была в числе моих любимых. Я обожала Грегори Пека – его голос был таким теплым и уверенным! Иногда я воображала, что выхожу за него замуж – не на самом деле, конечно, а просто становлюсь загадочной «девушкой его мечты».
Еще я была очарована «Красными башмачками» с Мойрой Ширер и Робертом Хелпманом. Это был самый первый в моей жизни фильм. Какая красота! Эта рыжая грива! Красные балетные туфли! Несколько лет спустя я пересмотрела его и подумала: «Надо же, а в этом фильме есть и темная сторона». Но когда я впервые смотрела его с мамой, мне было двенадцать, и я замечала только романтику балета.
Одри Хепберн была так элегантна и очаровательна в облегающих брюках и маленьких туфельках! Когда я смотрела романтическую комедию «Сабрина», то легко представляла себя на том дереве: дочка шофера, призывно разглядывающая симпатичных ребят, была невероятно похожа на меня, когда я шпионила за старшей сестрой и ее приятелями-красавчиками. Я обожала Одри – и не только ее роли в кино. Меня восхищали ее фотографии в журнале Picture Post. На них она со счастливой улыбкой каталась на велосипеде или готовила на кухне в своей крохотной квартире. Все, что ее окружало, было чистым и сияющим. И я стремилась жить точно так же.
Дома я пыталась мастерить костюмы, похожие на мудреные наряды актрис, которых видела на большом экране. Еще подростком я сама шила большую часть своего гардероба, даже костюмы и пальто, на швейной машинке «Зингер» с ножной педалью. Все, что для этого требовалось, – терпение, много терпения. Я копировала модели из Vogue, а ткани покупала в Polykof, большом универмаге в Холихеде. Я никогда не создавала ничего экстравагантного. Мать не позволила бы мне выйти за рамки консервативной моды. Все, что я не могла сшить, она для меня вязала. На фотографиях из семейного альбома ее редко можно увидеть без спиц в руках. Мама таскала с собой вязание повсюду, днем и ночью. Эти вязаные вещи были моим личным несчастьем, потому что быстро теряли форму – особенно купальники, которые просто превращались в мокрые тряпки.
Vogue появился в моей жизни, еще когда я была ребенком. Я частенько просматривала его после того, как прочтет сестра – так что в каком-то смысле именно Розмари приобщила меня к миру моды. Когда я подросла, то стала специально ездить за журналом в Холихед. Он поступал с большим опозданием, в конце месяца, и всего в одном или двух экземплярах. Наверное, точно так же можно было купить и Harper’s Bazaar, но для меня всегда существовал только Vogue. Фантазии, которым я предавалась, разглядывая красивую одежду, уносили меня в другой мир.
Листая журнал, я неизменно восхищалась новыми стилями. Дамские наряды пятидесятых казались мне более мягкими и красивыми по сравнению с теми, что я видела на киноэкране. Но больше всего меня привлекали сами фотографии – особенно те, что были сняты на природе. Благодаря им я путешествовала по экзотическим местам, где можно было носить такие вещи. Наряды аprs-ski[7] – на фоне заснеженных деревьев! Пляжные балахоны – на залитых солнцем коралловых островах!
Особенно мне запомнились фотографии, сделанные Норманом Паркинсоном. Он был тогда одним из немногих фэшн-фотографов, которых сегодня можно назвать знаменитостями. Высокий и худой, в элегантном костюме, со старомодными колючими усиками военного, он всегда незримо присутствовал в кадре. Я стала узнавать его работы, потому что в них сквозил добрый юмор и неотразимое обаяние мастера. Паркинсону предстояло сыграть важную роль в моей жизни.
С тринадцати лет я стала проводить еще больше времени с Vogue. Сестра вышла замуж, и я перебралась в ее комнату. Раньше это был только ее мир, мне даже не разрешалось заглядывать сюда без разрешения. Так что первым делом я взялась за ремонт. Сестра выкрасила стены в желтый цвет. Я перекрасила их в розовый. Хотя, возможно, все было наоборот?
Мама никогда не возражала против раннего замужества сестры – той едва исполнилось восемнадцать, – потому что была одержима идеей выдать нас замуж. Мой новоиспеченный зять, Джон Ньювик, преподавал в Бирмингемском университете, был на несколько лет старше Рози, до этого уже состоял в браке и имел двоих детей.
Самое смешное, что после того как сестра покинула дом, мы стали значительно ближе. Теперь я даже чаще с ней виделась. Наши отношения кардинально изменились: когда я была моложе, она командовала мной и нередко срывала на мне плохое настроение. Но к моменту ее замужества я стала и выше, и взрослее, а еще научилась по-своему реагировать на внешние раздражители. Чем сильнее кто-то на меня злился, тем спокойнее я становилась. Этого принципа я придерживаюсь всю свою жизнь.
Le Bon Saveur[8] – так называлась женская католическая школа, где я училась с девяти до семнадцати лет. Управлял ею французский католический орден Холихеда. Школа была небольшой и отчасти привилегированной. К тому же это была единственная частная школа в округе. Там были красивые деревянные полы, высокие потолки, теннисные корты и прекрасный парк с лужайками и ухоженными садами. Помимо традиционных уроков и игр, нас обучали балету, рукоделию и всему, что только могло пригодиться приличной девушке после замужества.
Рози, которая не только училась, но и некоторое время жила в этой школе до меня, жаловалась, что у нее все ноги в синяках от стояния на коленях в часовне. К счастью, родители объяснили руководству школы, что мы вполне довольны англиканской церковью и не собираемся переходить в католичество, и мне не пришлось повторять религиозные подвиги сестры.
В школе было примерно шестьдесят учениц. Я впервые оказалась в такой толпе и поначалу испытывала сильное беспокойство. Меня тошнило и становилось не по себе, когда вокруг было так много новых людей, и хотя с возрастом стало легче, полностью избавиться от этого недуга мне так и не удалось. Я даже не могла спокойно сесть за стол с другими девочками – меня охватывала страшная паника. В какой-то момент мне удалось уговорить маму, чтобы я ездила наланч домой, несмотря на долгий путь – час туда и обратно, – так что времени на еду практически не оставалось. Наконец родители организовали для меня предоплаченные обеды в маленьком городском кафе, где я могла поесть в одиночестве. У меня до сих пор случаются приступы паники, когда предстоит выступление на публике – даже если это такие безобидные мероприятия, как еженедельные совещания с модельерами в редакции Vogue.
Летом я ездила в школу на велосипеде мимо пустынных полей для гольфа и пастбищ с лошадьми, коровами и овцами. На мне была школьная форма – рубашка с коротким рукавом и серые, в складку, шорты до колен. Зимой по утрам я просыпалась в таком холоде, что изо рта шел пар. Мне разрешали пользоваться электрокамином, правда, максимум на десять минут. Так что приходилось одеваться в постели. Я держала под подушкой аккуратно сложенную форму – серый вязаный сарафан, голубую фланелевую рубашку с длинным рукавом и галстуком, серый шерстяной свитер и толстые чулки – и, извиваясь, натягивала все это на себя под одеялом.
Ученики из соседней государственной школы ненавидели нас, монастырских девчонок, и считали снобами. Как нас только не обзывали. «Аристократка», – шипели они в мою сторону, когда я в школьном берете и сером плаще садилась в утренний автобус. Прижимая к груди портфель, я словно пыталась защититься от превосходящих сил противника.
На переменах ученицам полагалось общаться на французском языке. К нашей директрисе, или старшей монахине, мы обращались «ma mre»[9]. Учительницы назывались «madame»[10], потому что все они были замужем за Богом. Думаю, на самом деле мало кто из монахинь были француженками – но все они выглядели стильно даже в строгих черных балахонах и белых головных уборах. У монастыря была широкая плоская крыша, где монахини катались на роликах во время часового перерыва после обеда, и развевающиеся туники делали их похожими на ворон на колесах. Некоторые двигались просто великолепно. Они не задирали ноги, но легко выделывали изящные пируэты.
В школе у меня была близкая подруга Анжела. За пределами класса мы почти не встречались: она жила в двадцати милях от нас, на другом конце острова. Изредка мы совершали авантюрные вылазки на материк, на поезде через подвесной мост Menai Strait до Бангора, в студию бальных танцев, где нам в пару неизменно ставили мальчишек, ростом едва доходивших нам до подбородка. Еще одна моя подруга – Маргарет, или Мэгги, – была самой яркой в классе и главной бунтаркой. Для четырнадцатилетней девочки у нее была просто выдающаяся грудь. По пути домой мы часто болтали на автобусной остановке рядом с местным гаражом. Там работал красавчик-механик. Через некоторое время бунтарка Мэгги забеременела.
Как только эта новость облетела класс, мы пришли в страшное волнение – в школе не было и намека на сексуальное воспитание. Разумеется, ни о чем таком нельзя было спросить ни у родителей, ни у монахинь. Так что мы были в восторге от возможности получить информацию из первых рук. На переменах мы, затаив дыхание, собирались вокруг Мэгги и настойчиво расспрашивали: «И что ты делала?», «А он что потом сделал?», «Ну, и какие ощущения?»
Мне было пятнадцать лет, когда я впервые влюбилась без памяти. Его звали Ян Сиксмит, и он был средним сыном в семье, которая останавливалась у нас каждое лето. Ян был стройным, красивым юношей с блестящими темными волосами, зачесанными назад. Его младший брат учился в подготовительной школе рядом с отелем.
В нашей семье было не принято собираться вместе, чтобы поговорить о любви, жизни или сексе – как и о многом другом. Нежность была у нас не в почете. Я даже не припомню, чтобы обнимала или целовала маму – разве что чмокала в щеку. Впрочем, я не находила это странным: мне казалось, что так ведут себя во всех семьях.
Наш с Яном первый поцелуй состоялся на пороге гостиницы. Я молилась, чтобы мама ничего не заметила. Перед этим сестра посоветовала мне «подкрасить губы, чтобы стать более привлекательной». Так я и сделала. Но близости у нас с Яном никогда не было. В те времена девушки – если не считать безнадежных случаев вроде Мэгги – не спали с парнями до брака. Внезапно Яну пришлось уехать. Он был призван в Военно-воздушные силы Великобритании, и его отправляли на Кипр. Я поехала на вокзал проводить его. Наше прощание напоминало сцену из фильма восьмидесятых «Янки» с Ричардом Гиром в главной роли. Я, в платье из набивного ситца (скорее всего, сшитом собственноручно), махала ему вслед – он был так красив в военной форме! – а паровоз надрывался прощальным гудком, выпуская облака пара. Мое сердце было разбито. Мы писали друг другу каждую неделю. Но прошло время, я снова в кого-то влюбилась, и наша связь оборвалась. Любить на расстоянии у меня не получилось.
В десяти милях от нашего отеля располагалась база Королевских ВВС с девизом In Adversis Perfugium («Убежище в несчастье»), где базировался авиационный полк военно-морских сил (в нем, кстати, служил внук королевы, принц Уильям). Здесь мальчишки семнадцати-восемнадцати лет, ненамного старше меня, учились управлять потрепанными тренировочными самолетами, оттачивали мастерство полетов вслепую, а также взлет и посадку на авианосец, стоявший на якоре близ берега. Случалось, что эти страшные подвиги заканчивались трагедиями.
Летом по субботам молодые пилоты приходили в регби-клуб «Треарддур Бей» играть против нашей местной команды. Мне уже было пятнадцать лет, и я помогала в клубе – готовила чай для регбистов. С ног до головы заляпанные грязью, они выглядели настоящими героями.
Почти у каждого из них был спортивный автомобиль, и в свободное от службы время они гоняли по окрестностям на дикой скорости. У Боба Холидея, моего тогдашнего бойфренда-пилота, был «Остин-Хили» с откидным верхом, и он выжимал на нем под сто миль в час, чудом вписываясь в повороты. Боб был высоким симпатичным блондином и вечно скандалил с командирами. Он носил волосы длиннее, чем полагалось, и это обернулось для него большими неприятностями, когда кто-то из начальства заметил торчавшие из-под летного шлема вихры. Со временем у него появились серьезные намерения в отношении меня, мы чуть было не обручились. Затем Боба перевели в Девон. Его лучший друг, Джереми, однажды повез меня навестить его. У Джереми был веселый нрав, раритетный MG[11], его родители жили в симпатичном имении в Кенсингтоне, и с ним было нескучно. На полпути мы поняли, что очарованы друг другом. И тогда с Бобом было покончено.
К моменту моего восемнадцатилетия я уже знала, что мне придется покинуть этот крошечный валлийский остров. Хотя у меня и не было никаких особых планов на жизнь, оставаться в Англси не имело смысла. Здесь меня ожидала работа либо на часовой фабрике, либо в закусочной.
Еще когда я была подростком, все отмечали мой высокий рост и прочили мне модельное будущее (вероятно, потому что валлийки в большинстве своем невысокие). Школьная подруга Анжела всегда подбадривала меня, уговаривая: «Поехали в Лондон. Ты поступишь в школу моделей, я устроюсь секретарем, а там посмотрим, что получится». Так что, прежде чем покинуть родной дом, я вырезала и отправила по почте купон из Vogue. Это была крохотная заметка, один абзац на последней странице журнала, который всего за двадцать пять гиней обещал увлекательный двухнедельный курс в модельной школе Черри Маршалл в Мейфэре.
Модельный бизнес казался мне способом попасть в мир богатства и безудержного веселья, путешествовать по новым местам и знакомиться с интересными людьми. По крайней мере, рассуждала я, он сможет обеспечить мне насыщенную светскую жизнь, респектабельный дом и замужество – все, о чем мечтала мама. К тому же я обожала разглядывать красивые вещи на красивых фотографиях и мечтала быть частью этой красоты.
О карьере фотомодели
Глава II,
в которой наша героиня покидает родной дом, находит работу, заново учится ходить, бегает по лесам нагишом и откывает для себя секс
Вернувшись с Парижской недели моды в редакцию американского Vogue в Нью-Йорке, я оказываюсь под завалами бумажной работы. Поскольку я категорически отказываюсь весь день смотреть на экран компьютера, на моем столе высится сугроб из распечатанных электронных писем. Бюджетные сметы предстоящих съемок с их постоянно растущими расходами ждут, пока я распоряжусь их уменьшить. Лоток забит портфолио претенденток, которых сегодня рекламируют не иначе как «новую Дарью[12]», «Кейт» или «Наоми» и никогда – как девушек с ярко выраженной индивидуальностью. Здесь же – настойчивые призывы срочно написать предисловие к фотоальбому и придумать дизайн сумки с рисунками моих кошек, поскольку Баленсиага сгорает от нетерпения.
Недельная нервотрепка в парижских пробках, просмотр более чем трех десятков коллекций прет-а-порте, затем марш-бросок на юг Франции, на короткую съемку с моей любимицей, моделью Натальей Водяновой, и актером Майклом Фассбендером (до сих пор краснею, вспоминая его в фильме «Стыд»), где я застреваю в лифте отеля и теряю в аэропорту багаж… Я без сил. Между тем, от меня ждут, что я сейчас же займусь оформлением витрин Prada к ежегодной выставке Института костюма в Музее Метрополитен и перелопачу горы крупных планов Киры Найтли в новой экранизации «Анны Карениной» Толстого, поскольку она, возможно, украсит обложку нашего октябрьского номера.
Одновременно я должна найти день, который устроит и Леди Гагу, и фотографов Мерта и Маркуса, чтобы они могли провести фотосессию для обложки нашего главного, сентябрьского номера. В этом году – и это важно вдвойне – он посвящен 120-летию Vogue и выйдет более чем на 900 страницах.
«Многозадачность» – кажется, так это называют. В любом случае, все это далеко от той беззаботной карьеры модели, которую я воображала себе подростком, оценивая фотографии девушек из Vogue на фоне сельских изгородей и с мечтательными взглядами, устремленными на коров. И еще дальше – от того мира, который я открыла для себя, перебравшись из родного дома на новые пастбища более полувека тому назад.
В начале 1959 года я села на поезд и приехала в Лондон. Весь мой нехитрый скарб умещался в красивом новеньком чемодане из голубого пластика. Столица, дышащая историей, уже готовилась превратиться в мегаполис – каким она и является сегодня. Район Ноттинг-Хилл, куда лежал мой путь, был прочно оккупировали чернокожими гостями, которые недавно перебрались в Лондон из заморских британских владений – из Тринидада и с других Карибских островов. Высокие, элегантные викторианские особняки, каждый со своим впечатляющим входом и крыльцом, безжалостно разделили на клетушки, которые по бешеным ценам сдавали в аренду большим иммигрантским семьям и нищим студентам. В воздухе витало напряжение.
Мы с Анжелой сняли студию в одном из таких переоборудованных домов в Палас-Гарденс-Террас. У нас была большая комната на втором этаже, с двумя узкими кроватями, открытым камином и умывальником. Из техники была газовая плита со счетчиком и электрическая конфорка для варки яиц или подогрева несложных блюд вроде вареных бобов. На стене в коридоре висел телефон общего пользования. Арендная плата составляла четыре фунта в неделю на двоих. Последний автобус до дома уходил в десять тридцать, и если я проводила вечер в городе или задерживалась на работе допоздна, всегда страшно нервничала по этому поводу. Примерно в то же время происходили пресловутые расовые беспорядки в Ноттинг-Хилл, когда банды «черных» и «белых» устраивали друг на друга засады, вооружившись бритвами и бутылками с зажигательной смесью.
Я стала работать официанткой в Stockpot на Бэзил-стрит в Найтсбридже, буквально в двух шагах от знаменитого универмага Harrods. Моя подруга Панчитта – актриса, которая подрабатывала в Stockpot, – договорилась с его владельцем Тони о собеседовании для меня. Это было бистро в традиционном европейском стиле, с толстыми оплавленными свечами в пузатых бутылках из-под кьянти, оплетенных соломкой, и красно-белыми клетчатыми скатертями. Разве что столы были из лакированной сосны, а вместо стульев – скамейки. Здесь успели поработать все симпатичные девушки Лондона – скромные юные леди из респектабельных семейств английской провинции, помешанные на тряпках модницы, капризные начинающие актрисы с ульями на голове и бледно-розовой помадой на губах – каждая по-своему очаровательная и выбранная лично Тони, который считал себя подарком для женщин.
У официанток не было формы – мы просто надевали фартук в сине-белую полоску поверх повседневной одежды. Stockpot был неформальным и недорогим заведением. Вплотную к кассе примыкал прилавок с плитой, на которой готовили омлеты по вкусу посетителей – с экзотическими добавками в виде итальянского сыра, помидоров и ветчины. Это был так называемый омлет-бар. Порой меня ставили туда работать, но я всегда шла неохотно, потому что мои кулинарные способности оставляли желать лучшего. Да что там, я до сих пор так и не научилась готовить омлет.
Девушки со скромным достатком, но мечтой о роскошной жизни и приятелях на красивых иномарках выбивались из сил на этой работе, а получали за нее сущие гроши. Кухней заведовали два повара-киприота с весьма буйным нравом, которые считали нас никуда не годными официантками (что было недалеко от истины). Случалось, разгневанные шефы швыряли в нас разделочными ножами. Несмотря на это, график работы нас устраивал, позволяя будущим моделям и актрисам (кажется, британская старлетка Сюзанна Йорк тоже начинала здесь) посещать кастинги и кинопробы.
В перерывах между сменами в Stockpot мы встречались в знаменитом универмаге Fortnum & Mason на Пикадилли, который гордился своим почетным статусом официального поставщика Ее Величества. Там мы потягивали послеобеденный чай и наблюдали за показом мод, который проходил рядом. Это было наше любимое зрелище. Меня поражало, как двигались модели – с кошачьей грацией, чуть выгибаясь назад; как они замирали на мгновение, поворачивались, а затем шли обратно, изящно лавируя между столиками и элегантно сжимая в руках перчатки.
Вскоре я сама стала завсегдатаем на вечерних занятиях в модельной школе Черри Маршалл на Гросвенор-стрит. По соседству, на «Уголке ораторов» возле триумфальной арки Марбл-Арч, шли бесконечные митинги под лозунгом «Запретить бомбу», организованные борцами за ядерное разоружение – серьезными, в роговых очках и дафлкотах[13]. А на другом конце улицы леди Докер, самая богатая женщина на земле, колесила по Баркли-сквер на своем золотом «Роллс-Ройсе», салон которого был отделан норкой.
Всего за пару недель меня должны были научить наносить макияж, укладывать волосы, красиво ходить на шпильках. В те времена это называлось правильной осанкой, хотя я не припомню, чтобы мы таскали на голове стопки книг или что-то вроде этого. Еще нас учили делать реверанс, что было полезно для начинающих актрис, но совсем не обязательно для остальных. Наконец, мы учились ходить по подиуму, делать тройной разворот, правильно расстегивать пуговицы и скидывать пальто с плеч – и все это не прерывая скольжения и улыбаясь, улыбаясь, улыбаясь… Честно говоря, у меня это не очень хорошо получалось. Координация движений всегда была моей проблемой. Однако, как ни странно, по истечении двух недель меня все-таки включили в каталоги модельных агентств.
В отличие от нынешних дней, когда над образом работают десятки специалистов, модель времен моей молодости сама подводила глаза карандашом, выщипывала брови, красила губы. Ей приходилось самой укладывать волосы, зачесывая их назад и убирая в аккуратный шиньон, или же подкручивать кончики вверх, в стиле «флик-ап», как это было модно. Визажистов и парикмахеров, которые специализировались на фотосъемке, просто не существовало. Каждая модель должна была иметь собственный модельный саквояж, и то, что она в него клала, было архиважно. Такой профессии, как стилист, еще не придумали, так что, чем богаче были аксессуары, тем больше было шансов получить работу – поэтому приходилось таскать с собой все имеющееся в наличии.
Моя сумка была огромной – наверное, с чемодан на колесиках вроде тех, что сегодня люди волочат за собой в самолет. Только вот мой саквояж был без колес, а таскать мне его приходилось повсюду. В сумке чего только не было: грим, парики и локоны, заколки и лак для волос, перчатки разной длины, тонкие чулки телесного и черного цвета, булавки, набор для шитья, накладные ресницы и ногти, лак для ногтей, телефонный справочник Лондона, большой пузырек аспирина, мелочь для телефона, книга, какое-то вязание или вышивание, чтобы было чем занять себя в долгие часы ожидания, яблоко, бутерброд на случай, если не будет времени на обед; бывало, даже бутылочка дешевого вина, если съемка затягивалась до глубокой ночи… Я носила с собой туфли на шпильке, чаще бежевые или черные (всегда можно судить о достатке модели по качеству ее обуви). Еще у меня была огромная коллекция бижутерии. Помимо этого, я всегда имела в запасе бюстгальтер «пуш-ап», который помогал мне выглядеть чуть более фигуристой, и термобигуди. Модель с таким набором можно было считать суперсовременной и продвинутой – какой я, собственно, и являлась.
Но даже если ты прекрасно экипирована, часто бывает, что влиятельные друзья оказываются гораздо полезнее пудры и помады.
В Stockpot часто захаживал лондонский художник Тинкер Паттерсон. Он был высоким и очень красивым – бледнолицый, веснушчатый, с песочного цвета волосами. Время от времени он подрабатывал моделью, и, хотя у него была подружка, именно с ним у меня завязался первый серьезный роман.
Тинкер пригласил меня провести выходные в его прелестном, увитом розами коттедже в Кенте. Я едва могла сдержать волнение от перспективы выбраться из города на несколько дней. Мы поехали туда в пятницу вечером на его миниатюрном автомобиле «Остин 7» – компактной британской модели 1930-х годов, пережившей вторую молодость в экономные пятидесятые. В салоне было так мало места для ног, что рядом с ним малышка «Мини» кажется просторной. Когда мы приехали, Тинкер приготовил прекрасный ужин при свечах, после которого проводил меня наверх – как я решила, в гостевую комнату.
Я разделась, натянула ночную рубашку и откинула одеяло. На подушке, как в наше время мятные шоколадки в бутик-отелях, лежал пакетик с презервативом. «Интересно, что это?» – удивилась я. Мне даже не пришло в голову, что это может быть. Спустя какое-то время, к моему удивлению, в спальню зашел Тинкер с дымящейся чашкой какао. В полосатой хлопковой пижаме он был просто неотразим. Но по его виду нельзя было предположить, что он собирается читать мне книжку на ночь.
Тинкер регулярно сотрудничал с фэшн-фотографом Норманом Паркинсоном, чьи снимки я затерла до дыр еще в Уэльсе, и попросил Паркса, как он его называл, посмотреть меня. Так что я надела свой самый красивый костюм-«двойку» от Kiki Byrne с укороченным жакетом и гофрированной юбкой, которой еще придала дополнительный объем хрустящей нижней юбкой (у меня был свой секрет: чтобы юбка была жестче, я замачивала ее в воде с сахаром), и помчалась в студию в Глиб-Плейс в Челси. Едва переступив порог, я спросила, хочет ли он взглянуть на мое портфолио (в агентстве мне сказали, что это обязательно). Он ответил: «Нет, я не хочу смотреть, как вас снимали другие. Меня интересует только то, как вас вижу я». А потом добавил: «У меня есть подработка на эти выходные, на моей ферме в Писхилле. Это фотография ню, если вы не возражаете».
Из всего, что он сказал, я услышала только слово «фотография». Не помню почему, но мне просто не пришло в голову, что я должна буду раздеться. Уже потом я всерьез задумалась, насколько это правильно и прилично. Не то чтобы я стеснялась своего тела (хотя теперь я понимаю, что Тинкер наверняка расхвалил его Паркинсону) – просто меня мучил вопрос, как бы к этому отнеслась моя мама. Впрочем, Парксу я тогда сказала лишь: «Хорошо», и мы отправились в путь, чтобы фотографировать меня бегающей по лесу нагишом. Он показал мне, что я должна делать. «Вот чего я хочу!» – воскликнул он, и его усы дернулись, когда он воспарил в воздух, выпрыгивая из-за дерева, – высокий, аристократически осанистый, в одной из своих любимых эфиопских шапочек на голове, которые он носил на удачу. Вот так все и случилось. Думаю, это была съемка для художественного каталога моды в духе «Листья осенних коллекций». Как бы там ни было, я чудесно провела время. Это был мой первый опыт работы фотомоделью. А потом мы пошли домой пить чай.
В 1959 году британский Vogue объявил конкурс моделей. На рекламном объявлении красовалась юная Нена фон Шлебрюгге (позже ставшая матерью Умы Турман) и многообещающий призыв: «Ты можешь оказаться на ее месте». Помню, кто-то из девчонок в Stockpot сказал мне: «Почему бы тебе не попробовать?» Я так и сделала. Претендентки состязались в четырех категориях: «Миссис Эксетер» для более зрелых моделей, две категории для двадцатилетних и тридцатилетних и юниорская «Свежая идея». Незадолго до этого Черри Маршалл отправляла меня в студию позировать для модельной открытки, поэтому у меня на руках уже была фотография, на которой я стояла с косичками, в объемном свитере и соломенной шляпке. Эту картинку я и отправила на конкурс. Через несколько месяцев пришло письмо из Vogue, в котором сообщалось, что я в списке финалисток, а потому приглашена на официальное чаепитие в Vogue House, где встретятся все участницы.
Я побежала на Ганновер-сквер, чертовски взволнованная, потому что, как уже говорила, нервничаю по любому поводу. В зале приемов стоял длинный стол, накрытый для чаепития, с гигантскими чайниками и стопками аккуратных треугольных сэндвичей с огурцом. Присутствовали финалистки, редакторы и фотографы Vogue, в том числе Норман Паркинсон и американец Дон Ханиман, который за пару недель до этого нанимал меня на первую в моей жизни серьезную работу. На той фотографии, сделанной с участием группы девушек, облепивших капот раритетного автомобиля, я, к счастью, позировала уже одетой.
Чуть позже были объявлены имена победительниц. Я выиграла в номинации «Свежая идея». Одним из призов была фотосессия с ведущими фотографами Vogue. Помимо прочего, нам разрешили после съемок оставить себе любой предмет одежды. Меня фотографировали дважды: первый раз я позировала в очаровательном коктейльном платье, а второй – рыбачила в резиновых болотных сапогах. Но мне почему-то не перепало ни того, ни другого.
И вдруг на меня посыпались заказы. Это был успех. Действительно, «звездный час Золушки». Мама была на седьмом небе от счастья. В то время у меня не получалось часто ее навещать, но, когда я все-таки приехала, она с гордостью показала мне мои фотографии, вырезанные из разных журналов. Среди них попадались снимки и других, внешне похожих на меня девушек. «Это не я», – говорила я матери. «Ну и что, – отвечала она. – Зато какая хорошая фотография, мне все равно нравится». И засовывала ее обратно в альбом.
Редакционная ставка в журналах и газетах составляла два фунта в день, а за съемки в рекламе платили пять фунтов (хотя, надо сказать, рекламных предложений было не так уж много). Поскольку часто нам платили за почасовую работу, мы должны были приходить полностью готовыми к съемке, чтобы не тратить время на переодевание и макияж. Забавно, но я совсем недавно освоила искусство профессионального макияжа у Черри Маршалл, а меня уже заказал для съемки в Vogue сам Фрэнк Хорват. Этот всемирно известный фотограф предпочитал почти полное отсутствие макияжа на своих моделях. На первом уроке в модельной школе нас призывали «быть готовыми к любым неожиданностям». Это подтвердилось, когда меня пригласил другой фотограф, Сол Лейтер. Он был знаменит тем, что фотографировал длинным объективом, и его «коньком» были фэшн-фотографии в стиле репортажа с городских улиц. Меня нарядили в студии Vogue и сказали, чтобы я выходила на соседнюю Ганновер-сквер, где меня должен был ждать Лейтер. Нарезав несколько кругов по площади, я вернулась в раздевалку, расстроенная и обескураженная тем, что умудрилась прозевать фотографа, и тут мне сообщили, что мистер Лейтер очень доволен сделанными снимками.
Моими современницами были Бронвен Пью, Сандра Пол, классическая английская красавица, которая вышла замуж за политика, и Энид Боултинг, чья дочь, Ингрид, тоже стала известной моделью и женой композитора Джона Барри, написавшего музыку к «бондиане». В фильме о Джеймсе Бонде сыграла небольшую роль (правда, трагическую) Таня Малле, которая, как и многие другие девушки-модели, благополучно вышла замуж за лорда. В то время вообще был бум на такие браки, в духе популярного сериала «Вверх и вниз по лестнице». Думаю, поэтому мама не стала возражать, чтобы я училась в модельной школе. Только вот охота аристократов на моделей продолжалась недолго. «Дело Профьюмо», потрясшее Великобританию в 1961 году, оказалось грязным сексуальным скандалом, в котором были замешаны министры, аристократы, советские шпионы и две девушки по вызову – Кристин Килер и Мэнди Райс-Дэвис. В прессе их завуалировано назвали «моделями», что больно ударило по нашей профессии, поскольку для британской публики «модель» стала практически синонимом «проститутки».
Правительство еще не пришло в себя после «дела Профьюмо», как стулья под министрами затрещали под натиском молодежного бунта. Социальные барьеры рухнули; стало модным встречаться с нахальными парнями из Ист-Энда, а не с джентльменами из частных школ. Привилегии, титулы, деньги – это уже было не актуально, хотя обернулось благом для тех же мальчиков из Ист-Энда, которых я видела разъезжающими по городу на «Роллс-Ройсах» и «Бентли».
Все перевернулось с ног на голову. Мальчишки из рабочего класса оказались гораздо круче и веселее. Они стали нравиться женщинам. Я подружилась с фотографом Теренсом Донованом и его приятелями, Брайаном Даффи и Дэвидом Бэйли – вожаком этой троицы, – которые, безусловно, были самыми заметными фигурами в мире кокни.
У Донована была небольшая фотостудия в Найтсбридже напротив паба Bunch of Grapes («Виноградная гроздь»), и, когда я впервые пришла к нему на кастинг со своим портфолио, он сказал, что только что женился. Я удивленно спросила: «Тогда почему ты сидишь здесь, в студии?» – на что он ответил: «Мне по-прежнему нравится фотографировать хорошеньких девушек». Я обожала Терри. Он был веселым и взбалмошным, нагловато-развязным и в то же время очень мудрым. Уже став национальной знаменитостью, он заматерел, возмужал, всерьез занялся дзюдо. Он оставался моим близким другом до последнего дня своей жизни. На его похоронах Бэйли выступил с трогательной речью. В какой-то момент он сказал: «Всех нас, ребят из рабочих кварталов, объединяла любовь к девушке-аристократке», при этом повернулся и посмотрел прямо на принцессу Диану, которая была лучшей подругой вдовы Донована – неподражаемой ДиДи.
Я была немного влюблена и в Бэйли. Он как раз расстался со своей подружкой, известной моделью Джин Шримптон. Но у него был целый гарем красивых девушек, и он слыл весьма неразборчивым в связях. Про него так и говорили: «Дэвид Бэйли спит в бордЭЙле», и это служило нам предостережением. И все же он был таким стильно худощавым и, несомненно, привлекательным – даже симпатичнее, чем «битлы».
Вскоре агентство отправило меня в Париж для знакомства с Эйлин Форд, американской патронессой модельного бизнеса. Она приехала во Францию подписывать контракты с агентствами с целью расширить империю Фордов по всей Европе. Лучшие из лучших моделей были направлены на встречу с этой миниатюрной, но влиятельной и властной женщиной. Меня сопровождал мой агент.
Здесь я еще с природной формой бровей – победительница конкурса моделей британского Vogue. Фото: Норман Паркинсон, 1959. Из архива Нормана Паркинсона © Norman Parkinson Limited. Из архива Vogue © The Cond Nast Publications Ltd.
Ранняя работа для британского Vogue. Фото: Фрэнк Хорват, 1960. Из архива Vogue © The Cond Nast Publications Ltd.
С ребятами из «кружка Челси» в британском Vogue. Фото: Фрэнк Хорват, 1960.
С головы до ног «от-кутюр». Съемка для британского Harper’s Bazaar. Фото: Ричард Дормер, 1962. Из архива Harper’s Bazaar, Великобритания.
На обложке британского Harper’s Bazaar. Фото: Ричард Дормер, 1962. Из архива Harper’s Bazaar, Великобритания.
Моя первая обложка в британском Vogue. Фото: Питер Карапетян, 1962. Из архива Vogue © The Cond Nast Publications Ltd.
Изображаю модную мамочку для британского Vogue. Фото: Фрэнсис МакЛафлин-Гилл, 1962. Из архива Vogue © The Cond Nast Publications Ltd.
В образе аристократки для британского Vogue. Фото: Хельмут Ньютон, 1964. Из архива Vogue © The Cond Nast Publications Ltd.
В парижском хаммаме для журнала Mademoiselle, с новой стрижкой от Видала Сассуна. Фото: Марк Испар, 1965.
Подмигиваю на обложке тысячного выпуска французского Elle. Фото: Фоули Элиа, 1965. Из архива журнала Elle, Франция.
Футуристический образ в журнале Queen. Фото: Марк Испар, 1967.
Когда я вошла в комнату, первое, что она спросила, – почему я не ношу утягивающий пояс и бесшовный бюстгальтер. Потом она сказала, что в любом случае для подиума я не гожусь. Чтобы проверить, как я буду выглядеть на фэшн-фотографиях, она лично подошла ко мне с пинцетом и проредила мне брови (они у меня были тяжеловаты), выгнув их тонкой дугой – только чтобы потом объявить непригодной и в качестве фотомодели. Черт возьми, у меня был рост 175 см, талия 46 см, грудь и бедра 84 см, длинные ноги… И меня любил Vogue. Неужели я была так безнадежна?
В лондонском агентстве по крайней мере признавали, что у меня роскошные волосы. Меня направили к знаменитому парикмахеру 1950-х годов, Тизи-Уизи, который уже успел засветиться в эпизодах нескольких британских фильмов и запомнился всем своими щеголеватыми усиками. Его настоящее имя было Раймонд. Он сказал, что сделает меня неподражаемой. В какой-то степени ему это удалось: он осветлил мои волосы до белизны, по бокам остриг коротко, а сзади оставил длинными, отчего я стала какой-то старомодной и кривобокой. Это было ужасно. С такой стрижкой меня отправили к Сноудону (Энтони Армстронг-Джоунсу, светскому фотографу и жениху принцессы Маргарет), чтобы сделать несколько пробных снимков. После этого Тизи-Уизи снова перекрасил мои волосы – на этот раз в рыжий, в результате чего я стала выглядеть еще хуже, чем раньше. Волосы начали выпадать, и пришлось подстричь их совсем коротко, чтобы избавиться от жуткого цвета. Вырвавшись из лап Тизи-Уизи, я обратилась к Видалу Сассуну на Бонд-стрит, и это было лучшее решение в моей жизни.
Видал был мальчиком из Ист-Энда и воспитывался в сиротском приюте, откуда постоянно сбегал. Он получил образование в кибуце и позже оплачивал услуги специалиста по технике речи, чтобы избавиться от малопонятного акцента кокни. К моменту нашего знакомства он уже преобразился в стильного парикмахера с аккуратной стрижкой, ходил в начищенных туфлях и безупречном костюме а-ля Beatles и недавно открыл собственный салон – модный и вызывающе яркий, с большими зеркальными окнами, чтобы прохожие с улицы видели, как работают с клиентом (что поначалу многих шокировало). Он нанял на работу грубоватых парней, которые после стрижки приглашали клиенток на второй этаж и там пытались их раздеть.
В пятидесятые годы парикмахеры в массе своей были геями. Видал покончил с этим. Он приглашал на работу стильных молодых людей вроде Леонарда и Рафаэля, который был таким наглецом, что уже через минуту после приветствия норовил залезть вам под юбку.
Я была скорее «характером», а не просто хорошенькой моделью и, наверное, именно это ищу сегодня в девушках, которых отбираю для американского Vogue. Проще говоря, я ищу девушек «сизюминкой». В англичанках есть индивидуальность. Я ненавижу глупых блондинок, как и чересчур загорелых моделей спортивного телосложения. Мне нравятся веснушки. Мне нравятся девушки такого типа, как уроженка Манчестера Карен Элсон. Ее изумительно бледное лицо и копна рыжих волос напоминают мне… даже и не знаю кого! Я выбираю моделей, как актеров в кино, потому что им предстоит играть роль. Я не люблю, когда они жалуются, но с радостью помогаю терпеливым и упорным. Я сочувствую им, когда на съемке слишком жарко или слишком холодно. Я всегда проверяю, насколько они устали, чтобы продолжать работу. Некоторые хорошо переносят групповые съемки. У кого-то не клеится, если в кадре присутствует еще одна девушка. Я стараюсь не подвергать их опасности – скажем, когда болван-фотограф пытается заставить модель позировать у края стены высотой в тридцать метров.
Главная трудность сегодня – это выкроить время в жестком расписании моделей нужного мне калибра. Все они имеют крайне выгодные рекламные контракты, которыми связаны по рукам и ногам, и даже магия Vogue не может с ними конкурировать. Некоторые девушки – например, Дарья Вербова – терпеть не могут фэшн-съемки. Но Дарья потрясающе красива, и я прикладываю массу усилий, чтобы застать ее в тот момент, когда она настроена на работу. К сожалению, она обожает парусный спорт, и ее парусник не слишком часто заходит в порты. Русская модель Наталья Водянова и рассеянный взгляд ее серо-голубых глаз – просто мечта. Неудобство в том, что она постоянно рожает детей, хотя я всегда рада видеть их в кадре, когда они достигают определенного возраста.
Линда Евангелиста – фантастическая модель, но после ее знаменитой фразы «Меньше чем за десять тысяч долларов я даже с постели не встану»… Увольте! Она всегда была командиром, воспитывала других девчонок, призывала их не выходить на съемку, если не устраивают условия. Но надо признать, что Линда – особенная, потому что даже сейчас, спустя пятнадцать лет после ее головокружительного взлета, она выглядит потрясающе и привносит в свои работы не только прежний энтузиазм, но и что-то новое.
Я познакомилась с ней еще до того, как Стивен Майзел уговорил ее коротко остричь волосы – после чего ее карьера резко пошла в гору – и перекраситься в блондинку или рыжую. Тогда она была очередной длинноволосой канадской брюнеткой и работала с французским фотографом Алексом Шатленом. Как-то вечером мы все вместе отправились на ужин, и я взяла с собой своего племянника Тристана – в ту пору шестнадцатилетнего школьника. Он был так очарован Линдой, что они с Алексом принялись кадрить ее задолго до конца ужина.
Наоми Кэмпбелл – красивая загадка, иногда несносная, но все равно уникальная. На момент нашего знакомства ей было четырнадцать лет. Я привезла ее из Англии в Америку поработать с фотографом Артуром Элгортом на съемках с танцевальными мотивами, потому что, как говорили, она имела балетное образование. Но Артур, прирожденный балетоман, был разочарован. «Из этой девушки такая же балерина, как из меня астронавт», – сказал он, жалуясь на ее осанку, неправильную походку и сутулые плечи. После этого она попала в руки Стивена Майзела. Остальное уже история.
Еще одна звезда – Кристен Макменами – прославилась как долгожительница модельного бизнеса. Своей спокойной величественностью она напоминает моделей пятидесятых, но перед камерой всегда умудряется выглядеть современной. Кристи Тарлингтон была и остается неземной красавицей, в каком ракурсе ее ни снимай. Пожалуй, она самая красивая модель из всех, кого я когда-либо видела.
В числе моих любимиц – пуэрториканская модель и актриса Талиса Сото; конечно же, Твигги и странноватого вида американка Уоллис Франкен, которая вышла замуж за модного дизайнера восьмидесятых Клода Монтану и умерла загадочной смертью. Модель и «оскароносная» актриса Анжелика Хьюстон, известная своим потрясающим чувством юмора, всегда была нарасхват. А Ума Турман – еще одна четырнадцатилетняя модель, как в свое время Наоми, – запомнилась мне гипнотизирующим взглядом широко расставленных глаз и очень твердым характером.
Кажется, это фотограф Джон Коуэн придумал мне прозвище «Треска». Видите ли, Джин Шримптон была известна как «Креветка»… Я нашла в этом особую прелесть, поскольку в те времена лишь культовые модели вроде Шримптон удостаивались прозвищ – хотя должна сказать, что «Креветка» звучит намного лучше, чем «Треска»[14]. Коуэн делал фэшн-фотографии в стиле репортажа, и его самыми известными работами шестидесятых годов были снимки спортивного вида блондинки, модели и по совместительству его девушки Джилл Кеннингтон, которая выделывала поразительно рискованные пируэты на верхушке айсберга или высокой статуе. Я работала с ним совсем немного, в самом начале карьеры. Он фотографировал меня на автобусной остановке в бикини или укладывал на холодный мраморный прилавок торговца рыбой, создавая сюрреалистический натюрморт.
Я стала появляться во многих британских парикмахерских шоу с участием Видала Сассуна, который быстро приобрел мировую известность как автор абстрактного геометрического стиля в прическе. Теперь я была его постоянной моделью и одной из его муз. Это на моих волосах он придумал особый супермодный тренд, названный «пятиконечной стрижкой».
В те дни мы могли пить и танцевать до рассвета: молодость есть молодость, энергии было столько, что можно было свернуть горы. Возвращаясь домой под утро, я быстро переодевалась, хватала свой модельный саквояж и мчалась на работу. Мой новый бойфренд, Джеймс Гилберт, сотрудник рекламного агентства и авиатор-любитель, брал меня с собой почти каждые выходные. Он летал на хлипких бипланах «Тайгер Мот» с открытой кабиной, и я в летном шлеме и защитных очках устраивалась на пассажирском сиденье впереди пилота. Мы пересекали пролив, а затем приземлялись на другом берегу Ла-Манша, чтобы пообедать во французском городке Берк. Случалось, Джеймс устраивал настоящие воздушные шоу с немыслимыми виражами и петлями, от которых у меня волосы вставали дыбом. Он кричал: «Это же так весело!» – а я вжималась в кресло, уставившись на свое искаженное ужасом лицо, которое отражалось в стекле спидометра. Впрочем, он никогда не делал такого на обратном пути из Франции, опасаясь растрясти желудок. И вот однажды – моя карьера уже стремительно набирала обороты – мы попали в страшную автомобильную аварию.
Были сумерки, шел дождь. Джеймс проскочил на красный свет на Итон-сквер в Белгравии – одном из эксклюзивных жилых районов Лондона и врезался в фургон. Я ударилась лицом в зеркало заднего вида, и мне буквально срезало левое веко. Повезло еще, что нашлись мои ресницы.
Должно быть, меня выбросило из покореженной машины, потому что очнулась я уже на обочине. Из раны на ноге хлестало. Пришлось разрезать мои любимые обтягивающие брюки, чтобы наложить жгут. Меня срочно повезли в отделение экстренной помощи, и я помню, что всю дорогу слышала вой сирены. В больнице мне не разрешили посмотреть в зеркало. Когда Джеймс меня увидел, то чуть не упал в обморок.
Меня отвезли в операционную зашивать раны, и, хотя я все еще была в шоке, у меня хватило сил поболтать с врачом и рассказать ему, что я модель. Услышав это, он снял уже наложенные на веко швы и принялся шить заново, более мелкими и аккуратными стежками. Я была в ужасе. Значит, если я не модель, то не заслуживаю лучшего лечения?
После этого я не работала в течение двух лет. Мои доходы были очень скромными, но мне хватало, потому что я довольно экономна. Друзья проявили подлинное великодушие, все обо мне заботились, и даже мама умудрялась подкидывать немного деньжат. Я работала на подхвате у Джона Коуэна в его фотостудии. Терри Донован был особенно добр ко мне. При малейшей возможности он приглашал меня на съемку, фотографируя сбоку или со спины.
За два года мне сделали пять пластических операций. Я прятала шрамы за огромными солнцезащитными очками – к счастью, благодаря Джеки Кеннеди они тогда были в моде, так что я не выглядела нелепо. Но, возможно, потому что они напоминают мне о том страшном периоде, сейчас я категорически отказываюсь их носить.
Мало-помалу я снова начала работать. Придумала новый макияж для глаз, щедро накладывая черные тени и растушевывая их по всему веку. И всем это нравилось – хотя для меня это был, конечно, камуфляж.
Наконец я приняла участие в нескольких модных показах, отплясывая на подиуме твист для Мэри Куант[15]. К тому времени она как раз открыла новый магазин в Найтсбридже. Он был совсем маленьким, но она все равно устраивала там презентации своих коллекций. Модели нужно было спуститься по очень крутой лестнице, которая вела сразу на подиум длиной всего четыре фута.
Я выступала и в шоу Видала Сассуна, который требовал, чтобы мы трясли головами, словно мокрые щенки, демонстрируя, как его революционная техника позволяет сохранить форму стрижки. Но страховая компания Джеймса к тому времени обанкротилась, и я уже не могла позволить себе оплачивать расходы на врачей.
Все складывалось не совсем так, как я планировала.
О светской жизни
Глава III,
в которой Англия свингует, Франция распевает йе-йе, мини-юбки правят бал, дискотеки беснуются, а поп-арт задает тон в искусстве
Хотя должность креативного директора позволяет мне проводить фэшн-съемки практически в любом уголке земного шара, я редко пользуюсь возможностью вернуться в Лондон с тех пор, как почти тридцать лет назад переехала в Нью-Йорк. Могу припомнить лишь несколько эпизодов, когда я придумывала сюжеты для съемок в декорациях Великобритании. Может, во мне поселилась таинственная неприязнь к британскому прошлому? И в самом деле, теперь я провожу куда больше времени по другую сторону Ла-Манша – Париж неизменно удовлетворяет самые буйные фантазии фотографов.
Впрочем, недавно я несколько раз пересекала океан, чтобы поработать в английской провинции. Это были съемки по мотивам фильма «Брайтонский леденец» и фотосессия в Корнуолле, на которую меня вдохновила лента Стивена Спилберга «Боевой конь». Должна признаться, меня с головой захлестнула ностальгия по этим диким, исполненным романтической красоты ландшафтам. Пожалуй, ничто не сравнится с английскими полями, лесами, садами и цветами, которые создают магический фон для любой фотографии. В мой последний визит я навестила Кингз-роуд в Челси, который в начале шестидесятых годов был для меня и домом, и центром модной вселенной. Прогулявшись от «Края света» до Слоун-сквер, я с ностальгией прошла мимо дома, где мне, начинающей модели, впервые предоставили собственную квартиру; мимо паба, где регулярно зависала наша компания – «кружок Челси»; вспомнила некогда шумные итальянские ресторанчики и кафе-бары, в которых мы подкреплялись во время шопинга. Здесь больше нет того озорного духа: тротуары стали шире, фасады магазинов осовременили – и не сказать, чтобы удачно. Но в маленьких переулках все же сохранились островки с шармом и характером.
В какой-то момент я вдруг заметила, что за нами неотступно следует пара школьников. Суетливые, заметно нервничающие мальчишки старались не отставать от нас, бросали на меня долгие многозначительные взгляды и подталкивали друг друга локтями. Меня это удивило. Я вдруг подумала: мало того что мои пять минут славы после «Сентябрьского номера» докатились до Англии, так теперь я стала интересна еще и подросткам, которым впору играть в футбол или крикет. «Что им нужно, интересно?» – спросила я своего спутника, который подошел к ребятам выяснить, не охотятся ли они за автографом. «Они приняли тебя за Вивьен Вествуд», – ответил он, вернувшись.
Это был мощный удар по моему эго. Подумать только, пятьдесят лет прошло с тех пор, как я переехала из Ноттинг-Хилл, где снимала свое первое жилье, в относительно спокойный Баттерси – прямо напротив Челси, только по другую сторону реки. Вместе с тремя китайскими актрисами я делила квартиру на Принс-Уэльс-Драйв с видом на зеленые лужайки, аттракционы и заросли рододендронов в парке Баттерси. Потом я еще не раз переезжала с место на место, пока окончательно не обосновалась на Роял-авеню в самом центре Челси, что считалось очень крутым.
Я знала практически всех, кто жил в округе. Здесь я чувствовала себя, как в маленькой деревне, обособленной от остального мира. Я знала все злачные места на Кингз-роуд, где постоянно зависали молодые художники, писатели, рекламщики, люди из мира моды и кино, и находила их безумно экзистенциальными. В то время я смотрела уйму фильмов, потому что в них снимались мои друзья. Больше всего мне нравились британские ленты «новой волны»: «Вкус меда», «Такого рода любовь», «В субботу вечером, в воскресенье утром», «Свистни по ветру». Мне даже предлагали роль в одном из них. Английский режиссер Тони Ричардсон, тогда женатый на актрисе Ванессе Редгрейв, однажды подловил меня, когда я шла босиком (я была большой оригиналкой) по Кингз-роуд, и пригласил в свой фильм по пьесе Джона Осборна «Комедиант» с сэром Лоуренсом Оливье в главной роли. Речь шла о сцене вечеринки с участием начинающих актрис, и от меня требовалось свалиться с низкой крыши в розарий, приземлившись на брата Ванессы, актера Корина Редгрейва, и поцеловать его – что я и сделала, хотя в итоге мой эпизод почему-то вырезали.
Каждый раз, заселяясь в новую квартиру, я принималась обустраивать ее по своему вкусу. Перекрашивала стены в сливово-фиолетовый или темно-синий, покупала яркие узорчатые ковры и керамическую испанско-мексиканскую посуду в магазинчике Casa Pupo в Пимлико; в мебельных комиссионках на Нью-Кингз-роуд выискивала популярные предметы обстановки вроде столов из некрашеной сосны и валлийских комодов. Они стали самыми модными атрибутами интерьера, а появившиеся цветные приложения к воскресным газетам рекламировали их как свидетельство безупречного вкуса хозяина. Позже, когда я ездила в зарубежные командировки от редакции журнала, то обязательно заглядывала в местные магазинчики в поисках какой-нибудь оригинальной вещицы. Я всегда из Найроби привозила жестяные блюда, из России возвращалась с красочными сувенирами, а из Китая везла постельное белье. В Шри-Ланке я стала одержима круглыми москитными сетками, которые казались мне нежными и романтичными. Куда бы я ни приезжала, всюду встречала что-то интересное, и мне приходилось покупать новые чемоданы, чтобы дотащить свой скарб до дома.
Богемная публика Челси, мой привычный круг общения, собиралась каждый вечер в Markham Arms, традиционно-шумном старом пабе рядом с Bazaar – бутиком Мэри Куант на Кингз-роуд, с которого и началось мое серьезное увлечение шопингом. Захаживала я и в Kiki Byrne чуть дальше по Кингз-роуд. Эти два магазина стали первыми в Англии бутиками и моими фаворитами. Свежие коллекции, которые менялись каждую неделю, были рассчитаны исключительно на молодежь и не имели ничего общего с одеждой для «молодых взрослых», что продавалась в крупных универмагах и представляла собой модели для зрелых женщин, только перекроенные в расчете на подростков.
Одежда от Мэри Куант пользовалась огромной популярностью. Мэри была продвинутым модельером, ворвавшимся в свингующие шестидесятые со своими ультрасовременными представлениями о моде. Я купила у нее полосатое платье без рукавов с приспущенным ремнем и короткую юбку, которую можно было носить поверх обтягивающего свитера или саму по себе. Она оказалась на удивление универсальной, и меня так и тянуло надеть ее снова. Я дополняла ее остроносыми туфлями с изогнутым каблуком. По мере того как стиль Мэри Куант приобретал известность, юбки поднимались все выше и выше, пока не стали такими короткими, что больше напоминали лоскутки ткани. Тут же возникла проблема, как садиться в двухэтажный автобус. Мало того что теперь все видели твои панталоны, так еще могли мелькнуть края чулок и подвязки. Поэтому Мэри начала выпускать мини-шорты, которые можно было надевать под платья. А вскоре совершила настоящую революцию в моде, подтолкнув промышленность к выпуску колготок.
Кингз-роуд, в шестидесятые ставший эпицентром лондонских стиляг, быстро заполонили уютные итальянские ресторанчики и кофе-бары вроде Sa Tortuga и Fantasie, а также невероятно яркие бутики Top Gear и Countdown. Их совладелицей была Пэт Бут – дерзкая модель-блондинка из Ист-Энда, которая мудро вложила сбережения в развитие бутикового бизнеса на пару с Джеймсом Веджем, своим бойфрендом и талантливым шляпником.
Несмотря на то что в какой-то момент Карнаби-стрит в Вест-Энде, запруженная модными бутиками и подростками на скутерах, бросила вызов превосходству Кингз-роуд, он остался вотчиной аристократов рока, космополитов и патлатых кинозвезд и просуществовал в этом статусе еще лет тридцать.
Мода стала еще более значимой в моей жизни в середине шестидесятых, когда я начала регулярно летать на работу в Париж. К тому времени поврежденный глаз почти восстановился, и я снова могла полноценно трудиться. Я была достаточно известна в британских модельных кругах, мое имя входило в топ-десятку ведущих моделей, но неизбежно фигурировало под номером девять, поскольку меня считали в большей степени авангардной и стильной, нежели красивой. Прозвище «Треска» прочно ко мне приклеилось. «Холодная, как треска, но горячая, как огонь», – гласил заголовок не дожившего до наших дней таблоида The Daily Sketch, который, должна признать, мне нравился. Он представлял меня пылкой и сексуальной, в то время как большинство воспринимало меня с точностью до наоборот.
Я стала появляться на страницах французского Elle, который в ту пору имел репутацию действительно хорошего журнала мод. В Париже я останавливалась либо в дешевом отеле на площади Мадлен, либо в таком же неприглядном France et Choiseul на улице Сент-Оноре, который впоследствии превратился в модный и очень шумный Htel Costes.
Поскольку в Париже я была новенькой, мое французское агентство Paris Planning посылало меня на бесконечные кастинги, где меня ставили в самый конец длинной очереди из болтливых и высокомерных француженок, не снисходивших даже до того, чтобы подсказать мне, который час. И когда я наконец нашла работу – в Elle Studios, где работали сразу несколько фотографов и каждый мог задействовать модель для съемок лишь на пару часов, – девушки исчезали в обеденный перерыв, даже не обмолвившись о том, куда идут. Я оставалась в раздевалке одна, холодная и голодная, гадая, где же они пропадают, пока мои коллеги не возвращались, сытые и отдохнувшие. Как выяснилось, в Elle Studios был кафетерий, только вот мне о нем ничего не сказали. Это напоминало «черный юмор» популярных в то время фильмов Жака Тати о бедах и несчастьях маленького человека, проистекающих из пресловутой французской заносчивости.
Вскоре я открыла для себя Bar des Thtres («Театральный бар») на авеню Монтень, который был излюбленным местом встреч амбициозных моделей и таких же энергичных фотографов. К тому времени я уже могла позволить себе больше, чем просто le sandwich. Мой бюджет вмещал и le hamburger, и бокал божоле нового урожая или vin ordinaire[16]. Между делом мне удалось обзавестись и дьявольски красивым бойфрендом. Альберт Коски был агентом фотографа. Польский еврей с романтической шевелюрой, он носил белые френчи в стиле Мао от Farouche, и его часто принимали за Уоррена Битти. Он был невероятно соблазнительным, и я быстро потеряла голову. Мы стали жить вместе в роскошном доме на улице Дюфренуа, по соседству с авеню Виктора Гюго. У нас даже был свой садик и большой полосатый кот по кличке Титов.
Парижане могут быть несносными. Хотя у нас была горничная, иногда я сама ходила за продуктами – наверное, просто чтобы убедиться, что владельцы магазинов были (и остаются) высокомерными грубиянами, особенно в нашем эксклюзивном Шестнадцатом округе. Если ты не говоришь на безупречном французском, тебя даже не станут слушать, не говоря уже о том, чтобы помочь, – отделаются пренебрежительным «Ба!» или «Па!». Я приучила себя, садясь в такси, передавать водителю листок бумаги с записанным адресом, как в Японии. В ответ на мои жалобы Альберт лишь пожимал плечами и невозмутимо говорил: «Если не можешь освоить французский, даже не пытайся здесь жить».
Два раза в год, в январе и июле, мои фотосессии совпадали с Неделями французской высокой моды и проводились в основном по ночам. Днем коллекции выставляли в салонах кутюрье для показа богатым клиентам, так что для фотографий они были недоступны. Даже во время коротких съемок ранним утром я должна была демонстрировать надлежащее высокомерное отношение к происходящему. Как говорила неподражаемая Диана Вриланд, оракул американской моды: «Чуть больше томности на губах».
Но с появлением на рынке более дешевой одежды массового производства, позже названной «прет-а-порте», модели получили свободу самовыражения. В этих демократичных нарядах мы могли вести себя более раскованно. Одежда «помолодела», в ней появилась легкость, располагающая к движению, и уже можно было не чувствовать себя скованной куклой, как на показах «от-кутюр». Техника макияжа тоже заметно изменилась. Теперь все внимание было приковано к глазам: они должны были стать более выразительными и драматичными, «глазами панды». Тонкая линия по краю верхнего века, которая в пятидесятые годы поднималась в уголке глаза маленькой запятой, стала толще и растушевывалась, загибаясь книзу.
У каждой девушки был свой уникальный стиль в макияже глаз. Моя «фишка» была в том, что я широким мазком прорисовывала складку верхнего века, дополняла его экстравагантными тонкими линиями под нижним веком, создавая эффект кукольных ресниц, а потом рисовала точку во внутреннем углу глаза – сама не знаю почему, но мне казалось, что это выглядит эффектно и актуально. Позже я обнаружила, что мои безумные ресницы называют «твиглетс» и приписывают их юной британской модели Твигги. Все бы ничего, только их придумала я. И, возможно, еще раньше, чем она родилась!
Одежда стала спортивной – сплошь на молниях – и поразительно короткой. Современный модный образ должен был представлять либо девушку с широко открытыми глазами, энергичную, азартную и слегка истеричную, либо, наоборот, плюшевую и пассивную, со сведенными вместе коленями и вывернутыми наружу ступнями, как у тряпичной куклы с плохо пришитыми ногами.
Для меня это было время лихорадочно активной светской жизни, так не похожей на сегодняшний день, когда я предпочитаю покой и редко выхожу на ужин в компании более чем одного человека. Мы с Альбертом никогда не посещали Maxim или другие пафосные заведения на Правом берегу, потому что они уже тогда считались «старомодными» и «нудными». Мы предпочитали Caf de Flore в Сен-Жермене – излюбленное место встречи молодых художников, где дым всегда стоял столбом в прямом и переносном смысле. Перекусить мы ходили через дорогу от Flore в традиционные бистро, например Brasserie Lipp с немецкой мясной кухней. Иногда, в порыве расточительности, меня водили в Caviar Kaspia («Каспийскую икру») на Правом берегу на площади Мадлен, – но икра там была и остается лучшей в Париже, а сам ресторан с тех пор совсем не изменился. Все тот же приглушенный свет, старомодный декор с деревянными панелями, мерцающие канделябры, картины маслом, изображающие катание на русских санях, и, по-моему, почти те же официанты. Единственное отличие в том, что сегодня это место, которое во время модных показов наводняет галдящая гламурная толпа. А прежде здесь царила тихая и удушливо-буржуазная атмосфера – как раз для стареющего французского бизнесмена или политика правого крыла, решившего побаловать свою любовницу.
Еще одним местом паломничества модной тусовки в те времена служил шикарный бар La Coupole в стиле ар-деко, который был открыт в самом сердце Монпарнаса еще в 1920-е годы. Впервые я попала туда с Максом Максвеллом, арт-директором журнала Queen. Мы присоединились к компании, в которой оказался Альберт Коски. Собственно, там мы и познакомились. Я обожала La Coupole. Там я могла удовлетворить свою страсть к любимым crevettes grises[17], которые всегда лежали на видном есте среди гор мидий, устриц и лангустов на искрящемся льду прилавка с fruits de mer[18] при входе. Правую часть бара обычно занимали представители мира моды, и мы с Альбертом обедали здесь с фотографами, которых он представлял. Среди них были Жанлу Сьефф, Марк Испар, Арт Кейн, Джеймс Мур, Рональд Трегер и Жюст Жакен (который позже снял знаменитый фильм «Эммануэль»).